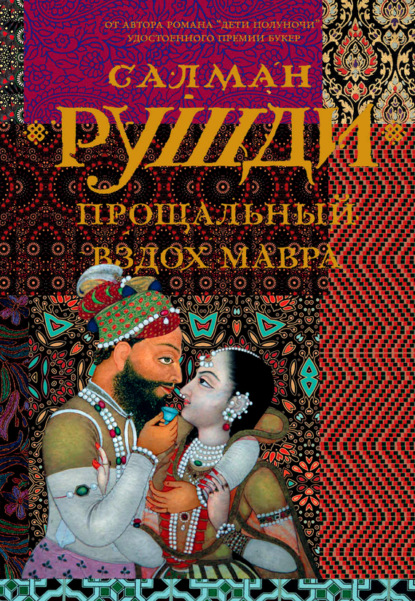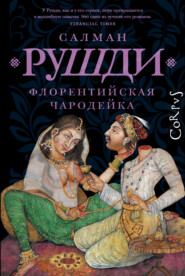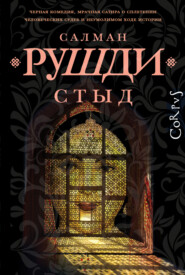По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прощальный вздох мавра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пока юристы прорабатывали предложение о разделе семейного бизнеса, Белла, вернувшись на остров Кабрал, разделила на две части сам величественный старый дом от подвала до чердака; такой же процедуре подверглись постельное белье, столовые приборы и посуда вплоть до последней вилки, плошки и наволочки. Держа на руках годовалую Аурору, она раздавала приказания домашней челяди; шкафы, комоды, пуфы, плетеные кресла с длинными подлокотниками, бамбуковые каркасы для москитных сеток, летние легкие кровати для тех, кто любит в жару спать на открытом воздухе, плевательницы, стульчаки, гамаки, рюмки – все пришло в движение, и даже сидевшие на стенах ящерицы были изловлены и распределены поровну между той и другой половиной. Изучив ветхий план строения и скрупулезно соблюдая справедливость в отношении общей площади и количества окон и балконов, Белла рассекла дом со всей его обстановкой, сады и дворы точно пополам. Вдоль границ были выставлены мешки со специями, а где этого нельзя было сделать – например, на главной лестнице, – она провела белые демаркационные линии и потребовала, чтобы каждый из домашних неукоснительно держался своей территории.
В кухне она поделила все горшки и сковородки, а затем повесила на стену расписание, разбивавшее на части каждый из дней недели. Из слуг она взяла себе ровно половину, и хотя почти все просились под ее начало, постаралась ни на йоту не погрешить против справедливости: горничная к ним – горничная к нам, поваренок туда – поваренок сюда, по эту сторону рубежа.
– Что касается церкви, – заявила она ошарашенным Эпифании и Кармен, когда те, вернувшись, оказались перед fait accompli[19 - Свершившимся фактом (фр.).] – разгороженной вселенной, – и слоновьих зубов вкупе со слоноподобными богами, забирайте это себе. Мы на нашей половине не собираемся ни молиться, ни коллекционировать слонов.
Ни Эпифания, ни Кармен после случившегося не нашли в себе сил противостоять яростному напору Беллы.
– Вы навлекли на семью адское пламя, – сказала она им. – И я больше не желаю смотреть на ваше поганое барахло. Держитесь своих пятидесяти процентов! Разбирайтесь сами со своей прислугой, пропадайте пропадом, продавайте все как есть – мне-то что! У меня теперь одна забота – чтобы наша с Камоиншем половина процветала и богатела.
– Вы явились ниоткуда, – чихая, ответила Эпифания из-за мешков с кардамоном, – и туда же, милочка моя, вернетесь, – но ее слова прозвучали неубедительно, и ни она, ни Кармен не воспротивились, когда Белла заявила, что выгоревшие плантации входят не в ее, а в их пятьдесят процентов; Айриш да Гама, как видно из его письма, махнул на все рукой: “Да катись оно к черту! Располосуйте всю проклятую дребедень, почему нет?”
Итак, Белла да Гама, двадцати одного года, взяла в свои руки управление собственностью посаженного в тюрьму мужа и, несмотря на многие превратности последующих лет, прекрасно с этим справилась. После осуждения Камоинша и Айриша земельные угодья и склады компании “Гама” были помещены под общественную опеку: пока юристы занимались разделом, Пряные горы стали патрулироваться вооруженными сипаями, а в креслах высшего руководства компании засели государственные чиновники. Лишь спустя месяцы уговоров, лести, взяток и флирта Белла смогла получить бизнес обратно. К тому времени многие клиенты, напуганные скандалом, переметнулись к другим фирмам; другие, узнав, что делами теперь заправляет “эта девчонка”, потребовали таких изменений в условиях, что финансы компании, и без того не бог весть какие прочные, затрещали по всем швам. Ей много раз предлагали продать дело за десятую или, в лучшем случае, восьмую часть истинной стоимости. Она ничего не продала. Она стала надевать мужские брюки, белые хлопчатобумажные рубашки и мужнину кремовую шляпу с полями. Она побывала на каждом своем поле, в каждой ореховой роще, на каждой плантации, где постаралась успокоить рабочих, напуганных до смерти и готовых бежать куда глаза глядят. Она подыскала управляющих, которым могла доверять сама и к которым рабочие относились с уважением, но без страха. Она очаровала банкиров, и те ссудили ей деньги; она запугала беглых клиентов, и те к ней вернулись; она стала полновластной владычицей своего маленького мирка. И за спасение своих пятидесяти процентов торговой компании “Гама” Белла получила почетное прозвище: от светских салонов кочинского форта до эрнакуламских доков, от британской Резиденции в старинном дворце Болгатти до Пряных гор шла молва о королеве Изабелле Кочинской. Прозвище ей не слишком нравилось, хотя стоявшее за ним восхищение наполняло ее жаркой гордостью. “Зовите меня Беллой, – настаивала она. – Просто Беллой”. Но она была далеко не проста и, в отличие от дочери любого местного князька, заработала титул сама.
Через три года Айриш и Кармен сдались: их пятьдесят процентов были уже на грани исчезновения. Белла могла выкупить их долю за бесценок, но, поскольку Камоинш никогда так не поступил бы с братом, она переплатила вдвое. И в последующие годы так же яростно билась за спасение “Айришевых пятидесяти”, как за свою половину. Так или иначе, название фирмы она изменила: компания “Гама” больше не существовала. В ее отреставрированном здании теперь размещался частный торговый дом с ограниченной ответственностью “К-50”, или “Камоинш – пятьдесят процентов”. “Это показывает, – часто повторяла она, – что в нашей жизни пятьдесят плюс пятьдесят будет снова пятьдесят”. В том смысле, что бизнес благодаря реконкисте королевы Изабеллы может вновь стать единым, но раскол в семье остается непреодоленным; баррикады из мешков так и не были разобраны. Их не разбирали еще много лет.
Она не была безупречна; наверное, пришла пора об этом сказать. Она была высока, стройна, красива, блестяща, отважна, трудолюбива, энергична, победоносна – но увы, леди и джентльмены, королева Изабелла не была ангелом, крылья и нимб не принадлежали к ее гардеробу, нет, господа. В те годы, когда Камоинш отбывал срок, она дымила как паровоз, постепенно до того пристрастилась к бранной речи, что перестала сдерживаться даже в присутствии подрастающей дочки, и порой, мертвецки упившись, как последняя шлюха, засыпала на циновке в каком-нибудь кабаке; она стала крепчайшим из орешков, ходили слухи, что ее манера ведения дел включала в себя элемент устрашения – некоторого, скажем так, выкручивания рук поставщикам, заказчикам, конкурентам; и она постоянно, небрежно, бесстыдно изменяла мужу, изменяла без всякого удержу и разбора. Бывало, скинув рабочую одежду, она надевала шикарное, шитое бисером платье и шляпку колокольчиком, упражнялась в чарльстоне перед зеркалом в гардеробной, широко открыв глаза и надув губки, после чего, оставив Аурору на попечении няни, ехала в Малабар-клуб. “До свидания, синичка моя, – говорила она своим низким прокуренным голосом. – Мама сегодня охотится на тигров”. Или, взбрыкивая пятками и отчаянно кашляя: “Сладких снов, моя отрада, – мать на льва пошла в засаду”.
Впоследствии моя мать Аурора да Гама рассказывала в своем богемном кругу:
– Тогда, в пять-шесть-семь-восемь лет, я уже была настоящей светской дамой. Если звонил телефон, я поднимала трубку и говорила: “Мне очень-очень жаль, но папа и дядюшка Айриш сидят в тюрьме, тетя Кармен и бабушка живут по ту сторону пахучих мешков и им нельзя сюда заходить, а мама ушла на всю ночь стрелять в тигров; что-нибудь передать?”
Пока Белла предавалась гульбе, маленькая одинокая Аурора, предоставленная самой себе в этом сюрреалистически расколотом доме, обращала взор внутрь себя, в чем состоит блаженство и награда одиночества; именно тогда, согласно легенде, она обнаружила в себе дар. Когда она стала взрослой и ее окутало облако культа, почитатели любили порассуждать про маленькую девочку в большом пустом доме, как она распахивала окна и как вливавшаяся в них потоком индийская действительность пробуждала ее душу. (Вы увидите, что в этом образе сплавлены два эпизода из отрочества Ауроры.) О ней с восторгом говорили, что даже в детстве она никогда не рисовала по-детски, что в самых ранних ее фигурах и пейзажах видна зрелая рука. Это был миф, который она не считала нужным опровергать; вполне возможно, она сама его и создала, проставив на некоторых работах более ранние даты и уничтожив свои первые пробы. И все же, видимо, верно то, что жизнь Ауроры в искусстве началась в эти долгие часы без матери; что у нее уже тогда был талант рисовальщицы и колористки, который специалист мог бы сразу распознать; что она держала свое увлечение в строжайшей тайне и прятала все принадлежности и рисунки, поэтому Белла никогда об этом не узнала.
Она приносила краски из школы, тратила все свои карманные деньги на цветные мелки, бумагу, перья, китайскую тушь и детские акварельные наборы, брала на кухне древесный уголь, и ее няня Джози, которая все знала, которая помогала ей прятать альбомы и этюдники, ни разу не обманула ее доверия. Лишь после того, как Эпифания ее заперла… но не буду забегать вперед. К тому же есть более изощренные умы, чем мой, чтобы написать о таланте моей матери, есть глаза, яснее моих видящие, чего она достигла. Меня же, когда я представляю себе образ маленькой одинокой девочки, которой суждено было стать моей бессмертной матерью, моей Немезидой, моей врагиней за гранью могилы, занимает то, что она никогда не винила в своей заброшенности ни отца, который все годы ее детства провел в тюрьме, ни мать, которая дни напролет занималась бизнесом, а ночами охотилась на крупного зверя; нет, она боготворила их обоих и не терпела ни слова критики (к примеру, от меня) по поводу их отношения к родительским обязанностям.
(Однако сокровенную свою суть она хранила от них в тайне. Прятала ее в своей груди, покуда она не вырвалась на волю, как оно всегда и бывает, – потому что иначе не может быть.)
Эпифанию во время молитвы —
стареющую, потому что, когда сыновей посадили, ей было сорок восемь, а когда спустя девять лет выпустили – пятьдесят семь, годы проплывают мимо, как отвязанные лодки, Господи, словно мы так богаты временем, – охватывал своего рода экстаз, апокалиптическое безумие, в котором смешивалось все: и вина?, и Бог, и уязвленная гордость, и конец света, и разрушение старых форм наступающим ненавистным новым, так не годится, Господи, не годится, чтобы меня в моем собственном доме держали за грудой мешков, чтобы я не могла из-за этой полоумной переступить белую черту, расчесывала она укусы прошлого и настоящего, мои собственные слуги, Господи, не дают мне шагу ступить, потому что я тоже в тюрьме, а они – мои тюремщики, я не могу их прогнать, потому что не я им плачу, все она, она, она, – везде и всюду она, но я могу ждать, ничего, потерпим, придет мое времечко, и она призывала все мыслимые беды на головы Лобу, доколе вы меня будете мучить, пресветлый Иисус, пресвятая дева Мария, доколе мне жить с дочерью этой проклятой семьи, с бесплодной смоковницей, которую я по доброте пожалела, вот как она мне отплатила, всю типографскую свору сюда позвала и разбила мне жизнь, но порой мертвецы вставали во весь рост и указывали на нее, Господи, я великая грешница, меня надо кинуть в жгучие льды, в кипящее масло, смилуйся надо мной, матерь Божья, над малейшей из малых, вызволи меня, если будет на то Твоя воля, из бездны Преисподней, ибо именем моим и делами моими великое, смертное зло пришло в мир, и она назначала себе кары, сегодня, Господи, я решила спать без москитной сетки, я готова, Господи, к жалящему Твоему гневу, пусть исколют меня в ночи, пусть кровь мою высосут, пусть вольют в меня, матерь Божья, горький яд Твоего воздаяния, и эта епитимья продолжалась до освобождения ее сыновей, когда она отпустила себе свои грехи и вновь по ночам стала окутываться облаком защитного тумана, слепо отказываясь замечать, что за годы неупотребления в и так уже дырявых москитных сетках моль проела немало новых прорех, Господи, у меня выпадают волосы, жизнь разбита, Господи, и я уже старая.
А Кармен в своей одинокой постели
ласкала себя пальцами ниже пояса, оплетала себя, пила свою собственную горечь и звала ее сладостью, шла своей собственной пустыней и звала ее зеленым садом, возбуждала себя фантазиями о темнокожем матросе, раскрывающем ей объятия на заднем сиденье черной с золотом, обшитой изнутри деревянными панелями семейной “лагонды”, или о совращении кого-нибудь из любовников Айриша в семейной “испано-сюизе”, о Господи, сколько же новых мужчин у него будет, есть, было в тюрьме, и ночь за ночью, лежа без сна, она гладила свое костлявое тело, а молодость меж тем уходила, двадцать один, когда Айриша посадили, тридцать, когда он вышел, и все еще нетронутая, непочатая, и не суждено никогда никому, кроме этих пальцев, они-то знают, о, знают, о, о… в скользком мыле ванны, в жарком поту базара она находила свою долю радости, не так все замышлялось, муженек Айриш, свекровушка Эпифания, замышлялось красиво; и красота меня окружает, бесконечная красота Беллы, своеволие и власть ее красоты. Но я, я, я — некрасота. В этом доме, под пятой у красоты, я была – да, господа, была и есть – мерзкая тварь, охо-хо, миледи и милорды, истинно так, и, закрывая несчастные свои глаза, выгибая спину, она отдавалась похоти омерзения, сдери с меня шкуру оставь голое мясо разреши начать сызнова без расы без имени без пола о пусть орехи сгниют в скорлупах о пусть пряности увянут на солнце о гори все о гори все гори, охх, и потом, рыдая, съеживалась под одеялом, а объятые пламенем мертвецы обступали ее, подходили все ближе и выли: отмщение!
В день, когда Ауроре да Гаме исполнилось десять лет, человек с аккордеоном, чарак-чу, северным выговором и магическим даром спросил ее: “Ну, а чего ты хочешь больше всего на свете?” – и не успела она ответить, как желание было исполнено. В гавани прогудел сиреной моторный катер, и когда он приблизился к пристани на острове Кабрал, она увидела на палубе Айриша и Камоинша, освобожденных на шесть лет раньше срока, кожица да косточки, крикнула их осчастливленная мать. Стоят бок о бок, вяло машут встречающим и улыбаются одинаковой улыбкой – неуверенной и одновременно жадной улыбкой отпущенных арестантов.
Дедушка Камоинш и бабушка Белла обнялись на пристани.
– Я распорядилась выгладить и приготовить самую твою страшную долгополую рубашку, – сказала она. – Поди прими подарочный вид и преподнеси себя этой имениннице – вон стоит, улыбается во весь рот. Гляди, уже, как деревце, вымахала и пытается узнать своего папу.
Я ощущаю их взаимную любовь, плывущую ко мне сквозь годы; как сильна она была, как мало им было отпущено времени! (Да, несмотря на все ее блядство, я настаиваю: то, что было у Беллы с Камоиншем, – это высший класс, без обмана.) Я слышу, как она кашляет, не в силах сдержаться, даже подводя мужа к дочери, и этот глубокий надсадный кашель рвет мои легкие, словно мой собственный.
– Слишком много курю, – прохрипела она. – Дурная привычка. – И, чтобы не слишком омрачать встречу, солгала: – Я брошу.
Она выполнила мягкую просьбу Камоинша – “Семья пережила слишком многое, пора выздоравливать”, – и баррикады из мешков, отделявшие ее от Эпифании и Кармен, были разобраны. Ради Камоинша она раз и навсегда отказалась от своей рассеянной и развратной жизни. По просьбе мужа она предоставила Айришу место в совете директоров компании, хотя ввиду его плачевного финансового положения вопрос о выкупе им своей доли не поднимался. Я думаю, я надеюсь, что они – Белла и Камоинш – были замечательными любовниками, что его застенчивая нежность и ее телесная жадность великолепно дополняли друг друга; что в неимоверно краткие три года после освобождения Камоинша у них было вдоволь счастливых объятий.
Но все эти три года она кашляла, и хотя после случившегося во вновь объединенном доме люди старались соблюдать осторожность, ее взрослеющая дочь отнюдь не обманывалась. “Еще до того, как я услышала в ее груди голос смерти, они, эти ведьмы, все знали, – говорила мне мать. – Я поняла, что две стервы просто ждут своего часа. Разделились однажды – разделились навсегда; в том доме не как-нибудь, а насмерть воевали”.
Когда в один из вечеров вскоре после возвращения братьев семья по предложению Камоинша собралась в давно не использовавшемся большом зале, под портретами предков, на общий ужин в знак примирения, все испортила именно больная грудь Беллы; увидев, как невестка отхаркивает в металлическую плевательницу кровавую мокроту, Эпифания, председательствовавшая за столом в черной кружевной мантилье, не удержалась: “Кто деньги хапнул, тому, знать, и манеры уже ни к чему”, – и разразилась буря взаимных обвинений, сменившаяся хрупким перемирием, но уже без совместных трапез.
Она просыпалась с кашлем и яростно, пугающе откашливалась перед отходом ко сну. Приступы кашля будили ее среди ночи, она принималась бродить по старому дому и распахивать окна… через два месяца после возвращения Камоинш, проснувшись ночью, обнаружил, что она кашляет в горячечном сне и изо рта у нее сочится кровь. Диагностировали туберкулез обоих легких, его тогда умели лечить гораздо хуже, чем сейчас, и врачи сказали ей, что предстоит тяжкая битва за выздоровление и ей следует резко ограничить себя по части работы. “Ну и гадство же, – прохрипела она. – Сделала я тебе раз из дерьма конфетку, смотри не испогань все опять – исправлять будет некому”. Услышав эти слова, мой добрейший дедушка, чье сердце разрывалось от любви и тревоги, зарыдал горючими слезами.
Айриш, вернувшись, тоже обнаружил в жене перемену. В первый вечер после его освобождения она явилась к нему в спальню и сказала:
– Если ты опять за старое, за срамные свои дела, я убью тебя во сне, Айриш.
В ответ он отвесил ей низкий поклон, поклон светского льва времен Реставрации: протянутая правая рука выписывает в воздухе сложные завитушки, правая нога выставлена вперед и в сторону, ее носок щегольски поднят – и Кармен ушла. Он не отказался от своих похождений, но стал осмотрительней; для послеполуденных радостей он снял квартиру в Эрнакуламе с неторопливым вентилятором под потолком, отстающими от стен скучными голубовато-зелеными обоями, душем, работающим от ручного насоса, уборной без стульчака и большой приземистой кроватью – деревянная рама и ремни, которые он ради гигиены и прочности распорядился заменить новыми. Дневной свет, проникавший сквозь бамбуковые жалюзи, покрывал тонкими полосками его тело и тело того, кто был с ним, и гомон базара сливался со стонами сладострастия.
По вечерам он играл в бридж в Малабар-клубе, что мог подтвердить там кто угодно, или, как образцовый семьянин, сидел дома. Он стал запирать дверь своей спальни на висячий замок и приобрел английского бульдога, которому, чтобы подразнить Камоинша, дал кличку Джавахарлал. Он остался таким же, как до тюрьмы, противником Конгресса с его требованиями независимости и теперь пристрастился к писанию писем в редакции газет, чьи страницы он наводнял доводами в поддержку так называемой либеральной альтернативы. “Предположим, дурная политика изгнания наших правителей увенчалась успехом – что тогда? – вопрошал он. – Откуда в нынешней Индии возьмутся демократические институты, способные заменить Британскую Руку, которая, как я могу засвидетельствовать лично, милостива даже когда она наказывает нас за наши детские безобразия?” Когда либеральный редактор газеты “Лидер” мистер Чинтамани выразил мнение, что “Индия должна предпочесть нынешнюю незаконную власть реакционной и ничуть не более законной власти, которая грозит ей в будущем”, мой двоюродный дедушка отправил ему послание, гласившее: “Браво!”; а когда другой либерал, сэр П. С. Шивасвами Айер, написал, что, “выступая за созыв конституционной ассамблеи, Конгресс проявляет ни на чем не основанную веру в мудрость толпы и несправедливо принижает талант и благородство людей, участвовавших в различных конференциях за круглым столом. Я сильно сомневаюсь в том, что конституционная ассамблея сможет добиться большего”, – Айриш да Гама выступил в его поддержку: “Я всей душой с Вами! Простой человек в Индии всегда с уважением прислушивался к советам лучших людей – людей образованных и воспитанных!”
На следующее утро Белла дала ему бой на пристани. Лицо ее было бледно, глаза – красны, она куталась в шаль, но непременно хотела проводить Камоинша на работу. Когда братья шагнули на борт семейного катера, она помахала перед лицом Айриша утренней газетой.
– В нашем доме и образования, и воспитания было хоть отбавляй, – сказала Белла во весь голос, – а мы перегрызлись, как собаки.
– Не мы, – возразил Айриш да Гама. – Наши скотски невежественные нищие родственники, из-за которых, черт побери, я достаточно хлебнул горя и за которых я не намерен отдуваться до конца своих дней. Да перестань ты лаять, Джавахарлал, тихо, дружок, тихо.
Камоинш побагровел, но прикусил язык, подумав о Неру в алипурской тюрьме и о многих других самоотверженных мужчинах и женщинах в дальних и ближних застенках. Ночью он сидел у постели кашляющей Беллы, обтирал ей глаза и губы, менял холодные компрессы у нее на лбу и шептал ей о том, что грядет новая жизнь, Белла, у нас будет свободная страна: превыше религий – ибо светская, превыше классов – ибо социалистическая, превыше каст – ибо просвещенная, превыше ненависти – ибо любящая, превыше мести – ибо прощающая, превыше племени – ибо единая, превыше наречия – ибо многоязычная, превыше расы – ибо многоцветная, превыше бедности – ибо способная ее победить, превыше невежества – ибо грамотная, превыше глупости – ибо талантливая, – свобода, Белла, мы к ней помчимся экспрессом, скоро, скоро мы будем с тобой стоять на перроне и радоваться подходящему поезду, и под этот экстатический шепот она засыпала, и ее посещали видения разрухи и войны. Когда она засыпала, он читал ее бесчувственной оболочке стихи:
Не торопись принять блаженство смерти,
Еще хоть через силу подыши[20 - Слегка измененная цитата из “Гамлета” У. Шекспира (акт V, сцена 2).],
и он обращался не только к жене, но и к несчастным узникам, ко всей подневольной стране; охваченный ужасом, склонялся над бренным, сонным, больным телом и пускал по ветру свою страдальческую любовь:
Пусть ложь исполнит все свои труды —
Умрет она, и правда воссияет,
Хотя б никто не видел в ней нужды[21 - Цитата из стихотворения “Magna Est Veritas” английского поэта Ковентри Патмора (1823–1896).].
Это был не туберкулез – точнее, не только туберкулез. В 1937 году у Изабеллы Химены да Гамы, урожденной Соуза, которой было всего тридцать три года, нашли рак легкого, уже достигший последней, смертельной стадии. Она отошла быстро, испытывая страшные боли, свирепо негодуя на врага в ее собственном теле, яростно восставая против подлой смерти, что явилась так рано и ведет себя так бесцеремонно. Воскресным утром, когда по воде доносился церковный звон, а в воздухе попахивало древесным дымком, когда Аурора и Камоинш были у ее постели, она сказала, повернув лицо к струящемуся свету:
– Помните историю про испанского Сида Кампеадора[22 - Родриго Диас де Бивар (Сид Кампеадор) (умер в 1099 г.) – прославившийся своими подвигами испанский рыцарь, воспетый в “Песни о моем Сиде” (XII в.); герой трагедии П. Корнеля “Сид”.]? Он тоже любил женщину по имени Химена.
– Да, мы помним.
– И когда он получил смертельную рану, он велел ей привязать свое мертвое тело к лошади и пустить ее в гущу битвы, чтобы враги думали, что он еще жив.
– Да, мама, любовь моя, да.
– Тогда привяжите мое тело к рикше, черт бы ее драл, или к чему найдете, к верблюжьей ослиной воловьей повозке, к велосипеду, только, ради бога, не к слону поганому, хорошо? Потому что враг близко, и в этой печальной истории Химене приходится быть Сидом.
– Я сделаю, мама.
[Умирает.]
4
Нам в нашей семье всегда было трудно дышать воздухом мира сего; мы рождались с надеждой на нечто лучшее.
Говорить за себя – в этот поздний час? Спасибо за совет, как раз собираюсь с силами; ведь я стал преждевременно стар, стар, стар. Я, можно сказать, слишком быстро жил, и как марафонский бегун, который рухнул, не дождавшись второго дыхания, как астронавт, который слишком весело танцевал на Луне, я использовал весь отпущенный мне воздух. О расточительный Мавр! К тридцати шести годам надышать на полные семьдесят два! (Хотя скажу справедливости ради, что особого выбора у меня не было.)
В кухне она поделила все горшки и сковородки, а затем повесила на стену расписание, разбивавшее на части каждый из дней недели. Из слуг она взяла себе ровно половину, и хотя почти все просились под ее начало, постаралась ни на йоту не погрешить против справедливости: горничная к ним – горничная к нам, поваренок туда – поваренок сюда, по эту сторону рубежа.
– Что касается церкви, – заявила она ошарашенным Эпифании и Кармен, когда те, вернувшись, оказались перед fait accompli[19 - Свершившимся фактом (фр.).] – разгороженной вселенной, – и слоновьих зубов вкупе со слоноподобными богами, забирайте это себе. Мы на нашей половине не собираемся ни молиться, ни коллекционировать слонов.
Ни Эпифания, ни Кармен после случившегося не нашли в себе сил противостоять яростному напору Беллы.
– Вы навлекли на семью адское пламя, – сказала она им. – И я больше не желаю смотреть на ваше поганое барахло. Держитесь своих пятидесяти процентов! Разбирайтесь сами со своей прислугой, пропадайте пропадом, продавайте все как есть – мне-то что! У меня теперь одна забота – чтобы наша с Камоиншем половина процветала и богатела.
– Вы явились ниоткуда, – чихая, ответила Эпифания из-за мешков с кардамоном, – и туда же, милочка моя, вернетесь, – но ее слова прозвучали неубедительно, и ни она, ни Кармен не воспротивились, когда Белла заявила, что выгоревшие плантации входят не в ее, а в их пятьдесят процентов; Айриш да Гама, как видно из его письма, махнул на все рукой: “Да катись оно к черту! Располосуйте всю проклятую дребедень, почему нет?”
Итак, Белла да Гама, двадцати одного года, взяла в свои руки управление собственностью посаженного в тюрьму мужа и, несмотря на многие превратности последующих лет, прекрасно с этим справилась. После осуждения Камоинша и Айриша земельные угодья и склады компании “Гама” были помещены под общественную опеку: пока юристы занимались разделом, Пряные горы стали патрулироваться вооруженными сипаями, а в креслах высшего руководства компании засели государственные чиновники. Лишь спустя месяцы уговоров, лести, взяток и флирта Белла смогла получить бизнес обратно. К тому времени многие клиенты, напуганные скандалом, переметнулись к другим фирмам; другие, узнав, что делами теперь заправляет “эта девчонка”, потребовали таких изменений в условиях, что финансы компании, и без того не бог весть какие прочные, затрещали по всем швам. Ей много раз предлагали продать дело за десятую или, в лучшем случае, восьмую часть истинной стоимости. Она ничего не продала. Она стала надевать мужские брюки, белые хлопчатобумажные рубашки и мужнину кремовую шляпу с полями. Она побывала на каждом своем поле, в каждой ореховой роще, на каждой плантации, где постаралась успокоить рабочих, напуганных до смерти и готовых бежать куда глаза глядят. Она подыскала управляющих, которым могла доверять сама и к которым рабочие относились с уважением, но без страха. Она очаровала банкиров, и те ссудили ей деньги; она запугала беглых клиентов, и те к ней вернулись; она стала полновластной владычицей своего маленького мирка. И за спасение своих пятидесяти процентов торговой компании “Гама” Белла получила почетное прозвище: от светских салонов кочинского форта до эрнакуламских доков, от британской Резиденции в старинном дворце Болгатти до Пряных гор шла молва о королеве Изабелле Кочинской. Прозвище ей не слишком нравилось, хотя стоявшее за ним восхищение наполняло ее жаркой гордостью. “Зовите меня Беллой, – настаивала она. – Просто Беллой”. Но она была далеко не проста и, в отличие от дочери любого местного князька, заработала титул сама.
Через три года Айриш и Кармен сдались: их пятьдесят процентов были уже на грани исчезновения. Белла могла выкупить их долю за бесценок, но, поскольку Камоинш никогда так не поступил бы с братом, она переплатила вдвое. И в последующие годы так же яростно билась за спасение “Айришевых пятидесяти”, как за свою половину. Так или иначе, название фирмы она изменила: компания “Гама” больше не существовала. В ее отреставрированном здании теперь размещался частный торговый дом с ограниченной ответственностью “К-50”, или “Камоинш – пятьдесят процентов”. “Это показывает, – часто повторяла она, – что в нашей жизни пятьдесят плюс пятьдесят будет снова пятьдесят”. В том смысле, что бизнес благодаря реконкисте королевы Изабеллы может вновь стать единым, но раскол в семье остается непреодоленным; баррикады из мешков так и не были разобраны. Их не разбирали еще много лет.
Она не была безупречна; наверное, пришла пора об этом сказать. Она была высока, стройна, красива, блестяща, отважна, трудолюбива, энергична, победоносна – но увы, леди и джентльмены, королева Изабелла не была ангелом, крылья и нимб не принадлежали к ее гардеробу, нет, господа. В те годы, когда Камоинш отбывал срок, она дымила как паровоз, постепенно до того пристрастилась к бранной речи, что перестала сдерживаться даже в присутствии подрастающей дочки, и порой, мертвецки упившись, как последняя шлюха, засыпала на циновке в каком-нибудь кабаке; она стала крепчайшим из орешков, ходили слухи, что ее манера ведения дел включала в себя элемент устрашения – некоторого, скажем так, выкручивания рук поставщикам, заказчикам, конкурентам; и она постоянно, небрежно, бесстыдно изменяла мужу, изменяла без всякого удержу и разбора. Бывало, скинув рабочую одежду, она надевала шикарное, шитое бисером платье и шляпку колокольчиком, упражнялась в чарльстоне перед зеркалом в гардеробной, широко открыв глаза и надув губки, после чего, оставив Аурору на попечении няни, ехала в Малабар-клуб. “До свидания, синичка моя, – говорила она своим низким прокуренным голосом. – Мама сегодня охотится на тигров”. Или, взбрыкивая пятками и отчаянно кашляя: “Сладких снов, моя отрада, – мать на льва пошла в засаду”.
Впоследствии моя мать Аурора да Гама рассказывала в своем богемном кругу:
– Тогда, в пять-шесть-семь-восемь лет, я уже была настоящей светской дамой. Если звонил телефон, я поднимала трубку и говорила: “Мне очень-очень жаль, но папа и дядюшка Айриш сидят в тюрьме, тетя Кармен и бабушка живут по ту сторону пахучих мешков и им нельзя сюда заходить, а мама ушла на всю ночь стрелять в тигров; что-нибудь передать?”
Пока Белла предавалась гульбе, маленькая одинокая Аурора, предоставленная самой себе в этом сюрреалистически расколотом доме, обращала взор внутрь себя, в чем состоит блаженство и награда одиночества; именно тогда, согласно легенде, она обнаружила в себе дар. Когда она стала взрослой и ее окутало облако культа, почитатели любили порассуждать про маленькую девочку в большом пустом доме, как она распахивала окна и как вливавшаяся в них потоком индийская действительность пробуждала ее душу. (Вы увидите, что в этом образе сплавлены два эпизода из отрочества Ауроры.) О ней с восторгом говорили, что даже в детстве она никогда не рисовала по-детски, что в самых ранних ее фигурах и пейзажах видна зрелая рука. Это был миф, который она не считала нужным опровергать; вполне возможно, она сама его и создала, проставив на некоторых работах более ранние даты и уничтожив свои первые пробы. И все же, видимо, верно то, что жизнь Ауроры в искусстве началась в эти долгие часы без матери; что у нее уже тогда был талант рисовальщицы и колористки, который специалист мог бы сразу распознать; что она держала свое увлечение в строжайшей тайне и прятала все принадлежности и рисунки, поэтому Белла никогда об этом не узнала.
Она приносила краски из школы, тратила все свои карманные деньги на цветные мелки, бумагу, перья, китайскую тушь и детские акварельные наборы, брала на кухне древесный уголь, и ее няня Джози, которая все знала, которая помогала ей прятать альбомы и этюдники, ни разу не обманула ее доверия. Лишь после того, как Эпифания ее заперла… но не буду забегать вперед. К тому же есть более изощренные умы, чем мой, чтобы написать о таланте моей матери, есть глаза, яснее моих видящие, чего она достигла. Меня же, когда я представляю себе образ маленькой одинокой девочки, которой суждено было стать моей бессмертной матерью, моей Немезидой, моей врагиней за гранью могилы, занимает то, что она никогда не винила в своей заброшенности ни отца, который все годы ее детства провел в тюрьме, ни мать, которая дни напролет занималась бизнесом, а ночами охотилась на крупного зверя; нет, она боготворила их обоих и не терпела ни слова критики (к примеру, от меня) по поводу их отношения к родительским обязанностям.
(Однако сокровенную свою суть она хранила от них в тайне. Прятала ее в своей груди, покуда она не вырвалась на волю, как оно всегда и бывает, – потому что иначе не может быть.)
Эпифанию во время молитвы —
стареющую, потому что, когда сыновей посадили, ей было сорок восемь, а когда спустя девять лет выпустили – пятьдесят семь, годы проплывают мимо, как отвязанные лодки, Господи, словно мы так богаты временем, – охватывал своего рода экстаз, апокалиптическое безумие, в котором смешивалось все: и вина?, и Бог, и уязвленная гордость, и конец света, и разрушение старых форм наступающим ненавистным новым, так не годится, Господи, не годится, чтобы меня в моем собственном доме держали за грудой мешков, чтобы я не могла из-за этой полоумной переступить белую черту, расчесывала она укусы прошлого и настоящего, мои собственные слуги, Господи, не дают мне шагу ступить, потому что я тоже в тюрьме, а они – мои тюремщики, я не могу их прогнать, потому что не я им плачу, все она, она, она, – везде и всюду она, но я могу ждать, ничего, потерпим, придет мое времечко, и она призывала все мыслимые беды на головы Лобу, доколе вы меня будете мучить, пресветлый Иисус, пресвятая дева Мария, доколе мне жить с дочерью этой проклятой семьи, с бесплодной смоковницей, которую я по доброте пожалела, вот как она мне отплатила, всю типографскую свору сюда позвала и разбила мне жизнь, но порой мертвецы вставали во весь рост и указывали на нее, Господи, я великая грешница, меня надо кинуть в жгучие льды, в кипящее масло, смилуйся надо мной, матерь Божья, над малейшей из малых, вызволи меня, если будет на то Твоя воля, из бездны Преисподней, ибо именем моим и делами моими великое, смертное зло пришло в мир, и она назначала себе кары, сегодня, Господи, я решила спать без москитной сетки, я готова, Господи, к жалящему Твоему гневу, пусть исколют меня в ночи, пусть кровь мою высосут, пусть вольют в меня, матерь Божья, горький яд Твоего воздаяния, и эта епитимья продолжалась до освобождения ее сыновей, когда она отпустила себе свои грехи и вновь по ночам стала окутываться облаком защитного тумана, слепо отказываясь замечать, что за годы неупотребления в и так уже дырявых москитных сетках моль проела немало новых прорех, Господи, у меня выпадают волосы, жизнь разбита, Господи, и я уже старая.
А Кармен в своей одинокой постели
ласкала себя пальцами ниже пояса, оплетала себя, пила свою собственную горечь и звала ее сладостью, шла своей собственной пустыней и звала ее зеленым садом, возбуждала себя фантазиями о темнокожем матросе, раскрывающем ей объятия на заднем сиденье черной с золотом, обшитой изнутри деревянными панелями семейной “лагонды”, или о совращении кого-нибудь из любовников Айриша в семейной “испано-сюизе”, о Господи, сколько же новых мужчин у него будет, есть, было в тюрьме, и ночь за ночью, лежа без сна, она гладила свое костлявое тело, а молодость меж тем уходила, двадцать один, когда Айриша посадили, тридцать, когда он вышел, и все еще нетронутая, непочатая, и не суждено никогда никому, кроме этих пальцев, они-то знают, о, знают, о, о… в скользком мыле ванны, в жарком поту базара она находила свою долю радости, не так все замышлялось, муженек Айриш, свекровушка Эпифания, замышлялось красиво; и красота меня окружает, бесконечная красота Беллы, своеволие и власть ее красоты. Но я, я, я — некрасота. В этом доме, под пятой у красоты, я была – да, господа, была и есть – мерзкая тварь, охо-хо, миледи и милорды, истинно так, и, закрывая несчастные свои глаза, выгибая спину, она отдавалась похоти омерзения, сдери с меня шкуру оставь голое мясо разреши начать сызнова без расы без имени без пола о пусть орехи сгниют в скорлупах о пусть пряности увянут на солнце о гори все о гори все гори, охх, и потом, рыдая, съеживалась под одеялом, а объятые пламенем мертвецы обступали ее, подходили все ближе и выли: отмщение!
В день, когда Ауроре да Гаме исполнилось десять лет, человек с аккордеоном, чарак-чу, северным выговором и магическим даром спросил ее: “Ну, а чего ты хочешь больше всего на свете?” – и не успела она ответить, как желание было исполнено. В гавани прогудел сиреной моторный катер, и когда он приблизился к пристани на острове Кабрал, она увидела на палубе Айриша и Камоинша, освобожденных на шесть лет раньше срока, кожица да косточки, крикнула их осчастливленная мать. Стоят бок о бок, вяло машут встречающим и улыбаются одинаковой улыбкой – неуверенной и одновременно жадной улыбкой отпущенных арестантов.
Дедушка Камоинш и бабушка Белла обнялись на пристани.
– Я распорядилась выгладить и приготовить самую твою страшную долгополую рубашку, – сказала она. – Поди прими подарочный вид и преподнеси себя этой имениннице – вон стоит, улыбается во весь рот. Гляди, уже, как деревце, вымахала и пытается узнать своего папу.
Я ощущаю их взаимную любовь, плывущую ко мне сквозь годы; как сильна она была, как мало им было отпущено времени! (Да, несмотря на все ее блядство, я настаиваю: то, что было у Беллы с Камоиншем, – это высший класс, без обмана.) Я слышу, как она кашляет, не в силах сдержаться, даже подводя мужа к дочери, и этот глубокий надсадный кашель рвет мои легкие, словно мой собственный.
– Слишком много курю, – прохрипела она. – Дурная привычка. – И, чтобы не слишком омрачать встречу, солгала: – Я брошу.
Она выполнила мягкую просьбу Камоинша – “Семья пережила слишком многое, пора выздоравливать”, – и баррикады из мешков, отделявшие ее от Эпифании и Кармен, были разобраны. Ради Камоинша она раз и навсегда отказалась от своей рассеянной и развратной жизни. По просьбе мужа она предоставила Айришу место в совете директоров компании, хотя ввиду его плачевного финансового положения вопрос о выкупе им своей доли не поднимался. Я думаю, я надеюсь, что они – Белла и Камоинш – были замечательными любовниками, что его застенчивая нежность и ее телесная жадность великолепно дополняли друг друга; что в неимоверно краткие три года после освобождения Камоинша у них было вдоволь счастливых объятий.
Но все эти три года она кашляла, и хотя после случившегося во вновь объединенном доме люди старались соблюдать осторожность, ее взрослеющая дочь отнюдь не обманывалась. “Еще до того, как я услышала в ее груди голос смерти, они, эти ведьмы, все знали, – говорила мне мать. – Я поняла, что две стервы просто ждут своего часа. Разделились однажды – разделились навсегда; в том доме не как-нибудь, а насмерть воевали”.
Когда в один из вечеров вскоре после возвращения братьев семья по предложению Камоинша собралась в давно не использовавшемся большом зале, под портретами предков, на общий ужин в знак примирения, все испортила именно больная грудь Беллы; увидев, как невестка отхаркивает в металлическую плевательницу кровавую мокроту, Эпифания, председательствовавшая за столом в черной кружевной мантилье, не удержалась: “Кто деньги хапнул, тому, знать, и манеры уже ни к чему”, – и разразилась буря взаимных обвинений, сменившаяся хрупким перемирием, но уже без совместных трапез.
Она просыпалась с кашлем и яростно, пугающе откашливалась перед отходом ко сну. Приступы кашля будили ее среди ночи, она принималась бродить по старому дому и распахивать окна… через два месяца после возвращения Камоинш, проснувшись ночью, обнаружил, что она кашляет в горячечном сне и изо рта у нее сочится кровь. Диагностировали туберкулез обоих легких, его тогда умели лечить гораздо хуже, чем сейчас, и врачи сказали ей, что предстоит тяжкая битва за выздоровление и ей следует резко ограничить себя по части работы. “Ну и гадство же, – прохрипела она. – Сделала я тебе раз из дерьма конфетку, смотри не испогань все опять – исправлять будет некому”. Услышав эти слова, мой добрейший дедушка, чье сердце разрывалось от любви и тревоги, зарыдал горючими слезами.
Айриш, вернувшись, тоже обнаружил в жене перемену. В первый вечер после его освобождения она явилась к нему в спальню и сказала:
– Если ты опять за старое, за срамные свои дела, я убью тебя во сне, Айриш.
В ответ он отвесил ей низкий поклон, поклон светского льва времен Реставрации: протянутая правая рука выписывает в воздухе сложные завитушки, правая нога выставлена вперед и в сторону, ее носок щегольски поднят – и Кармен ушла. Он не отказался от своих похождений, но стал осмотрительней; для послеполуденных радостей он снял квартиру в Эрнакуламе с неторопливым вентилятором под потолком, отстающими от стен скучными голубовато-зелеными обоями, душем, работающим от ручного насоса, уборной без стульчака и большой приземистой кроватью – деревянная рама и ремни, которые он ради гигиены и прочности распорядился заменить новыми. Дневной свет, проникавший сквозь бамбуковые жалюзи, покрывал тонкими полосками его тело и тело того, кто был с ним, и гомон базара сливался со стонами сладострастия.
По вечерам он играл в бридж в Малабар-клубе, что мог подтвердить там кто угодно, или, как образцовый семьянин, сидел дома. Он стал запирать дверь своей спальни на висячий замок и приобрел английского бульдога, которому, чтобы подразнить Камоинша, дал кличку Джавахарлал. Он остался таким же, как до тюрьмы, противником Конгресса с его требованиями независимости и теперь пристрастился к писанию писем в редакции газет, чьи страницы он наводнял доводами в поддержку так называемой либеральной альтернативы. “Предположим, дурная политика изгнания наших правителей увенчалась успехом – что тогда? – вопрошал он. – Откуда в нынешней Индии возьмутся демократические институты, способные заменить Британскую Руку, которая, как я могу засвидетельствовать лично, милостива даже когда она наказывает нас за наши детские безобразия?” Когда либеральный редактор газеты “Лидер” мистер Чинтамани выразил мнение, что “Индия должна предпочесть нынешнюю незаконную власть реакционной и ничуть не более законной власти, которая грозит ей в будущем”, мой двоюродный дедушка отправил ему послание, гласившее: “Браво!”; а когда другой либерал, сэр П. С. Шивасвами Айер, написал, что, “выступая за созыв конституционной ассамблеи, Конгресс проявляет ни на чем не основанную веру в мудрость толпы и несправедливо принижает талант и благородство людей, участвовавших в различных конференциях за круглым столом. Я сильно сомневаюсь в том, что конституционная ассамблея сможет добиться большего”, – Айриш да Гама выступил в его поддержку: “Я всей душой с Вами! Простой человек в Индии всегда с уважением прислушивался к советам лучших людей – людей образованных и воспитанных!”
На следующее утро Белла дала ему бой на пристани. Лицо ее было бледно, глаза – красны, она куталась в шаль, но непременно хотела проводить Камоинша на работу. Когда братья шагнули на борт семейного катера, она помахала перед лицом Айриша утренней газетой.
– В нашем доме и образования, и воспитания было хоть отбавляй, – сказала Белла во весь голос, – а мы перегрызлись, как собаки.
– Не мы, – возразил Айриш да Гама. – Наши скотски невежественные нищие родственники, из-за которых, черт побери, я достаточно хлебнул горя и за которых я не намерен отдуваться до конца своих дней. Да перестань ты лаять, Джавахарлал, тихо, дружок, тихо.
Камоинш побагровел, но прикусил язык, подумав о Неру в алипурской тюрьме и о многих других самоотверженных мужчинах и женщинах в дальних и ближних застенках. Ночью он сидел у постели кашляющей Беллы, обтирал ей глаза и губы, менял холодные компрессы у нее на лбу и шептал ей о том, что грядет новая жизнь, Белла, у нас будет свободная страна: превыше религий – ибо светская, превыше классов – ибо социалистическая, превыше каст – ибо просвещенная, превыше ненависти – ибо любящая, превыше мести – ибо прощающая, превыше племени – ибо единая, превыше наречия – ибо многоязычная, превыше расы – ибо многоцветная, превыше бедности – ибо способная ее победить, превыше невежества – ибо грамотная, превыше глупости – ибо талантливая, – свобода, Белла, мы к ней помчимся экспрессом, скоро, скоро мы будем с тобой стоять на перроне и радоваться подходящему поезду, и под этот экстатический шепот она засыпала, и ее посещали видения разрухи и войны. Когда она засыпала, он читал ее бесчувственной оболочке стихи:
Не торопись принять блаженство смерти,
Еще хоть через силу подыши[20 - Слегка измененная цитата из “Гамлета” У. Шекспира (акт V, сцена 2).],
и он обращался не только к жене, но и к несчастным узникам, ко всей подневольной стране; охваченный ужасом, склонялся над бренным, сонным, больным телом и пускал по ветру свою страдальческую любовь:
Пусть ложь исполнит все свои труды —
Умрет она, и правда воссияет,
Хотя б никто не видел в ней нужды[21 - Цитата из стихотворения “Magna Est Veritas” английского поэта Ковентри Патмора (1823–1896).].
Это был не туберкулез – точнее, не только туберкулез. В 1937 году у Изабеллы Химены да Гамы, урожденной Соуза, которой было всего тридцать три года, нашли рак легкого, уже достигший последней, смертельной стадии. Она отошла быстро, испытывая страшные боли, свирепо негодуя на врага в ее собственном теле, яростно восставая против подлой смерти, что явилась так рано и ведет себя так бесцеремонно. Воскресным утром, когда по воде доносился церковный звон, а в воздухе попахивало древесным дымком, когда Аурора и Камоинш были у ее постели, она сказала, повернув лицо к струящемуся свету:
– Помните историю про испанского Сида Кампеадора[22 - Родриго Диас де Бивар (Сид Кампеадор) (умер в 1099 г.) – прославившийся своими подвигами испанский рыцарь, воспетый в “Песни о моем Сиде” (XII в.); герой трагедии П. Корнеля “Сид”.]? Он тоже любил женщину по имени Химена.
– Да, мы помним.
– И когда он получил смертельную рану, он велел ей привязать свое мертвое тело к лошади и пустить ее в гущу битвы, чтобы враги думали, что он еще жив.
– Да, мама, любовь моя, да.
– Тогда привяжите мое тело к рикше, черт бы ее драл, или к чему найдете, к верблюжьей ослиной воловьей повозке, к велосипеду, только, ради бога, не к слону поганому, хорошо? Потому что враг близко, и в этой печальной истории Химене приходится быть Сидом.
– Я сделаю, мама.
[Умирает.]
4
Нам в нашей семье всегда было трудно дышать воздухом мира сего; мы рождались с надеждой на нечто лучшее.
Говорить за себя – в этот поздний час? Спасибо за совет, как раз собираюсь с силами; ведь я стал преждевременно стар, стар, стар. Я, можно сказать, слишком быстро жил, и как марафонский бегун, который рухнул, не дождавшись второго дыхания, как астронавт, который слишком весело танцевал на Луне, я использовал весь отпущенный мне воздух. О расточительный Мавр! К тридцати шести годам надышать на полные семьдесят два! (Хотя скажу справедливости ради, что особого выбора у меня не было.)