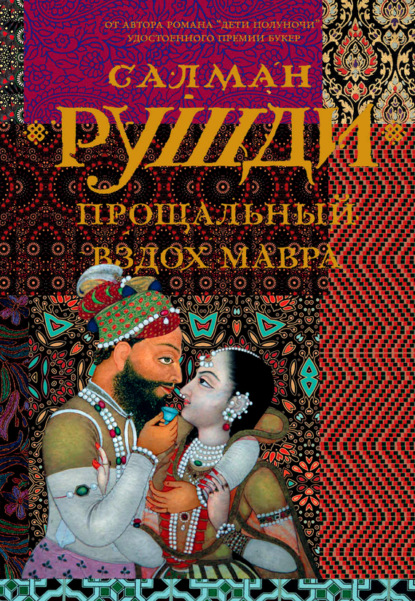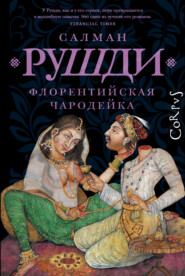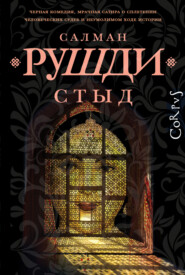По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прощальный вздох мавра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И, увидев, что бабушка еще жива, сделала ли она что-нибудь ради спасения ее жизни?
Она замерла.
А потом? Ведь, само собой, она была еще девочка; паника могла вызвать у нее минутный столбняк, это простительно, но, придя в себя, она, конечно, немедленно позвала на помощь домашних… неужели нет?
Придя в себя, она отступила на два шага назад; потом села на пол, скрестив ноги; и стала смотреть.
И она не почувствовала ни жалости, ни стыда, ни страха?
Она была озабочена – это да. Если приступ у Эпифании окажется несмертельным, тогда ее поведение сочтут предосудительным; даже отец разгневается. Она это знала.
И более ничего?
Она боялась, что ее увидят; поэтому она пошла и закрыла дверь церкви.
Почему тогда не пойти до конца? Почему не задуть свечи и не выключить электричество?
Все надо было оставить, как оставила Эпифания.
Значит, хладнокровное убийство. Все было рассчитано.
Если бездействие можно приравнять к убийству, то да. Если сердечный приступ Эпифании был столь серьезен, что ее оказалось невозможно спасти, то нет. Спорный случай.
Эпифания умерла?
Спустя час ее губы в последний раз зашевелились, глаза вновь обратились на внучку. Поднеся ухо к умирающему рту, Аурора услышала бабушкино проклятие.
И что же убийца? Или, справедливости ради, – та, которая, возможно, была убийцей?
Оставила дверь церкви широко открытой, как раньше, и отправилась спать…
…Но ведь не могла же она…
…и заснула безмятежным сном младенца. И проснулась рождественским утром.
Нелицеприятная правда состоит в том, что смерть Эпифании отозвалась прибавлением жизни. Какой-то давно изгнанный дух – может быть, радости – вернулся на остров Кабрал. Изменилось само освещение, словно из воздуха убрали некий фильтр; заиграли свежие краски, все как будто переродилось. В новом году садовники дивились бурному росту насаждений и малому количеству вредителей, и даже абсолютно равнодушные к растительным красотам глаза останавливались на величественных каскадах бугенвиллеи, даже наименее чувствительные носы ощущали победную мощь жасмина, ландыша, орхидей и цветов декоративного кактуса. Казалось, гудящее возбуждение, предвкушение нового передается и старому дому; горечь и затхлость ушли из его дворов. Даже бульдог Джавахарлал помягчел нравом в новую эпоху.
Гостей стало едва ли не столько же, сколько в лучшие дни Франсишку. Молодые люди приезжали на больших лодках, чтобы поглазеть на Комнату Ауроры и провести вечер в уцелевшем доме Корбюзье, который с юношеским рвением они быстро привели в порядок; вновь на острове заиграла музыка, вновь зазвучали модные танцевальные мелодии. Даже Кармен да Гама, моя двоюродная бабушка Сахара, вошла во вкус и под предлогом присмотра за молодежью постоянно присутствовала на этих сборищах; в конце концов она уступила уговорам одного красивого юноши и, ворча и отдуваясь, но неожиданно гибко и ловко прошлась с ним в танце. Оказалось, что у нее есть чувство ритма, и в последующие вечера, когда приятели Ауроры выстраивались в очередь, чтобы пригласить Кармен, можно было видеть, как госпожа Айриш да Гама утрачивает старообразность, как она распрямляется, как ее глаза перестают косить и затравленное выражение уступает в них место робкой радости. Ей ведь еще и тридцати пяти не исполнилось, и впервые за целую вечность она выглядела моложе своих лет.
Когда Кармен начала танцевать шимми, Айриш стал поглядывать на нее с неким подобием интереса и наконец сказал:
– Может, пора и нам, взрослым, наприглашать гостей, чтобы тебе было перед кем чуток пофорсить.
Это были самые добрые слова, какие Кармен от него слышала за всю жизнь, и последующие недели она провела в безумном вихре пригласительных билетов, китайских фонариков, меню, длинных столов – вихре, переходившем в смертельно-сладкую агонию, когда она задумывалась, что надеть. В назначенный вечер на главной лужайке играл оркестр, а в бельведере домика Корбюзье – патефон, и катер привез много женщин в брильянтах и элегантных мужчин с белыми галстуками, и если иные глаза со значением вглядывались в глаза Айриша, то Кармен в этот день дней не была расположена замечать слишком много.
Лишь одного члена семьи не коснулось всеобщее оживление: в самый разгар бала на острове Кабрал ни о чем другом не мог думать Камоинш, кроме Беллы, чья красота в такой великолепный вечер затмила бы и сами звезды. Любовные отметины перестали появляться у него на теле, и теперь, когда он не мог больше цепляться за сумасшедшую надежду на ее возвращение из-за грани могилы, ослабла какая-то нить, связывавшая его с жизнью; в иные дни он даже не мог смотреть на собственную дочь, в которой слишком сильно ощущалось присутствие матери. Он как бы гневался на нее за то, что она обладает Беллой настолько, насколько ему никогда уже не обладать.
Он стоял на пристани один, держа в руке стакан с гранатовым соком. Молодая женщина, изрядно выпившая, с черными завитыми волосами и ярко-алой губной помадой, в пышном платье с буфами подошла к нему не вполне твердой походкой.
– Белоснежка! – представилась она с долей развязности. Камоинш, мысли которого были далеко, не нашелся с ответом.
– Да вы что, кинокартину не видели? – разочарованно протянула женщина. – Наконец-то идет, столько ждали, я ее, наверно, уже раз десять посмотрела. – Она показала на свое платье. – Как в фильме, не отличить! Я портному велела – чтобы в точности. Хотите, всех гномов назову? – И, не дожидаясь ответа: – Чихунсонявесельчакпростакворчунтихонялекарь. А вы кто из них будете?
Несчастный Камоинш не знал, что говорить, и просто покачал головой. Но игривую Белоснежку его молчание не обескуражило.
– Не Чихун, не Весельчак, не Лекарь, – сказала она. – Значит, Соняпростакворчунтихоня – кто? Раз вы не сознаетесь, начинаю угадывать. Соня – нет, Простак – не думаю, Ворчун – может быть, но Тихоня – точно. Не робей, Тихоня! Насвистывай за работой!
– Мисс, – предпринял попытку Камоинш, – может быть, вам вернуться к другим гостям? Мне, честно сказать, хочется побыть одному.
Белоснежка нахмурилась.
– Мистер Камоинш да Гама, важная птица из тюремной клетки, – отчеканила она. – Не может поддержать разговор с дамой, все горюет по умершей женушке, хотя с ней половина города переспала, богач-бедняк-принц-нищий. О господи, да что я говорю, не надо было, наверно…
Она повернулась, чтобы уйти, но Камоинш схватил ее за руку выше локтя.
– Вы что, пустите, синяк будет! – закричала Белоснежка. Но взгляд Камоинша был недвусмысленно требователен. – Я вас боюсь, – сказала она, пытаясь высвободить руку. – Ополоумели вы, что ли? Или пьяный? Да, наверно, пьяный. Ладно. Жаль, проговорилась я, но ведь все-все-все знают, так что и без меня это до вас бы дошло рано или поздно. А теперь хватит, хорошенького понемножку, вы, оказывается, не Тихоня, а самый настоящий Ворчун, и пойду-ка я поищу себе другого гнома.
На следующее утро к Белоснежке, которая мучилась головной болью, заявились двое полицейских и попросили ее пересказать приведенный выше разговор.
– Не понимаю, что вас интересует, я ушла, он остался на пристани, все, конец, говорить больше не о чем.
Она была последней, кто видел моего дедушку живым.
Вода нас забирает. Она забрала Франсишку и Камоинша, отца и сына. Оба погрузились в черную зеркальную гладь ночной гавани и поплыли в морскую материнскую необъятность. Течение подхватило их и унесло.
6
В августе 1939 года Аурора да Гама увидела, что торговое судно “Марко Поло” все еще стоит на якоре в кочинской гавани, и, сочтя это признаком вопиющей халатности дядюшки Айриша, выпустившего из равнодушных рук бразды правления в переходный период между смертью ее родителей и ее собственным полноправным появлением на сцене, пришла в неописуемый гнев. Она велела шоферу пулей везти ее в эрнакуламский порт, к складу № 1 частного торгового дома с ограниченной ответственностью “К-50” и вихрем ворвалась в это пещероподобное хранилище; там на мгновение остановилась, смущенная прохладным, пронизанным лучами света сумраком, обескураженная кощунственным величием уставленного джутовыми мешками собора, где запахи пачулевого масла, гвоздики, куркумы и фенугрека, тмина и кардамона витали в воздухе, словно воспоминания о хоралах, и узкие проходы между нагромождениями готовой к экспорту продукции вели то ли в ад и обратно, то ли к спасению души.
(Великое родословное древо – из малого зернышка; не закономерно ли, что моя личная история, история сотворения Мораиша Зогойби, берет начало в задержанной партии перца?)
В этом соборе были и священнослужители: экспедиторы, поминутно сверяясь с прикрепленными к дощечкам бумагами, озабоченно сновали среди кули, нагружающих свои тележки; над ними всеми возвышалась троица жутко изможденных контролеров – господин Перчандал, господин Тминсвами и господин Чиликарри, восседавшие, подобно инквизиторам, на высоких табуретах в зловещих нимбах ламп и царапавшие гусиными перьями в гигантских гроссбухах, что лежали перед ними на наклонных столах с журавлиными ножками-ходулями. Ниже этих величественных персонажей за обычным письменным столом с маленькой лампой сидел дежурный складской управляющий, на которого и спикировала Аурора, оправившись от нерешительности и требуя объяснить, почему задержана отправка судна.
– О чем там дядя себе думает? – кричала она, и это было довольно глупо, ибо откуда мог столь ничтожный червь знать, что на уме у самого господина Айриша да Гамы? – Он что, утопить хочет наше семейное состояние?
Увидев столь близко от себя самую красивую из всех представительниц рода да Гама и единственную наследницу его несметных богатств – ведь всем было известно, что господин Айриш и госпожа Кармен хозяйничают только до поры до времени, а покойный господин Камоинш оставил им не более чем содержание, хотя и щедрое, – складской управляющий был поражен словно ударом копья в самое сердце и временно онемел. Юная владычица наклонилась к нему еще ближе, зажала его подбородок между большим и указательным пальцами, пронзила управляющего самым что ни на есть негодующим взглядом – и по уши влюбилась. К тому времени, как он, совершенно ошеломленный, справившись кое-как с приступом застенчивости, пробормотал с запинкой, что между Англией и Германией объявлена война и поэтому капитан “Марко Поло” отказывается плыть в Англию – “Видите ли, возможны нападения на торговые суда”, – Аурора поняла, немало злясь на свои предательские чувства, что по причине нелепой и неуместной страсти ей придется бросить вызов правилам и обычаям своего класса и немедленно выйти замуж за этого состоящего на службе у семьи не слишком речистого красавца. “Все равно что выйти за грязного шоферюгу”, – кляла она себя в блаженном отчаянии и, погрузившись с головой в сладкий ужас своего положения, не сразу увидела на столе управляющего деревянную табличку с именем и фамилией.
– О господи, позор-то какой! – вырвалось у нее, когда белые буквы впечатались наконец в ее сознание. – Мало мне позора, что у него в кармане пусто и язык не ворочается, так он еще и еврей впридачу. – После паузы, в сторону: – Вот так, Аурора. Чем дело-то пахнет. Втюрилась в Моисея, в поганца косноязычного[34 - Библейский Моисей, когда его устами не говорил Бог, был косноязычен.].
Белые буквы таблички педантично поправили ее (предмет ее внимания, у которого голова шла кругом, во рту пересохло, сердце бухало, в ушах шумело и в паху разгорался огонь, был неспособен это сделать, вновь лишившись дара речи из-за нарастания чувств, обычно не поощряемых в служащих семейных фирм); дежурного управляющего Зогойби звали не Моисей, а Авраам. Если верно, что имя определяет судьбу, то шесть крупных букв говорили о том, что ему не суждено сокрушить фараона, дать народу заповеди и разделить воды морские; не его удел – вести кого-либо в землю обетованную. Вместо этого он возложит родного сына на алтарь свирепой любви.
А “Зогойби”?
“Неудачник” по-арабски – так, по крайней мере, утверждает свечной фабрикант Моше Коген и гласит предание в материнской ветви семьи Авраама. При этом, однако, никто в роду ни в малейшей степени не знал этого заморского языка. Даже подумать такое было грешно. “Ты только погляди, как они пишут, – сказала раз Аврааму его мать Флори. – Точно ножами колют и полосуют, даже тут одно зверство. Правда, мы тоже потомки воинов. Может, поэтому к нам и прилипло чужое андалусское прозванье”.
(Вы хотите спросить: если это фамилия матери, почему же сын?.. Отвечаю: не гоните, пожалуйста, лошадей.)
“Ты ей в отцы годишься”. Авраам Зогойби, рожденный в том же году, что и покойный Камоинш, стоял, весь напружинившийся, у отделанной внутри голубой плиткой кочинской синагоги (Плитки из Кантона. Нет двух одинаковых, – гласила надпись под образчиком на стене прихожей), источая сильный запах специй и кое-чего еще, и готовился защищаться от материнского гнева. Старая Флори Зогойби в выцветшем зеленом миткалевом платье, облизывая десны, слушала сбивчивый рассказ сына о запретной любви. Своей палкой она провела на земле черту. По одну сторону синагога, Флори, история; по другую Авраам, его богатая девица, Вселенная, будущее – всё вещи нечистые. Закрыв глаза, отвлекшись от Авраамова бормотанья и запаха, она вызвала в памяти прошлое, предвосхищая момент, когда ей придется отречься от единственного сына, потому что не случалось еще такого, чтобы кочинский еврей женился на язычнице; ведь помимо ее собственной памяти, глубже и дальше, была долгая память племени… индийские “белые евреи”, сефарды из Палестины, появились в большом числе (приблизительно десять тысяч) в 72 году нашей эры, спасаясь от преследования римлян. Обосновавшись в Крангануре, они шли в наемные войска к местным раджам. Однажды битву между правителем Кочина и “владыкой морей” – каликутским князем пришлось отложить из-за того, что еврейские воины не могли сражаться в субботу.
Она замерла.
А потом? Ведь, само собой, она была еще девочка; паника могла вызвать у нее минутный столбняк, это простительно, но, придя в себя, она, конечно, немедленно позвала на помощь домашних… неужели нет?
Придя в себя, она отступила на два шага назад; потом села на пол, скрестив ноги; и стала смотреть.
И она не почувствовала ни жалости, ни стыда, ни страха?
Она была озабочена – это да. Если приступ у Эпифании окажется несмертельным, тогда ее поведение сочтут предосудительным; даже отец разгневается. Она это знала.
И более ничего?
Она боялась, что ее увидят; поэтому она пошла и закрыла дверь церкви.
Почему тогда не пойти до конца? Почему не задуть свечи и не выключить электричество?
Все надо было оставить, как оставила Эпифания.
Значит, хладнокровное убийство. Все было рассчитано.
Если бездействие можно приравнять к убийству, то да. Если сердечный приступ Эпифании был столь серьезен, что ее оказалось невозможно спасти, то нет. Спорный случай.
Эпифания умерла?
Спустя час ее губы в последний раз зашевелились, глаза вновь обратились на внучку. Поднеся ухо к умирающему рту, Аурора услышала бабушкино проклятие.
И что же убийца? Или, справедливости ради, – та, которая, возможно, была убийцей?
Оставила дверь церкви широко открытой, как раньше, и отправилась спать…
…Но ведь не могла же она…
…и заснула безмятежным сном младенца. И проснулась рождественским утром.
Нелицеприятная правда состоит в том, что смерть Эпифании отозвалась прибавлением жизни. Какой-то давно изгнанный дух – может быть, радости – вернулся на остров Кабрал. Изменилось само освещение, словно из воздуха убрали некий фильтр; заиграли свежие краски, все как будто переродилось. В новом году садовники дивились бурному росту насаждений и малому количеству вредителей, и даже абсолютно равнодушные к растительным красотам глаза останавливались на величественных каскадах бугенвиллеи, даже наименее чувствительные носы ощущали победную мощь жасмина, ландыша, орхидей и цветов декоративного кактуса. Казалось, гудящее возбуждение, предвкушение нового передается и старому дому; горечь и затхлость ушли из его дворов. Даже бульдог Джавахарлал помягчел нравом в новую эпоху.
Гостей стало едва ли не столько же, сколько в лучшие дни Франсишку. Молодые люди приезжали на больших лодках, чтобы поглазеть на Комнату Ауроры и провести вечер в уцелевшем доме Корбюзье, который с юношеским рвением они быстро привели в порядок; вновь на острове заиграла музыка, вновь зазвучали модные танцевальные мелодии. Даже Кармен да Гама, моя двоюродная бабушка Сахара, вошла во вкус и под предлогом присмотра за молодежью постоянно присутствовала на этих сборищах; в конце концов она уступила уговорам одного красивого юноши и, ворча и отдуваясь, но неожиданно гибко и ловко прошлась с ним в танце. Оказалось, что у нее есть чувство ритма, и в последующие вечера, когда приятели Ауроры выстраивались в очередь, чтобы пригласить Кармен, можно было видеть, как госпожа Айриш да Гама утрачивает старообразность, как она распрямляется, как ее глаза перестают косить и затравленное выражение уступает в них место робкой радости. Ей ведь еще и тридцати пяти не исполнилось, и впервые за целую вечность она выглядела моложе своих лет.
Когда Кармен начала танцевать шимми, Айриш стал поглядывать на нее с неким подобием интереса и наконец сказал:
– Может, пора и нам, взрослым, наприглашать гостей, чтобы тебе было перед кем чуток пофорсить.
Это были самые добрые слова, какие Кармен от него слышала за всю жизнь, и последующие недели она провела в безумном вихре пригласительных билетов, китайских фонариков, меню, длинных столов – вихре, переходившем в смертельно-сладкую агонию, когда она задумывалась, что надеть. В назначенный вечер на главной лужайке играл оркестр, а в бельведере домика Корбюзье – патефон, и катер привез много женщин в брильянтах и элегантных мужчин с белыми галстуками, и если иные глаза со значением вглядывались в глаза Айриша, то Кармен в этот день дней не была расположена замечать слишком много.
Лишь одного члена семьи не коснулось всеобщее оживление: в самый разгар бала на острове Кабрал ни о чем другом не мог думать Камоинш, кроме Беллы, чья красота в такой великолепный вечер затмила бы и сами звезды. Любовные отметины перестали появляться у него на теле, и теперь, когда он не мог больше цепляться за сумасшедшую надежду на ее возвращение из-за грани могилы, ослабла какая-то нить, связывавшая его с жизнью; в иные дни он даже не мог смотреть на собственную дочь, в которой слишком сильно ощущалось присутствие матери. Он как бы гневался на нее за то, что она обладает Беллой настолько, насколько ему никогда уже не обладать.
Он стоял на пристани один, держа в руке стакан с гранатовым соком. Молодая женщина, изрядно выпившая, с черными завитыми волосами и ярко-алой губной помадой, в пышном платье с буфами подошла к нему не вполне твердой походкой.
– Белоснежка! – представилась она с долей развязности. Камоинш, мысли которого были далеко, не нашелся с ответом.
– Да вы что, кинокартину не видели? – разочарованно протянула женщина. – Наконец-то идет, столько ждали, я ее, наверно, уже раз десять посмотрела. – Она показала на свое платье. – Как в фильме, не отличить! Я портному велела – чтобы в точности. Хотите, всех гномов назову? – И, не дожидаясь ответа: – Чихунсонявесельчакпростакворчунтихонялекарь. А вы кто из них будете?
Несчастный Камоинш не знал, что говорить, и просто покачал головой. Но игривую Белоснежку его молчание не обескуражило.
– Не Чихун, не Весельчак, не Лекарь, – сказала она. – Значит, Соняпростакворчунтихоня – кто? Раз вы не сознаетесь, начинаю угадывать. Соня – нет, Простак – не думаю, Ворчун – может быть, но Тихоня – точно. Не робей, Тихоня! Насвистывай за работой!
– Мисс, – предпринял попытку Камоинш, – может быть, вам вернуться к другим гостям? Мне, честно сказать, хочется побыть одному.
Белоснежка нахмурилась.
– Мистер Камоинш да Гама, важная птица из тюремной клетки, – отчеканила она. – Не может поддержать разговор с дамой, все горюет по умершей женушке, хотя с ней половина города переспала, богач-бедняк-принц-нищий. О господи, да что я говорю, не надо было, наверно…
Она повернулась, чтобы уйти, но Камоинш схватил ее за руку выше локтя.
– Вы что, пустите, синяк будет! – закричала Белоснежка. Но взгляд Камоинша был недвусмысленно требователен. – Я вас боюсь, – сказала она, пытаясь высвободить руку. – Ополоумели вы, что ли? Или пьяный? Да, наверно, пьяный. Ладно. Жаль, проговорилась я, но ведь все-все-все знают, так что и без меня это до вас бы дошло рано или поздно. А теперь хватит, хорошенького понемножку, вы, оказывается, не Тихоня, а самый настоящий Ворчун, и пойду-ка я поищу себе другого гнома.
На следующее утро к Белоснежке, которая мучилась головной болью, заявились двое полицейских и попросили ее пересказать приведенный выше разговор.
– Не понимаю, что вас интересует, я ушла, он остался на пристани, все, конец, говорить больше не о чем.
Она была последней, кто видел моего дедушку живым.
Вода нас забирает. Она забрала Франсишку и Камоинша, отца и сына. Оба погрузились в черную зеркальную гладь ночной гавани и поплыли в морскую материнскую необъятность. Течение подхватило их и унесло.
6
В августе 1939 года Аурора да Гама увидела, что торговое судно “Марко Поло” все еще стоит на якоре в кочинской гавани, и, сочтя это признаком вопиющей халатности дядюшки Айриша, выпустившего из равнодушных рук бразды правления в переходный период между смертью ее родителей и ее собственным полноправным появлением на сцене, пришла в неописуемый гнев. Она велела шоферу пулей везти ее в эрнакуламский порт, к складу № 1 частного торгового дома с ограниченной ответственностью “К-50” и вихрем ворвалась в это пещероподобное хранилище; там на мгновение остановилась, смущенная прохладным, пронизанным лучами света сумраком, обескураженная кощунственным величием уставленного джутовыми мешками собора, где запахи пачулевого масла, гвоздики, куркумы и фенугрека, тмина и кардамона витали в воздухе, словно воспоминания о хоралах, и узкие проходы между нагромождениями готовой к экспорту продукции вели то ли в ад и обратно, то ли к спасению души.
(Великое родословное древо – из малого зернышка; не закономерно ли, что моя личная история, история сотворения Мораиша Зогойби, берет начало в задержанной партии перца?)
В этом соборе были и священнослужители: экспедиторы, поминутно сверяясь с прикрепленными к дощечкам бумагами, озабоченно сновали среди кули, нагружающих свои тележки; над ними всеми возвышалась троица жутко изможденных контролеров – господин Перчандал, господин Тминсвами и господин Чиликарри, восседавшие, подобно инквизиторам, на высоких табуретах в зловещих нимбах ламп и царапавшие гусиными перьями в гигантских гроссбухах, что лежали перед ними на наклонных столах с журавлиными ножками-ходулями. Ниже этих величественных персонажей за обычным письменным столом с маленькой лампой сидел дежурный складской управляющий, на которого и спикировала Аурора, оправившись от нерешительности и требуя объяснить, почему задержана отправка судна.
– О чем там дядя себе думает? – кричала она, и это было довольно глупо, ибо откуда мог столь ничтожный червь знать, что на уме у самого господина Айриша да Гамы? – Он что, утопить хочет наше семейное состояние?
Увидев столь близко от себя самую красивую из всех представительниц рода да Гама и единственную наследницу его несметных богатств – ведь всем было известно, что господин Айриш и госпожа Кармен хозяйничают только до поры до времени, а покойный господин Камоинш оставил им не более чем содержание, хотя и щедрое, – складской управляющий был поражен словно ударом копья в самое сердце и временно онемел. Юная владычица наклонилась к нему еще ближе, зажала его подбородок между большим и указательным пальцами, пронзила управляющего самым что ни на есть негодующим взглядом – и по уши влюбилась. К тому времени, как он, совершенно ошеломленный, справившись кое-как с приступом застенчивости, пробормотал с запинкой, что между Англией и Германией объявлена война и поэтому капитан “Марко Поло” отказывается плыть в Англию – “Видите ли, возможны нападения на торговые суда”, – Аурора поняла, немало злясь на свои предательские чувства, что по причине нелепой и неуместной страсти ей придется бросить вызов правилам и обычаям своего класса и немедленно выйти замуж за этого состоящего на службе у семьи не слишком речистого красавца. “Все равно что выйти за грязного шоферюгу”, – кляла она себя в блаженном отчаянии и, погрузившись с головой в сладкий ужас своего положения, не сразу увидела на столе управляющего деревянную табличку с именем и фамилией.
– О господи, позор-то какой! – вырвалось у нее, когда белые буквы впечатались наконец в ее сознание. – Мало мне позора, что у него в кармане пусто и язык не ворочается, так он еще и еврей впридачу. – После паузы, в сторону: – Вот так, Аурора. Чем дело-то пахнет. Втюрилась в Моисея, в поганца косноязычного[34 - Библейский Моисей, когда его устами не говорил Бог, был косноязычен.].
Белые буквы таблички педантично поправили ее (предмет ее внимания, у которого голова шла кругом, во рту пересохло, сердце бухало, в ушах шумело и в паху разгорался огонь, был неспособен это сделать, вновь лишившись дара речи из-за нарастания чувств, обычно не поощряемых в служащих семейных фирм); дежурного управляющего Зогойби звали не Моисей, а Авраам. Если верно, что имя определяет судьбу, то шесть крупных букв говорили о том, что ему не суждено сокрушить фараона, дать народу заповеди и разделить воды морские; не его удел – вести кого-либо в землю обетованную. Вместо этого он возложит родного сына на алтарь свирепой любви.
А “Зогойби”?
“Неудачник” по-арабски – так, по крайней мере, утверждает свечной фабрикант Моше Коген и гласит предание в материнской ветви семьи Авраама. При этом, однако, никто в роду ни в малейшей степени не знал этого заморского языка. Даже подумать такое было грешно. “Ты только погляди, как они пишут, – сказала раз Аврааму его мать Флори. – Точно ножами колют и полосуют, даже тут одно зверство. Правда, мы тоже потомки воинов. Может, поэтому к нам и прилипло чужое андалусское прозванье”.
(Вы хотите спросить: если это фамилия матери, почему же сын?.. Отвечаю: не гоните, пожалуйста, лошадей.)
“Ты ей в отцы годишься”. Авраам Зогойби, рожденный в том же году, что и покойный Камоинш, стоял, весь напружинившийся, у отделанной внутри голубой плиткой кочинской синагоги (Плитки из Кантона. Нет двух одинаковых, – гласила надпись под образчиком на стене прихожей), источая сильный запах специй и кое-чего еще, и готовился защищаться от материнского гнева. Старая Флори Зогойби в выцветшем зеленом миткалевом платье, облизывая десны, слушала сбивчивый рассказ сына о запретной любви. Своей палкой она провела на земле черту. По одну сторону синагога, Флори, история; по другую Авраам, его богатая девица, Вселенная, будущее – всё вещи нечистые. Закрыв глаза, отвлекшись от Авраамова бормотанья и запаха, она вызвала в памяти прошлое, предвосхищая момент, когда ей придется отречься от единственного сына, потому что не случалось еще такого, чтобы кочинский еврей женился на язычнице; ведь помимо ее собственной памяти, глубже и дальше, была долгая память племени… индийские “белые евреи”, сефарды из Палестины, появились в большом числе (приблизительно десять тысяч) в 72 году нашей эры, спасаясь от преследования римлян. Обосновавшись в Крангануре, они шли в наемные войска к местным раджам. Однажды битву между правителем Кочина и “владыкой морей” – каликутским князем пришлось отложить из-за того, что еврейские воины не могли сражаться в субботу.