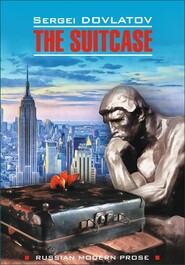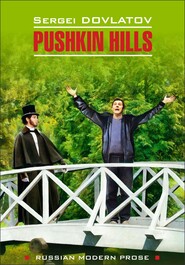По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Заповедник и другие истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А тогда я, очевидно, выпил много лишнего. Еще до приезда к Татьяне. Ну и вообразил бог знает что…
Официально мы зарегистрировались в июне. Перед тем как отправиться на Рижское взморье. Иначе мы не смогли бы прописаться в гостинице…
Шли годы. Меня не печатали. Я все больше пил. И находил для этого все больше оправданий.
Иногда мы подолгу жили на одну лишь Танину зарплату.
В нашем браке соединялись черты размаха и убожества. У нас было два изолированных жилища. На расстоянии пяти трамвайных остановок. У Тани – метров двадцать пять. И у меня две тесных комнатушки – шесть и восемь. Пышно выражаясь – кабинет и спальня.
Года через три мы обменяли все это на приличную двухкомнатную квартиру.
Таня была загадочной женщиной. Я так мало знал о ней, что постоянно удивлялся. Любой факт ее жизни производил на меня впечатление сенсации.
Однажды меня удивило ее неожиданно резкое политическое высказывание. До этого я понятия не имел о ее взглядах. Помню, увидев в кинохронике товарища Гришина, моя жена сказала:
– Его можно судить за одно лишь выражение лица…
Так между нами установилось частичное диссидентское взаимопонимание.
И все же мы часто ссорились. Я становился все более раздражительным. Я был – одновременно – непризнанным гением и страшным халтурщиком. В моем столе хранились импрессионистские новеллы. За деньги же я сочинял литературные композиции на тему армии и флота.
Я знал, что Тане это неприятно.
Бернович назойливо повторял:
– К тридцати годам необходимо разрешить все проблемы, за исключением творческих…
Мне это не удавалось. Мои долги легко перешли ту черту, за которой начинается равнодушие. Литературные чиновники давно уже занесли меня в какой-то гнусный список. Полностью реализоваться в семейных отношениях я не хотел и не мог.
Моя жена все чаще заговаривала об эмиграции. Я окончательно запутался и уехал в Пушкинские Горы…
Формально я был холост, здоров, оставался членом Союза журналистов. Принадлежал к симпатичному национальному меньшинству. Моих литературных способностей не отрицали даже Гранин и Рытхэу.
Формально я был полноценной творческой личностью.
Фактически же пребывал на грани душевного расстройства…
И вот она приехала, так неожиданно, я даже растерялся. Стоит и улыбается, как будто все хорошо.
Я слышу:
– Ты загорел…
И потом, если не ошибаюсь:
– Дорогой мой…
Спрашиваю:
– Как Маша?
– Недавно щеку поцарапала, такая своевольная… Я привезла консервы…
– Ты надолго?
– Мне в понедельник на работу.
– Ты можешь заболеть.
– Чем же я заболею? – удивилась Таня.
И добавила:
– Между прочим, я и так нездорова…
Вот это логика, думаю…
– Да и неудобно, – говорит Татьяна, – Сима в отпуске. Рощин в Израиль собирается. Ты знаешь, Рощин оказался Штакельбергом. И зовут его теперь не Дима, а Мордхе. Честное слово…
– Я верю.
– Сурисы пишут, что у Левы хорошая работа в Бостоне…
– Давай я отпрошусь?
– Зачем? Мне хочется послушать. Мне хочется видеть тебя на работе.
– Это не работа. Это халтура… А ведь я двадцать лет пишу рассказы, которые тебя совершенно не интересуют…
– Раньше ты говорил – пятнадцать. А теперь уже – двадцать. Хотя прошло меньше года…
Поразительная у нее способность – выводить меня из равновесия. Но ссориться было глупо. Ссорятся люди от полноты жизни…
– Мы, – говорю, – тут вроде затейников. Помогаем трудящимся культурно отдыхать.
– Вот и хорошо. Коллеги у тебя приличные?
– Разные. Тут местная одна работает – Лариса. Каждый день рыдает у могилы Пушкина. Увидит могилу и – в слезы…
– Притворяется?
– Не думаю… Однажды туристы ей кухонный набор подарили за сорок шесть рублей.
– Я бы не отказалась…
Тут Галина назвала мою фамилию. Прибыли туристы из Липецка.
Я сказал Татьяне: