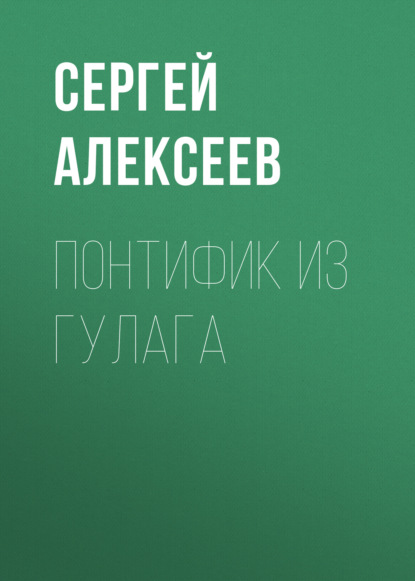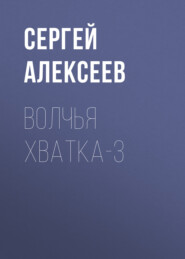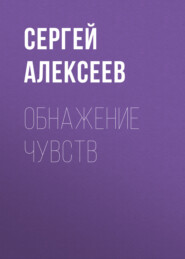По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Понтифик из Гулага
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А что делать станем? Давай в карты сыграем?
Булькающий был куда серьёзнее.
– Мы пока костерок разведём, заклёпки погреем.
От их неторопливого разговора повеяло чем-то зловещим и неотвратимым, даже глаза перестало резать, и сквозь щёлки пальцев пробился вполне терпимый свет.
Ещё ночью, будучи в руках похитителей, Патриарха озаряла мысль, что насилие это творится, как расплата за прошлое, но тогда подобное озарение почудилось вздором. Или, скорее, было затушёвано сиянием чувства исполненного долга, в котором он пребывал и физически ощущал, что бы с ним ни происходило. Это чувство будто навсегда и безвозвратно отрезало всё прошлое, и соединить его с настоящим было невозможно.
Как человек, переживший несколько режимов, взлётов и падений, с ними связанных, он понимал, что нынешнее патриаршество не бесконечно. Он чуял, как власть уже устаёт от перманентного пересмотра истории, уничижения прошлых героев и возвеличивания новых, незаслуженно забытых, не признанных в своё время. Власти когда-то потребовалась доза свежей, горячей, бодрящей крови, влитой в её жилы. И вот переливание закончилось, подпитка состоялась, власть перестала нуждаться в донорстве, необходимом в период становления, утверждения, декларации намерений. Теперь подходит срок, когда прежние питающие своей кровью личности становятся лишними. Власти требуются другие доноры, с молодой, живительной кровью; власти всё время необходимо обновление, омоложение, дабы выглядеть привлекательной. Если вскормившие её старцы уходят в мир иной сами, то им и место на Новодевичьем, и воинские почести, и слава на века. А если как он, ещё и не помышляющий о смерти? Напротив, заполучив вечный титул патриарха, продолжает давать советы, как строить новое общество, и при этом подписывает декларации и проекты законов, от которых власть уже коробит или вовсе тошнит? Даже стали поговаривать, мол, Патриарх нынче выглядит, как Григорий Распутин при дворе: если такая личность появилась в высших эшелонах власти, значит, той скоро конец. Мол, старец всюду суёт нос, да ещё тянет за собой въедливых и ненасытных чёрных вдов, вечно жаждущих крови власть имущих…
Правда, не вяжется тут символизм в организации похищения, как-то нелепо выглядит скрытое предупреждение, хотя, при всём том, иезуитский почерк узнаваем…
Так он думал, пока не очутился на обочине просёлка и пока не явились эти двое на скрипучей телеге. И опять пробило: месть за прошлое! С какой бы стати его назвали не просто по фамилии, а с приложением слова «товарищ», от которого он напрочь отвык более полувека назад? А ещё более четверти века именовался не иначе, как гражданин?
Когда же нерасторопные балагуры сбросили с телеги какое-то железо и развели большой костёр прямо на дороге, Патриарх всё же приоткрыл глаза и сквозь расплывчатую слёзную пелену различил двух совершенно незнакомых, монашеского вида, мужиков: вроде, в серых подрясниках, и шапчонки на головах тряпичные. Один сиплый, пегобородый, с рыжиной, у второго чёрная бородища, залысины проглядывают и кузнечный инструмент в руках.
– Дак чего? – спросил этот сиплый. – Заклёпки разогрели. Станем железа накладывать?
– Может, лесничего подождём? – пробулькал чёрный густым неторопким басом. – Вдруг не того привезли, как в прошлый раз…
– Всё одно, того, не того. Отсюда назад не отпустят. А велено всякого в железа.
Они подтащили цепи с прикованной чуркой, приготовили увесистую кувалду вместо наковальни и молоток. Патриарх взирал на всё это сквозь слёзы и чуял, как привычное желание противиться насилию исчезает вместе с глазной болью. И стремительно угасает яркий, режущий свет.
– Давай, товарищ, подставляй ноги сам, – посоветовал булькающий. – Противиться нам – себе дороже. В кандалы приказано обрядить.
И уже в который раз со времени похищения его осенила совершенно новая мысль: да это же всё придумано и воплощено конкурентом, соперником!
Врагов у Патриарха не было, но ревнитель и завистник всё-таки существовал, явный и в единственном лице – Московский Патриарх, честь и славу коего демонстративно стяжали, позволяя называть закоренелого безбожника духовным званием. А соперник и виду не показывал, при встречах они мирно и благодушно раскланивались, по установившейся традиции не подавая друг другу руки. Предводитель духовенства явно знал о прошлом светского Патриарха и должен был бы всячески его поддерживать и благодарить за борьбу с бесовщиной и еретиками. Всё-таки общее дело делали, хотя один бился с крестом в руках, другой, как воинствующий безбожник, но с одним и тем же врагом – сектантами. И Московский Патриарх до поры если и не ценил старания своего невольного соратника, то относился к ним терпимо, с пониманием. Однако в последнее время вдруг отшатнулся, перестал замечать, и близкие друзья, причастные к делам церкви, стали сообщать о ревностном или даже нетерпимом к нему отношении.
Власть наконец-то позволила духовному Патриарху низвергнуть светского соперника: сам бы никогда не решился на столь кардинальную расправу! Ходил, наверное, и шептал на ухо – Патриарх в государстве должен быть один…
Почти не прикрытое похищение, заготовленные оковы-железа, монастырские послушники – это всё изобретения из его арсенала. Чем старше и немощней становился Московский Патриарх, тем всё более тяготел к средневековым традициям, полагая, что таким образом можно вернуть былую крепость веры. Скорее всего, списанному со счетов светскому Патриарху уготовили участь тайного сидельца в юзилище какой-нибудь заштатной обители…
Осенённый своей догадкой, Патриарх воспрял: всё, что ни делается – к лучшему! Самое главное, долг всей жизни уже исполнен, наследство завещано, груз обязательств снят, и всё остальное не страшно.
Он протянул ноги волосатому мучителю, словно принимая брошенный вызов.
– Сделай милость, раб божий! Забей меня в кандалы!
– Забивают в колодки, – поправил его палач, – а железа налагают.
– Это тебе лучше знать!
Послушник недоверчиво глянул, но завернул штанины и пощупал щиколотки.
– А ноги у товарища-то совсем тоненькие! – изумился он. – И стопа сухая. Выскочит ведь.
– Надо было размер снять заранее, – съязвил Патриарх.
– Твой размер знаем, – серьёзно и как-то угрожающе пробулькал палач. – Должно, усох ты за эти годы. Пешим не ходил, панствовал… Чего делать-то станем, Михайло?
– Может, так везти, без железа? – предположил тот. – Если не по размеру?
– Велено заковать!
– Тогда думай сам! Ты мастер кузнечных дел.
– Что тут думать? – отозвался булькающий, верно, и в самом деле знакомый с кузнечным ремеслом. – Разогреем да сомнём поуже. По панским ножкам и будет.
Они и в самом деле сунули в огонь кольца кандалов, нагрели их и, удерживая клещами, придали овальную форму. Потом остудили в луже, примерили к щиколоткам, снять попробовали.
– Годится!
Чтоб сковать ноги, у них ушло минуты три: в отверстия оков вставляли разогретые малиновые заклёпки – по две на каждую ногу, легко плющили их и тут же поливали водой. И ещё спрашивали участливо:
– Не жжёт?
Ручные железа оказались впору, только вот дырок насверлили не того диаметра, пришлось слегка раскатывать заклёпки и забивать их как гвозди, зато уже намертво.
– Не жмут? – всё ещё ехидно интересовался сиплый. – Ты, если чего, так скажи, пока не забили. А то ведь тебе сидеть в этих железах придётся вечно.
«Красавец! – восхищённо подумал Патриарх о своём московском сопернике. – Либретто к опере писал сам! Чувствуется рука знатока…»
И попробовал железа на вес. Кандалы оказались прикованными к ножным, и всё вместе – к дубовой чурке с врезанными обручами, весом пуда в полтора. Послушники помогли её донести и погрузить в телегу.
– Поехали! Глядишь, и лесничего встретим.
Зная его близость к театральному и оперному искусству, особое влияние на их деятелей, а значит, и репертуары, соперник однажды посетовал, что на сценах Москвы никак не звучит тема подвига во имя веры. «Жизнь за царя» и Сусанин есть, где-то опера про лётчика Маресьева идёт, леди Макбет на всех подмостках. А, к примеру, о патриархе Никоне, окончившем земной путь в юзилище Ферапонтова монастыря, ни слова и ни звука. Ведь это не только духовный лидер своего времени, а ещё драматургически интереснейшая, трагическая личность! Посетовал будто бы так, между прочим, размышляя и не требуя ответа, однако же, обязался самолично помочь с подбором исторического материала и много чего рассказать о нравах и обычаях той эпохи.
Вспомнив этот случай, Патриарх окончательно уверился, кому обязан кандалами и своей новой ролью тайного затворника. И роль ему, безусловно, нравилась, открывала новые и совершенно неожиданные возможности: о похищении, точнее, исчезновении его уже известно чёрным вдовам и всем, кому надо. Сегодня рано утром Екатерина обнаружит его отсутствие в квартире – сначала по телефону, затем самолично, и уже к девяти будет у Генерального прокурора. А к полудню Бабы Яги съедутся и поднимут штормовую волну, которая захлестнёт вялотекущую придворную жизнь. Пропал не бомж и даже не банкир или олигарх – светский Патриарх, известный деятель искусств и Президент Фонда защиты прав человека. Только бы у вдов хватило ума не привлекать могущественную Жабу! Нашли бы способ обойтись без её пробивной силы…
В узких и самых широких кругах одновременно, Жабой звали известную правозащитницу, предки которой выжили благодаря тому, что оказались дальними родичами Ленина, потом безбедно жили в период Советской власти. И сама Жаба в юности этим же козыряла, верховодя в комсомоле, говорят, красавица была писаная, все секретари засматривались. Они тогда были подругами с чёрной вдовой Еленой, работали в одном отделе ЦК ВЛКСМ. Однако строптивая родственница вождя или кому-то нужному не отдалась, или вовремя переориентировалась, но, возможно, в самом деле, заболела – история тёмная. В общем, очутилась в психушке, говорили, умышленно, чтобы переродиться в борца с системой и наследием своего родича. Говорят, перепрограммировали психику в психбольницах с помощью каких-то экспериментальных препаратов. Власть думала, прячет инакомыслящих в больницы и лечит их, а на самом деле оказалось – плодит!
Жаба и впрямь вышла другим человеком, полным антагонистом, ярым антисоветчиком и без каких-либо признаков женственности. Говорят, препарат был несовершенен, и красота шла в обмен на идейную убеждённость. Патриарх сторонился таких соратников и заклинал своих бабок Ёжек не привлекать её ни в каких случаях, ибо она одним только своим видом низводит до земноводности самые высокие, эфирные замыслы.
Конечно, если власть причастна, то ко всему этому готова, сделает вид, будто лихорадочно ведёт розыск, устанавливает виновных и громче всех кричит «держи вора!». Даже если везут в самый захудалый и неприметный монастырь, о нём уже к вечеру станет известно чёрным вдовам, и сюда хлынет поток сподвижников, друзей и прессы – такую дорогу набьют в глухомань! Процесс станет неуправляемым, как и всё стихийное в этой стране, где любая перелицованная истина становится культом. Жабу даже привлекать не нужно, сама выползет на экраны, ибо чует, где густо насекомых, комаров да мошек.
Разумеется, его найдут в цепях, и разразится неслыханный скандал…
И тут логично развивающаяся мысль словно на стену наткнулась. Нет, московский соперник не мог так просто подставиться, даже с согласия или подачи властей! Даже если она, власть, станет подталкивать его к такой грубоватой операции при клятвенной гарантии, что похищенного никогда не найдут. Мудрый, дипломатичный и не лишённый провидчества, Московский Патриарх верил только Богу и сразу бы узрел конечный замысел: таким образом избавиться от влияния обоих патриархов. Он всё просчитает, прежде чем заковывать соперника в кандалы, и при малейшем сомнении никогда не совершит махровой, пригодной разве что для оперного театра, средневековой глупости…
Впервые за всё время злоключений вдруг пригасло искристое чувство исполненного долга, и у Патриарха засосало под ложечкой. Озаряющие сознание мысли закончились, и происходящим событиям не было вразумительных объяснений. Кроме единственного: во всём виновато наследство, которое он успел передать. А эти люди – опоздавшие, спохватились и теперь, судя по кандалам, пытать станут не только голодом, холодом и жаждой, к которым он уже привык. И надо готовиться к самому худшему: физической боли, к психотропным препаратам, к гипнозу и прочей современной чертовщине.
Между тем скрипучая, древняя телега, запряжённая горячим, гнедым жеребцом, катила лесным виляющим просёлком как-то уж очень мягко, словно рессорная коляска. Совсем не трясло, не тарахтело на колдобинах, только цепи на руках бархатно позванивали, и слышалось пение птиц в трепещущей листве.
В прошлом Патриарх был музыкантом, однако до сей поры в отвлечённом состоянии сознания начинал мыслить звуками и по ним выстраивать грядущий финал. Кажется, сейчас он испытывал бравурное состояние приподнятых чувств, и музыка окружающей природы вторила ему. Зрение окончательно привыкло к свету, хотя глаза ещё слезились, и изредка проносились радужные сполохи, но при этом Патриарх успевал всё замечать. В том числе и некоторые странные предметы у дороги – старые, обветшалые столбики с деревянными фонарями, сквозь мутные стёкла которых мерцали горящие свечи. Где-то он уже видел подобные маячки и при этом испытывал то же чувство недоумения, как сейчас: кто ходит и зажигает свечи вдоль всей дороги?..