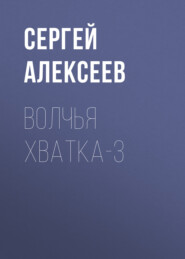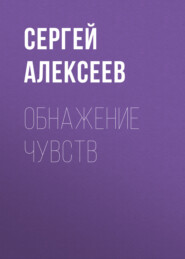По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волчья хватка-2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, давай думай, шевели мозгами! – торопил сирый. – Я тебе дело предлагаю! Соглашайся!
– Не за кукушкой сюда пришел, – тоскливо пробурчал Ражный, чтоб не выдавать чувств.
– Да ты постой! – Калик огляделся и сунулся к уху: – Так и быть, открою тебе одну тайну… Только смотри, проболтаешься – мне хана!
– Открывай.
– Поклянись, что не выдашь бренку!
– Слово аракса.
– Но сначала научи оборотничеству.
– Нет, сначала открывай тайну.
– Э-э, не пойдет! Я тебе открою, а ты скажешь: «Я не умею волком оборачиваться!»
– В самом деле не умею.
– Да ты просто жмот! Скупердяй! Тебе жалко поделиться своей наукой! Ты даже готов судьбу свою изломать от жадности!
– Беда в том, что я не оборотень.
Сирый недоверчиво ухмыльнулся:
– Все Ражные умели оборачиваться, а ты нет?
– Болтовня.
– Так и так узнаю! Чего скрывать? Бренка из тебя все вытряхнет, а я у него потом спрошу свою долю.
– Ну спроси…
Калик завязал свою котомку и забросил за плечи.
– Ох, и упертый же ты! Зачем я вызвался вести тебя? Думал, ну хоть что у тебя выманю. И не для себя, не для своей выгоды!.. Добро, пошли к сороке так, бесплатно. Рана-то гноится…
2
Голован вез Молчуна в багажнике, чтобы не привлекать к себе внимания, всю дорогу навязчиво думал о волке и просил у него прощения, как у человека. Он не рискнул снимать с него пут, а лишь чуть ослабил их на лапах и развязал зверя уже в своей вотчине, когда принес в сарай.
– Только не надо мстить людям… – В последнюю очередь он разрезал веревку, стягивающую пасть, и выскочил из сарая.
Волк выплюнул палку, заложенную между челюстей, и наконец-то задышал вольно, вывалив мешающий язык. После чего дотянулся до раны на брюхе, полизал коросту, побродил, слепо тыкаясь в стены, и лег на солому. Понаблюдав за ним сквозь щель, Голован успокоился и, поскольку мяса у него не было – из всей домашней твари держал лишь курочек да пчел, – сварил зверю каши на сухом молоке.
– Придется тебе попоститься, – сказал, подсовывая миску под дверь. – Я потом съезжу на ферму и привезу дохлого теленка.
Молчун даже не понюхал пищи, а может, запаха не почуял, поскольку из носа все еще текла сукровица с гнойными сгустками, которую он пытался выбить, часто чихая.
Голован осмелел, вошел к волку и подставил миску поближе:
– Давай ешь. Надо жить…
Зверь отвернулся, лег на бок и позволил осмотреть себя. Конечно, ему было не до еды: кроме мокнущей раны на брюхе, была еще одна, посерьезнее – пустая, забитая коростой, глазница. Второй глаз совсем затянулся бельмом и, что как-то неприятно потрясло священника, кровоточил, напоминая о кровавых слезах и муках.
Голован никогда не занимался лечением, тем паче животных, если не считать святой воды, за которой приходили к нему дачники и старушки из ближних деревень. Промывать раны и окроплять ею зверя отец Николай посчитал за кощунство, равно как и молиться за его здравие, поэтому привез колхозного ветеринара, бывшего теперь на пенсии. Тот хоть и с опаской и с помощью Голована, но все-таки осмотрел Молчуна и даже в вытекшем глазу поковырялся.
– Откуда у тебя волк-то? – спросил.
– Да приблудился… – В общем-то это была святая ложь. – Пришел за помощью…
– А кто же ему брюхо зашил?
– Я и зашил…
– Первый раз вижу – берестой…
– Ну не нитками же зашивать?
– Знаешь что, батюшка, – огорченно сказал ветеринар, – пожалуй, я принесу ружье. Нечего тут лечить…
И тотчас оба, услышав тихий, гортанный рык, ретировались за дверь. Пенсионер ничего не понял, вернее, расценил это как непредсказуемость дикого зверя, однако Голована охватило холодком.
– Не надо ружья…
– Сдохнет… У него огромный гнойник в черепной коробке, поэтому из носа течет.
– Как уж Богу угодно будет, – положился на небесную волю отец Николай.
– А что, батюшка, ты считаешь, и дикие звери под Богом ходят? – усмехнулся ветеринар.
– Кто создал тварь, под тем она и ходит…
Голован отвез пенсионера домой и, вернувшись, сразу же пошел в сарай к Молчуну.
– Неужто ты, брат, и речь человеческую понимаешь? – спросил, присев возле него. – Не пугай меня, лучше уж оставайся зверем, раз в зверином облике.
Волк обернулся на его голос и тихо заскулил.
Два дня он лакал только воду, изредка зализывал рану на брюхе и скулил у двери, царапал ее когтями – просился на волю. Должно быть, ветеринар был прав, зверь гнил заживо и все чаще тряс головой, пытаясь избавиться от боли, и все реже вставал, но страдал как-то молча, невыразительно, и поэтому его муки не воспринимались так остро, как если бы на его месте было домашнее животное. Вначале Голован не хотел отпускать волка, опасаясь, что тот пойдет в деревню, напугает людей или попадет под выстрел зайчатников, которые по выходным охотились в окрестностях. Но потом вдруг подумал, что зверь, возможно, сам отыщет необходимую лечебную траву, корешки, и однажды открыл ему дверь. Молчун вяло побродил возле сарая, то и дело натыкаясь на деревья, прошел по дубраве, затем нагреб кучу листвы и, покрутившись волчком, лег на пригорке возле церкви.
Отец Николай решил, что волк просился из темного сарая, чтобы умереть на воле, пусть и под тусклым, осенним, но солнцем, и не стал ему мешать.
Несмотря на предзимнее безлюдье и отсутствие прихожан, Голован каждый день утром и вечером открывал храм и служил в одиночку, исполняя обязанности звонаря, дьякона и священника, поскольку из-за скудости прихода таковых ему не полагалось. Лампадки продолжали гореть до самой весны, поэтому он сам подливал масло, зажигал перед службой и тушил потом свечи, раскуривал кадило, подметал каменный пол в холодном храме и протирал пыль – пока с первыми проталинами не появлялся народ, среди которого было достаточно пожилых пенсионерок, добровольно прислуживающих и считающих это за особую честь. Единственными событиями, как-то нарушающими этот зимний ритм жизни, были в основном причащение тяжелобольных, а потом отпевание и похороны, когда умирали местные старики и старушки; отец Николай давно никого не крестил, тем паче новорожденных младенцев – рожать уже некому было.
И вообще никогда не венчал.
Если не считать благочинного, который наведывался всего раз перед Великим постом, то получается, всю зиму Голован разговаривал только с Богом.
– Не за кукушкой сюда пришел, – тоскливо пробурчал Ражный, чтоб не выдавать чувств.
– Да ты постой! – Калик огляделся и сунулся к уху: – Так и быть, открою тебе одну тайну… Только смотри, проболтаешься – мне хана!
– Открывай.
– Поклянись, что не выдашь бренку!
– Слово аракса.
– Но сначала научи оборотничеству.
– Нет, сначала открывай тайну.
– Э-э, не пойдет! Я тебе открою, а ты скажешь: «Я не умею волком оборачиваться!»
– В самом деле не умею.
– Да ты просто жмот! Скупердяй! Тебе жалко поделиться своей наукой! Ты даже готов судьбу свою изломать от жадности!
– Беда в том, что я не оборотень.
Сирый недоверчиво ухмыльнулся:
– Все Ражные умели оборачиваться, а ты нет?
– Болтовня.
– Так и так узнаю! Чего скрывать? Бренка из тебя все вытряхнет, а я у него потом спрошу свою долю.
– Ну спроси…
Калик завязал свою котомку и забросил за плечи.
– Ох, и упертый же ты! Зачем я вызвался вести тебя? Думал, ну хоть что у тебя выманю. И не для себя, не для своей выгоды!.. Добро, пошли к сороке так, бесплатно. Рана-то гноится…
2
Голован вез Молчуна в багажнике, чтобы не привлекать к себе внимания, всю дорогу навязчиво думал о волке и просил у него прощения, как у человека. Он не рискнул снимать с него пут, а лишь чуть ослабил их на лапах и развязал зверя уже в своей вотчине, когда принес в сарай.
– Только не надо мстить людям… – В последнюю очередь он разрезал веревку, стягивающую пасть, и выскочил из сарая.
Волк выплюнул палку, заложенную между челюстей, и наконец-то задышал вольно, вывалив мешающий язык. После чего дотянулся до раны на брюхе, полизал коросту, побродил, слепо тыкаясь в стены, и лег на солому. Понаблюдав за ним сквозь щель, Голован успокоился и, поскольку мяса у него не было – из всей домашней твари держал лишь курочек да пчел, – сварил зверю каши на сухом молоке.
– Придется тебе попоститься, – сказал, подсовывая миску под дверь. – Я потом съезжу на ферму и привезу дохлого теленка.
Молчун даже не понюхал пищи, а может, запаха не почуял, поскольку из носа все еще текла сукровица с гнойными сгустками, которую он пытался выбить, часто чихая.
Голован осмелел, вошел к волку и подставил миску поближе:
– Давай ешь. Надо жить…
Зверь отвернулся, лег на бок и позволил осмотреть себя. Конечно, ему было не до еды: кроме мокнущей раны на брюхе, была еще одна, посерьезнее – пустая, забитая коростой, глазница. Второй глаз совсем затянулся бельмом и, что как-то неприятно потрясло священника, кровоточил, напоминая о кровавых слезах и муках.
Голован никогда не занимался лечением, тем паче животных, если не считать святой воды, за которой приходили к нему дачники и старушки из ближних деревень. Промывать раны и окроплять ею зверя отец Николай посчитал за кощунство, равно как и молиться за его здравие, поэтому привез колхозного ветеринара, бывшего теперь на пенсии. Тот хоть и с опаской и с помощью Голована, но все-таки осмотрел Молчуна и даже в вытекшем глазу поковырялся.
– Откуда у тебя волк-то? – спросил.
– Да приблудился… – В общем-то это была святая ложь. – Пришел за помощью…
– А кто же ему брюхо зашил?
– Я и зашил…
– Первый раз вижу – берестой…
– Ну не нитками же зашивать?
– Знаешь что, батюшка, – огорченно сказал ветеринар, – пожалуй, я принесу ружье. Нечего тут лечить…
И тотчас оба, услышав тихий, гортанный рык, ретировались за дверь. Пенсионер ничего не понял, вернее, расценил это как непредсказуемость дикого зверя, однако Голована охватило холодком.
– Не надо ружья…
– Сдохнет… У него огромный гнойник в черепной коробке, поэтому из носа течет.
– Как уж Богу угодно будет, – положился на небесную волю отец Николай.
– А что, батюшка, ты считаешь, и дикие звери под Богом ходят? – усмехнулся ветеринар.
– Кто создал тварь, под тем она и ходит…
Голован отвез пенсионера домой и, вернувшись, сразу же пошел в сарай к Молчуну.
– Неужто ты, брат, и речь человеческую понимаешь? – спросил, присев возле него. – Не пугай меня, лучше уж оставайся зверем, раз в зверином облике.
Волк обернулся на его голос и тихо заскулил.
Два дня он лакал только воду, изредка зализывал рану на брюхе и скулил у двери, царапал ее когтями – просился на волю. Должно быть, ветеринар был прав, зверь гнил заживо и все чаще тряс головой, пытаясь избавиться от боли, и все реже вставал, но страдал как-то молча, невыразительно, и поэтому его муки не воспринимались так остро, как если бы на его месте было домашнее животное. Вначале Голован не хотел отпускать волка, опасаясь, что тот пойдет в деревню, напугает людей или попадет под выстрел зайчатников, которые по выходным охотились в окрестностях. Но потом вдруг подумал, что зверь, возможно, сам отыщет необходимую лечебную траву, корешки, и однажды открыл ему дверь. Молчун вяло побродил возле сарая, то и дело натыкаясь на деревья, прошел по дубраве, затем нагреб кучу листвы и, покрутившись волчком, лег на пригорке возле церкви.
Отец Николай решил, что волк просился из темного сарая, чтобы умереть на воле, пусть и под тусклым, осенним, но солнцем, и не стал ему мешать.
Несмотря на предзимнее безлюдье и отсутствие прихожан, Голован каждый день утром и вечером открывал храм и служил в одиночку, исполняя обязанности звонаря, дьякона и священника, поскольку из-за скудости прихода таковых ему не полагалось. Лампадки продолжали гореть до самой весны, поэтому он сам подливал масло, зажигал перед службой и тушил потом свечи, раскуривал кадило, подметал каменный пол в холодном храме и протирал пыль – пока с первыми проталинами не появлялся народ, среди которого было достаточно пожилых пенсионерок, добровольно прислуживающих и считающих это за особую честь. Единственными событиями, как-то нарушающими этот зимний ритм жизни, были в основном причащение тяжелобольных, а потом отпевание и похороны, когда умирали местные старики и старушки; отец Николай давно никого не крестил, тем паче новорожденных младенцев – рожать уже некому было.
И вообще никогда не венчал.
Если не считать благочинного, который наведывался всего раз перед Великим постом, то получается, всю зиму Голован разговаривал только с Богом.