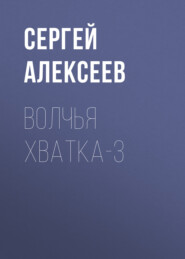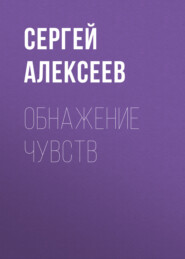По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Изгой Великий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не по достоинству было македонскому царю, владыке всей Эллады, спешиваться и поднимать монету, а из седла почудилось, золото померкло и аспидная чернь залила чеканку.
– Добро, – повиновался он и, вынув меч, помчался к краю поля.
Разъехавшись на стадию перед своими ратями, они обернули лошадей друг к другу и на минуту замерли. Македонцы наконец-то выстроились в боевые порядки на пологом склоне холма, и хотя фаланги ещё выравнивали ряды, однако уже ощерились сариссами, прикрылись щитами и теперь были неприступны со всех сторон. Две конницы на флангах встали клиньями, а третья, из гетайров, в середине, на стыке двух полков, чтобы в любой миг прийти царю на помощь.
Солнце над их головами было чёрным, и тень аспидная уже покрывала войско…
Скуфь же хоть и стояла могучим и единым конным клином, однако вольно, с поднятыми копьями и луками в колчанах. Иные ватаги их полков и вовсе от скуки затевали игры, понуждая лошадей своих бодаться головами – кто кого столкнёт, или перетягивали дротики, норовя соседа из седла исторгнуть. И хохотали громко, коль всадник падал наземь.
А их князь, позрев на своё войско и на супротивника, вдруг меч повертел в деснице и с силой вонзил его в землю, конь порскнул в сторону.
– Довольно и бича!
Выхватив его из-за опояски, раскинул по земле и громко щёлкнул. И тем самым будто подстегнул Буцефала. Могучий жеребец присел и, ровно тигр разъярённый, с места понёс намётом. Царь вскинул меч, и рука в тот час намертво срослась с рукоятью, став продолжением клинка, а сам он сросся с лошадью, как срастаются два древа из единого корня. Живая, горячая плоть коня слилась с плотью всадника, кровь с кровью, нерв с нервом, и теперь вся их мощь, как молния из тучи, воплотилась в лезвии меча.
Уже не солнце сверкало в нём – аспидная чума, и след оставался чёрен…
Проникнув ветшающим умом сквозь время, отбитое копытами, он видел, как под его чёрным мечом, подобно зрелой тыкве, разваливается плоть супостата и из оранжевого чрева брызжет сок и семя зрелое, спадая наземь чёрным дождём.
Он и не мыслил чего-нибудь иного! В тот миг он зрел победу!
Однако свист бича, как свист борея, вмиг охладил уста и голову. Приросший меч вдруг вылетел из десницы, а сам он – из седла. И перед очами не свет полыхнул – чёрная земля!
– Зопир! Убей его! – воскликнул Александр, но крик, обращённый в землю, в ней и потоп.
И голос сверху был:
– Ужо, царь, упокойся. Тебе срок пришёл. Не я убью – аспидная чума…
Перед ним стоял архонт Ольбии, суть варвар! И, наступив на грудь облезлым сапогом, выдавливал из чрева душу. И та душа ещё противилась, цеплялась за вместилище, ершилась, не желая исторгаться из тела благодатного.
– Зопир! Зопир! – звал ещё он. – Зопир, убей!
Но откликался конь: где-то рядом ржал, встревоженный и чуткий к зову, и не бежал на зов. Только его глаз дрожащий, как огонёк свечи, мерцал перед воспалённым взором.
И снова враг восстал с бичом:
– Никто не придёт на помощь! Кроме меня.
– Тогда ты убей! – царь меч искал в траве. – Пронзи мечом! Я воин, мне недостойно пасть от бича! И от чумы позорно!
Князь поднял его на ноги и, осмотрев, вдруг сдобрился:
– Пожалуй, пощажу тебя.
– Пощадой станет смерть от твоей руки! Иначе аспидная чума расправится… Я обречён жить только до восхода…
– Да, царь, мор скоротечен, – бич сматывая в кольцо, вздохнул архонт. – Коль не вкусить лекарства, восход тебя спалит. Мы вот вкусили и ныне ждём, когда борей очистит город… Но если ты попросишь, царь, я дам тебе бальзам.
Ум угасал, а вкупе с ним – гордыня.
– Так мало прожил, – пожаловался он. – А был рождён для дел великих… И ничего не испытал! Я даже не любил ещё!..
– Что же ты делал, отрок?
– Учился. И постигал науки…
– А помнишь, кто ты есть? Кроме того, что царь Македонии и тиран Эллады?
– Я сын Мирталы…
– И что ещё?
– Сын своего отца…
– Этого мало…
– Старгаст мне говорил, рождён был Гоем! – сквозь мрак прорвалась мысль. – В тот час, когда на небосклоне звёзды сошлись в единый круг. Нет, напротив, выстроились в ряд… Впрочем, я плохо помню его науку. Но жажду жить и испытать себя!
Князь чуб свой намотал на ухо и покрыл бритую голову валяной шапкой. Перед взором осталась лишь подкова серьги, торчащая из уха. Но и она померкла – зрение угасало вкупе с сознанием.
– Добро, лекарство дам, – заключил рус. – Мне ведомо, аспидная чума чернит сознание и гасит ум. Но мужества исполнясь, след затвердить тебе: болезнь вновь явится, как только посягнёшь на свет чужих святынь. Ты не умрёшь при этом – сам обратишься в снадобье, источая целительный бальзам… Ну, всё запомнил?
В тот миг зачумлённый, он не внял, да и не способен внять был его словам, тем паче проникнуть в их смысл. В подобных случаях он обращался к учителю, который разъяснял все хитросплетения мыслей и явлений. Сейчас, сквозь мрак в глазах, сквозь жар, что корёжил тело, он вспомнил Ариса.
– Там, в шатре, философ, – промолвил Александр. – Мой учитель… Я связан с ним, как пуповиной. Дай ему бальзам! А он мне растолкует, как поступать…
– Учителя излечишь сам, – был ответ. – Коль пожелает… Ты прежде взгляни на то лекарство, коим скуфь лечится!
– Но я уже ничего не вижу!
– В сей час прозреешь…
Сказал так и чем-то намазал ему глаза. Царь с трудом разлепил веки – перед ним оказалась лохань, обвязанная ссученной вервью. В ней лежал издыхающий чумной, в коростах безобразных, с уст и тела струился гной.
– Да, вид мерзостный, – согласился рус. – Зри, что ждёт тебя, коль покусишься на святыни, – сия лохань. Философ не учил, я преподам урок. Запомни, царь: яд всегда слаще и приглядней. Противоядие срамно и горько…
И щедрой рукой зачерпнув гноя, поднёс к его устам…
– На вот, вкуси бальзам…
3. Эпирская жена Миртала
Филипп почти исторг из обычаев придворных грубые варварские нравы и пристрастия, изжил множество привычек и обрядов, доставшихся в наследство от прежних царей Македонии. В первую очередь избавил Пеллу от последних тайных храмов, где служили и воздавали жертвы старым богам, на их месте воздвигнув греческие, а тех, кто не отрёкся и на своём стоял, облагал налогом, особо ярых поборников древней веры лишал имущества и, невзирая на вельможность, заслуги прежние в ратных или иных трудах, изгонял прочь. В первые три года царствования, издавая строгие указы и декреты, он запретил ношение портков, рубах, валяных шапок, кожаных сапог и прочего македонского платья, велев переодеться в хитоны, гиматии и сандалии. И только рабам позволил донашивать старые наряды, чтобы сразу было видно невольников и господ. Филипп потратил пять шестых казны, чтобы купить в Спарте одежду, снаряжение, доспехи для войска! А всем портным, кожевникам и бронникам впредь велел кроить, шить и точать всё это по спартанскому подобию. Хотя по образу спартанцев содержать полки он не отважился, опасаясь ропота и бунтов: с голыми коленями, без портков и в сандалиях ратники зябли и страдали в заснеженных горах Иллирии и Фракии. Однако скоро привыкали, ибо по своей варварской природе отличались выносливостью и терпением. В ответ на это царь щадил своё воинство, не замышлял зимой походов или летом, высоко в горах, и послаблял, давая право в лютую стужу спать с конями и от них греться.
Труднее всего оказалось исторгнуть варварскую речь из уст македонцев, заставив говорить на греческом. А более того – изменить строй и образ мыслей, извести дух прошлого, понудить думать и наслаждаться всем тем, что ценно и неоспоримо во всех полисах Эллады. Многие цари, всяк в своё время, пытались вразумить подданных, насытить их желанием последовать примеру эллинов и отказаться от ветхих правил. Взойдя на престол, Филипп не первым был, кто мыслил перевоплотить их нрав, ибо ещё при царствовании брата своего Пердикки содержался в Фивах заложником его и там испытал весь благородный смысл Греции и всецело им проникся. Да и брат в том преуспел, призвав к себе философов, поэтов и геометров, полагая, что македонцы, позрев высокое искусство, сами потянутся ко благам просвещения и припадут к сему источнику. Однако же просчитался: даже придворные, на службе изображая преданность богам Эллады и щеголяя в гиматиях, в домах своих тайно поклонялись Разу и обряжались в порты из рыбьих шкур, кляня при сём эллинские обычаи. След было бы брату выжигать железом подобное зло лицемерия, однако же Пердикка его сносил и вскорости убит был иллирийцами, которые потешались над македонцами за их пристрастие к иноземным нравам.
Филипп, низвергнув своего племянника Аминту, при котором был опекуном, сам сел на трон и три первых года, уподобясь искусному каменотесу, безжалостно отсекал от Македонии всё лишнее и непотребное, ваяя эллинский прообраз. Первым делом он отомстил за брата, покорив Иллирию, продал в рабство значительный полон из её знати, а царевну Аудату взял наложницей. И поначалу содержал её вместе с иными рабынями, чтобы унизить, и не мыслил приближать к себе, тем более на ней жениться.