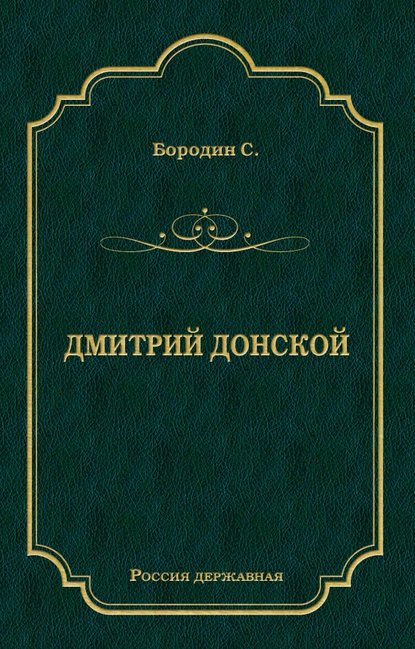По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дмитрий Донской
Серия
Год написания книги
1941
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дивно мне, – сказал Пуня, – твое почтение к греческому языку. Язык этот птичий: на нем стрекочут скворцы.
Но Кирилл жестоко посрамил Пуню:
– Богослужение в Цареграде на нем совершается. Сие есть язык церкви отцов, а не скворцов.
– Дерзок ты. Но скудоумие и блуд твой известны Богу. Он те судья. Что ты в песчаных затеях шемаханских зришь?
– Сие не затеи, а глубокомыслие. Ибо он каменные города ставить научен был, ныне же из песка подобие их воздвигнуть тщится.
Так Пуня узнал о зодчем Алисе.
В Москву он написал так:
«А есть на княжом дворище ордынец Алис, шемаханец родом. Велико учен зодчему делу. Нынь же валяет шерсть на войлоки и на той работе изнурен бысть. Как слышали мы, князь великий Дмитрий Иванович зодчих людей ищет. О том Алисе отписываемси».
Был на Москву путь не скорый, но верный – реками. Был и скорый – лесами. Письмо Пунино пошло реками. Отпис из Москвы примчался лесом. Лесом же и Алис отбыл из Рузы в Москву, а с ним и каменщик Кирилл. И привели их в Кремль.
В Кремле Алис увидел княжеский толстостенный и многосрубный терем, где окна, разбредшиеся по стенам, как кони по полю, украшены резными косяками, разными красками расписаны. Взглянул на золоченую кровлю, над коей по углам высились кованные из железа львы. Увидел витые столбы крылец и переходов. И показалось это Алису грудой беспорядочно наваленных дров.
Рынды[8 - Рында – телохранитель, оруженосец.] и отроки княжеские озаботились об одежде Алиса. Нескладное, неловкое, дорогое одеяние отверг. Он выбрал простую холщовую рубаху, плотно его облекшую, показался еще ниже ростом от длинного ее подола. Поверх надел розовый камчатый доломан, схожий с шемаханским кафтаном. И так сел ждать Дмитриева зова. Кирилл же залег в это время на подворье и разговорился с людьми.
– Много ль вдовиц, много ль девок неневестных на Москве? – спрашивал он.
Не грех разжигал Кирилла, а то, что много лет чернецом был, что запретна была ему мирская мысль и мирская скорбь, ныне же уже не чернец и даже забыто, что расстрига он; стал теперь Кирилл просто княжеским каменщиком, равным всякому мирскому рабу, может теперь он взять себе в замужество бабу, полонянку ль, вольную ль, коли не устрашится вольная за раба выйти и так в рабство войти. И разжигало Кирилла чувство, что разговаривает он с людьми, как муж, коему открыт путь к семье.
А у князя в черной палате ветхий пристав, пожевывая беззубыми деснами, неодобрительно щурился на Алиса:
– Ждет раб княжеского зову. Может, день, может, неделю прождет. А негоже рабу рядиться в цветное платье. Негоже князю приимать раба, как иноземца. При Дмитрие многое деется, чего не было ни при Симеоне Иваныче Гордом[9 - Симеон Гордый – старший сын Иоанна Калиты, великий князь Московский (1341–1353), которого хан объявил великим князем Владимирским.], ни при Иване Иваныче[10 - Иоанн Иоаннович, второй сын Иоанна Калиты, великий князь Московский (1353–1359). После смерти двух его братьев получил от Орды ярлык на великое княжение.], а наипаче при великом князе Иване Данилыче, при Калите.
Алис же стоял терпеливо и молча. Греческого языка в черной палате никто не разумел. Русскому языку Алис худо научился, персидский же сам забывать стал. В Рузе было больше собеседников. А в Царьграде ему и с византийским императором разговаривать доводилось. У цареградского императора дом – не здешнему деревянному ларю чета. Да и не пустили бы в тот дом такое вот чучело в облезлой шубе, с рожей, похожей на гнилую фигу; а еще нарекли такое приставом, приставили в палате чин блюсти.
В это время, промчавшись по многим лесенкам и переходам, торопливо вбежал отрок: великий князь кликал раба наверх.
Глава 3. Москва
Дмитрий присел на скамье, стоявшей в думной возле окна. Облокотился о подоконник. Проехал конный стражник; в седле сидит крепко. Не то уж войско, что смладу Дмитрий на Дмитрия Суздальского водил, – тогда от души бились, а биться не умели. Скоростью брали. А теперь биться научились. И оружие уже не то: не домодельное. Бывало, топорами вооружались. Насадят на шест – вот те и секира!
Бренко, Боброк и Владимир Андреевич Серпуховской негромко разговаривали между собой. В думную достигал чад из поварни – пирогами пахло. «Время снедать», – подумал Дмитрий. Яства любил.
Алис, не доходя его, стал на колени. Дмитрий спросил:
– Сказывают, ты научен каменные дома ставить?
Боброк перевел вопрос князя по-гречески. Дмитрий говорил только по-русски, по-гречески помнил наизусть лишь несколько молитв.
Алис отвечал, склонив голову, прижав руку к сердцу:
– Много ставил, кир[11 - Кир – царь (греч.).] Дмитрий Иванович.
– Зачем же таил сие?
– Не таил, кир, – нигде не видел, чтоб каменное ставили. Везде одним деревом обходятся. Дерева ж я не разумею.
– Древо покрывает нас. Его любим и чтим. Но пора о камне думать. Коли ты зодчий искусен – порадуешь. Скуден – берегись: снова в Рузу али в Можай пошлю. А в Можае мое дворище паче Рузы. Туда татар намедни послал, а с них строже взыскивают.
– Внемлю, кир, слову твоему.
– Стрельню в Кремле надо ставить. Иные худо поставлены, поиначить надо. Над тайником надо искусно стрельню сложить. Там ход к воде и к погребам. Можешь?
– Ставил, кир, башни. Открывался с них вид на простор моря. Подземные ходы в Цареграде прорывал. Земля просторней, если в земле есть пути. Мне знакомо сие.
– Ну, добро.
Дмитрий отослал Алиса к дворскому боярину. Рында повел его. Никто, кроме князя Серпуховского, Боброка и Брейка, этих близких Дмитрию людей, не слышал его разговор с Алисом.
– Ты, Дмитрий Михайлович, порасспроси его позже, – обратился он к Боброку. – Какие столпы там ставили, воинским нуждам отвечают ли? И что еще он может? И дружину ему надо немую дать. Понял меня?
– Сам думал – надо немую.
– Да и сам пусть мысль словом не оболакивает. Слово грецкое, а иные татарове – и те ему внемлют.
– Приглядим, Дмитрий Иванович.
– Не ведаешь ли, Михаил Ондреич, каковы зографы[12 - Зограф – художник.], что ныне Чудов расписывать взялись? – спросил Дмитрий Иванович Бренка.
– Дивны, княже. Словно не кистью касаются стен, но как бы мыслью.
– А ведь не греки!
– Да я и твержу: почто нам греки, когда свои есть. Разве Захарий с дружиной своей Архангельский собор хуже греков расписал? В Чудовом теперь московитяне себя покажут!
Дмитрий спросил:
– А в Новгороде, сказывают, грек Феофан у Спас-Преображенья работает. Много его похвалили.
– Слыхивал, – сказал Бренко, – он церкву Федора Стратилата расписал. Легко пишет. Черту с чертою не сводит, а образы как бы воздухом объяты либо ладанным дымом окурены. Так легки.
– Надо и его на Москву перезвать. Надо все лучшее со всея Руси в Москву брать.
– Перезовем, Дмитрий Иванович!
Отрок от княгини пришел звать к трапезе. Большой, тяжелый Дмитрий мгновенно, как взмах крыла, поднялся:
– Пора уж!
Они пошли. В трапезную гридню вели сложные переходы. Любы княжескому сердцу витые пути.
Гридня была застлана попросту – ряднами. Утварь на столе деревянная, разрисованная – и солило, и солоница, и брашно. Чужих сотрапезников не было, и княгиня вышла полдневать с мужем. Один Бренко в родстве не был, но, видя его каждый день при муже, привыкла княгиня считать сего боярина за своего, – с Дмитрием рос, вместе гнезда разоряли, щеглов ловили.
Но Кирилл жестоко посрамил Пуню:
– Богослужение в Цареграде на нем совершается. Сие есть язык церкви отцов, а не скворцов.
– Дерзок ты. Но скудоумие и блуд твой известны Богу. Он те судья. Что ты в песчаных затеях шемаханских зришь?
– Сие не затеи, а глубокомыслие. Ибо он каменные города ставить научен был, ныне же из песка подобие их воздвигнуть тщится.
Так Пуня узнал о зодчем Алисе.
В Москву он написал так:
«А есть на княжом дворище ордынец Алис, шемаханец родом. Велико учен зодчему делу. Нынь же валяет шерсть на войлоки и на той работе изнурен бысть. Как слышали мы, князь великий Дмитрий Иванович зодчих людей ищет. О том Алисе отписываемси».
Был на Москву путь не скорый, но верный – реками. Был и скорый – лесами. Письмо Пунино пошло реками. Отпис из Москвы примчался лесом. Лесом же и Алис отбыл из Рузы в Москву, а с ним и каменщик Кирилл. И привели их в Кремль.
В Кремле Алис увидел княжеский толстостенный и многосрубный терем, где окна, разбредшиеся по стенам, как кони по полю, украшены резными косяками, разными красками расписаны. Взглянул на золоченую кровлю, над коей по углам высились кованные из железа львы. Увидел витые столбы крылец и переходов. И показалось это Алису грудой беспорядочно наваленных дров.
Рынды[8 - Рында – телохранитель, оруженосец.] и отроки княжеские озаботились об одежде Алиса. Нескладное, неловкое, дорогое одеяние отверг. Он выбрал простую холщовую рубаху, плотно его облекшую, показался еще ниже ростом от длинного ее подола. Поверх надел розовый камчатый доломан, схожий с шемаханским кафтаном. И так сел ждать Дмитриева зова. Кирилл же залег в это время на подворье и разговорился с людьми.
– Много ль вдовиц, много ль девок неневестных на Москве? – спрашивал он.
Не грех разжигал Кирилла, а то, что много лет чернецом был, что запретна была ему мирская мысль и мирская скорбь, ныне же уже не чернец и даже забыто, что расстрига он; стал теперь Кирилл просто княжеским каменщиком, равным всякому мирскому рабу, может теперь он взять себе в замужество бабу, полонянку ль, вольную ль, коли не устрашится вольная за раба выйти и так в рабство войти. И разжигало Кирилла чувство, что разговаривает он с людьми, как муж, коему открыт путь к семье.
А у князя в черной палате ветхий пристав, пожевывая беззубыми деснами, неодобрительно щурился на Алиса:
– Ждет раб княжеского зову. Может, день, может, неделю прождет. А негоже рабу рядиться в цветное платье. Негоже князю приимать раба, как иноземца. При Дмитрие многое деется, чего не было ни при Симеоне Иваныче Гордом[9 - Симеон Гордый – старший сын Иоанна Калиты, великий князь Московский (1341–1353), которого хан объявил великим князем Владимирским.], ни при Иване Иваныче[10 - Иоанн Иоаннович, второй сын Иоанна Калиты, великий князь Московский (1353–1359). После смерти двух его братьев получил от Орды ярлык на великое княжение.], а наипаче при великом князе Иване Данилыче, при Калите.
Алис же стоял терпеливо и молча. Греческого языка в черной палате никто не разумел. Русскому языку Алис худо научился, персидский же сам забывать стал. В Рузе было больше собеседников. А в Царьграде ему и с византийским императором разговаривать доводилось. У цареградского императора дом – не здешнему деревянному ларю чета. Да и не пустили бы в тот дом такое вот чучело в облезлой шубе, с рожей, похожей на гнилую фигу; а еще нарекли такое приставом, приставили в палате чин блюсти.
В это время, промчавшись по многим лесенкам и переходам, торопливо вбежал отрок: великий князь кликал раба наверх.
Глава 3. Москва
Дмитрий присел на скамье, стоявшей в думной возле окна. Облокотился о подоконник. Проехал конный стражник; в седле сидит крепко. Не то уж войско, что смладу Дмитрий на Дмитрия Суздальского водил, – тогда от души бились, а биться не умели. Скоростью брали. А теперь биться научились. И оружие уже не то: не домодельное. Бывало, топорами вооружались. Насадят на шест – вот те и секира!
Бренко, Боброк и Владимир Андреевич Серпуховской негромко разговаривали между собой. В думную достигал чад из поварни – пирогами пахло. «Время снедать», – подумал Дмитрий. Яства любил.
Алис, не доходя его, стал на колени. Дмитрий спросил:
– Сказывают, ты научен каменные дома ставить?
Боброк перевел вопрос князя по-гречески. Дмитрий говорил только по-русски, по-гречески помнил наизусть лишь несколько молитв.
Алис отвечал, склонив голову, прижав руку к сердцу:
– Много ставил, кир[11 - Кир – царь (греч.).] Дмитрий Иванович.
– Зачем же таил сие?
– Не таил, кир, – нигде не видел, чтоб каменное ставили. Везде одним деревом обходятся. Дерева ж я не разумею.
– Древо покрывает нас. Его любим и чтим. Но пора о камне думать. Коли ты зодчий искусен – порадуешь. Скуден – берегись: снова в Рузу али в Можай пошлю. А в Можае мое дворище паче Рузы. Туда татар намедни послал, а с них строже взыскивают.
– Внемлю, кир, слову твоему.
– Стрельню в Кремле надо ставить. Иные худо поставлены, поиначить надо. Над тайником надо искусно стрельню сложить. Там ход к воде и к погребам. Можешь?
– Ставил, кир, башни. Открывался с них вид на простор моря. Подземные ходы в Цареграде прорывал. Земля просторней, если в земле есть пути. Мне знакомо сие.
– Ну, добро.
Дмитрий отослал Алиса к дворскому боярину. Рында повел его. Никто, кроме князя Серпуховского, Боброка и Брейка, этих близких Дмитрию людей, не слышал его разговор с Алисом.
– Ты, Дмитрий Михайлович, порасспроси его позже, – обратился он к Боброку. – Какие столпы там ставили, воинским нуждам отвечают ли? И что еще он может? И дружину ему надо немую дать. Понял меня?
– Сам думал – надо немую.
– Да и сам пусть мысль словом не оболакивает. Слово грецкое, а иные татарове – и те ему внемлют.
– Приглядим, Дмитрий Иванович.
– Не ведаешь ли, Михаил Ондреич, каковы зографы[12 - Зограф – художник.], что ныне Чудов расписывать взялись? – спросил Дмитрий Иванович Бренка.
– Дивны, княже. Словно не кистью касаются стен, но как бы мыслью.
– А ведь не греки!
– Да я и твержу: почто нам греки, когда свои есть. Разве Захарий с дружиной своей Архангельский собор хуже греков расписал? В Чудовом теперь московитяне себя покажут!
Дмитрий спросил:
– А в Новгороде, сказывают, грек Феофан у Спас-Преображенья работает. Много его похвалили.
– Слыхивал, – сказал Бренко, – он церкву Федора Стратилата расписал. Легко пишет. Черту с чертою не сводит, а образы как бы воздухом объяты либо ладанным дымом окурены. Так легки.
– Надо и его на Москву перезвать. Надо все лучшее со всея Руси в Москву брать.
– Перезовем, Дмитрий Иванович!
Отрок от княгини пришел звать к трапезе. Большой, тяжелый Дмитрий мгновенно, как взмах крыла, поднялся:
– Пора уж!
Они пошли. В трапезную гридню вели сложные переходы. Любы княжескому сердцу витые пути.
Гридня была застлана попросту – ряднами. Утварь на столе деревянная, разрисованная – и солило, и солоница, и брашно. Чужих сотрапезников не было, и княгиня вышла полдневать с мужем. Один Бренко в родстве не был, но, видя его каждый день при муже, привыкла княгиня считать сего боярина за своего, – с Дмитрием рос, вместе гнезда разоряли, щеглов ловили.