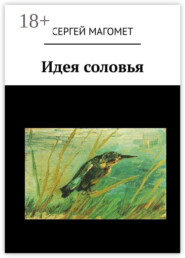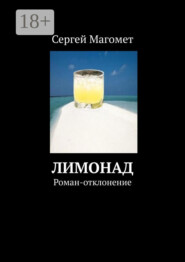По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русские апостолы. роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лагерь у нас какой-то особый, спецпоселение. Небольшой, обнесен частоколом из свежеободранных столбов. Мы, заключенные, по-прежнему живем в палатках, с железными печками посередине. Естественно, более сильные и нахальные заняли место поближе к теплу, а прочим приходиться ежиться в мерзлых, в сосульках углах. Зато у нас ни единой крысы. Конвоиры поселились в двух бревенчатых избушках, в каждой по большой русской печи. Посередине лагеря – наблюдательная вышка, похожая на галочье гнездо, на ней круглосуточно часовой с карабином. А дальнем углу лагеря чернеет баня.
Большую часть суток мы на работах вне лагеря: разгребаем сугробы, валим лес, строим дороги. Морозы с самого начала ударили и стоят страшенные, а у нас одежки худые; множество случаев обморожений. Чтобы мы шевелились, конвойные бьют нас палками. Наказание здесь обычное. Уж несколько раз меня привозили с работ в лагерь на телеге – полумертвого. Но всякий раз, слава Богу, приходил в себя.
А другие заключенные только потешаются:
– Поглядите на праведника! Неужто опять воскрес?
Пусть себе смеются. Я даже рад. Ежеминутно, ежесекундно я должен быть начеку, должен напрягать все духовные силы, чтобы не проронить ни одного лишнего слова, не помыслить ни единой лишней мысли. Поскольку я монах, такой самоконтроль, как и смирение, – дело для меня привычное, но оттого ничуть не более легкое. К тому же всегдашнее кроткое смирение – мое единственное оружие и защита. Никогда никому не возражаю, или, упаси Боже, чтобы упрекнуть человека. Везде, где только возможно, спешу людям услужить. Потому что люблю их. Хоть я и грешник ужасный, а здесь меня вдруг принимаются смотреть как на человека Божьего, вроде как на юродивого. Оттого редко, очень редко кто меня обижает.
А раз мне назначают наряд – расчистить за день от сугробов огромную поляну. Дело никак не возможное, но и за невыполнение кара жестокая – лишение дневного пайка и продолжение работы. Таким способом они экономят в лагере продовольствие. Никак мне не успеть к сроку, ухватился за лопату, воткнутую в сугроб, чуть не падаю. И вдруг откуда не возьмись один татарин, говорит, усмехаясь:
– Сиди вот. Моя, ашка, дворник был, привык, раз плюнуть! – И забирает у меня лопату.
И пока я в сонном забытье творю молитву, всю мою работу сделал. То-то мне радость чудесная и удивление!
И на каждый новый день утешение у меня есть простое, но действенности превеликой. «Вот счастье-то, говорю себе, ведь моя нынешняя жизнь – и есть истинно монашеская, то есть, житие единственно в покорности Божьей воле, Его заповедям, в сокрушения сердца, совершенно в отсутствии всякой возможности своеволия. Таков распорядок в лагере. Что Господь дает, этим и жив, этому следую. Ничего при этом не выгадываю, ничего не выторговываю взамен… Впервые в жизни я наполнился этим удивительным чувством! А какой покой и мир в душе! Ни тебе сомнений, ни сожалений или двусмысленности. Всегда знаю и уверен в том, что делаю. Просто жить-быть, как Бог даст – вот и всё-то мое нынешнее делание.
Пожалуй, только сейчас я по-настоящему узнал, каково это существовать без привычных вещей, которые всегда были при мне. Дело даже не в отнятых материальных вещах, с ними как раз расстаться было лично для меня не очень тяжело. Но сопутствовали же мне всегда также вещи нематериальные, неощутимые – взгляды, мнения, воспоминания, привычки, различные навыки-умения, кое-какие познания, верования, наконец. Теперь я словно голое бревно, которое совершенно ободрали от коры. Кроме прочего, у меня отнято здоровье, жизненная сила, воля, само чувства времени и пространства… Даже вера – по крайней мере, в том виде, какой она была на воле… А ведь как я раньше страшился самой этой мысли, до ужаса, – что когда-нибудь лишусь буквально всего!.. И что же? Этот день настал. Ни и что? Вот же – живу.
Интересно, что еще в мире может меня опечалить? Найдется, пожалуй. Но после всего пережитого, что еще меня устрашит? То-то и оно: я отрицаю страдание, и более не страдаю.
Между тем, жестокость и безнравственность здесь просто немыслимые. Креститься прилюдно – строжайше запрещено. Разве что под одеялом. О том чтобы помолиться – и речи нет. Однажды уголовник огрел меня лопатой по голове. Я упал на колени, кровь совершенно залила глаза. Вот и конец, подумалось мне. Но Господь снова спас. Что ж, Божественное Провидение может действовать и через злодеев. Это известная вещь. Об одном прошу: Боже святый, вразуми помоги моему дремучему невежеству! После всего, что мне довелось пережить, я, кажется, и теперь не понимаю, что мне делать Твоими великими дарами. Господи, Господи, Ты ведаешь мое сердце! – мысленно воплю я.
У нас людей не распинают, это правда. Наверное, считают, что такая казнь чересчур героическая, красивая, мы ее недостойны. Зато людей живьем закапывают в землю, или разбивают головы дубиной, чтобы затем скормить тела свиньям. Или топят в выгребных ямах… О, Господи, как будто, боятся, что даже в том, как убивают, можно найти, чем возгордиться и прославиться!
С тех пор, как я в лагере, грубое представление о течении времени я все-таки имею. Благодаря распорядку дневных-ночных смен, нарядам и нормам выработки… Оказывается, прошло совсем ничего – всего лишь четверть срока.
Перед Сочельником поздно ночью в лагерь на аэросанях прибывает для инспекции какой-то высокий чин. Событие необычайное, учитывая время года и сильнейшую пургу, которая не прекращается вот уже несколько дней. Каким-то чудесным образом проверяющий не сгинул в тундре.
И сразу весь лагерь приходит в невероятное возбуждение. С утра пораньше кидаются украшать вышку красными флажками, транспарантами и портретом вождя в обрамлении еловых веток. Все с нетерпением ожидают, что ровно в полдень высокий чин произнесет пламенную речь, расскажет о политике и войне, в общем, сообщит нечто чрезвычайно важное.
Однако никакого выступления так и не дождались. День самый обычный – изнурительная работа на морозе по расчистке снега и рубке леса.
Ночью в Сочельник, дождавшись отбоя, накрываюсь одеялом и проговариваю все молитвы. Потом осторожно высовываю голову наружу и оглядываюсь вокруг. Вижу несколько пар счастливых, блестящих глаз: люди еще помнят, какой сегодня праздник! Нас тут немного таких, священники и монахи, а также просто верующие люди. Единственное общение друг с другом, которое мы можем себе позволить – обменяться многозначительными взглядами, молча улыбнуться.
Немного погодя, один за другим, мы выходим на улицу, чтобы полюбоваться Вифлеемской звездой. Ночь выдалась тихая-претихая, и абсолютно ясная. Наша звезда яркая, красивая, одна посреди черного полуночного неба. Потом также молча возвращаемся на нары. Лица у всех такие же многозначительные и счастливые.
Между тем в лагере продолжается брожение. И будоражащих слухов множество. Больше всего – о возможной общей амнистии, по особому указу, для формирования батальонов из лагерников, с немедленной отправкой на передовую. Настроение у всех поэтому приподнятое, даже веселое, как будто праздничное.
Но и эти слухи и надежды на высокого начальника не оправдываются. Наоборот, приехавшего вообще не видно: с первого дня заперся с начальником лагеря в командирской избе и уж неделю беспробудно пьянствуют. И к концу недели все наши патриотические настроения и надежды сами собой выветриваются. Более того, дело вдруг оборачивается в самую худшую сторону, – причем именно для тех из нас, кто еще недавно так радостно и тайно переглядывался по случаю Рождества.
Утром на Богоявление, сразу после общего построения и поименной поверки, когда всех остальных отправляют на работы, всю нашу маленькую группу запирают в дровяном сарае и выставляют часовых.
А холод в сарае страшный. Среди штабелей мерзлых, оледенелых поленьев мороз еще свирепей, чем снаружи… Но очень скоро меня почему-то выкрикивают и приводят в избу, где усаживают на лавку в узком закутке. И оставляют одного. За плотно прикрытой, толстой дверью едва слышен начальственный голос и другие голоса, но о чем говорят – ни слова не разобрать. Злые голоса, раздраженные, и я перестаю вслушиваться.
Я сижу подле большой русской печки, горячей и пахучей. Мне тепло и радостно. Уж и не припомню, когда за два года последний раз сидел в таком блаженном тепле. Вот счастливая минутка – чуть-чуть передохнуть, отогреть окоченелые члены. Но вдруг накатывает дурнота, мне становится так плохо, что мутится в глазах. Я догадываюсь, что все из-за того, что я совершенно отвык от тепла. Раньше холод был для меня чем-то вроде лекарства, болеутоляющим, я находился словно под наркозом, а теперь, едва согрев косточки, размякнув, чувствую, как все мои синяки, ссадины, раны, язвы вдруг проснулись, стали нестерпимо ныть. Боль всё острее. Я совершенно разбит. Минута, другая. Время идет, но я плохо соображаю. Что теперь? Молюсь, хватаю ртом воздух. Чего я достиг, что приобрел? Разве стал другим, стал лучше? Нет, я такой же, как в раннем детстве. Ничуть не изменился. А ведь как мечтал узреть Христа! Теперь вижу, что нисколько даже к Нему не приблизился. И где моя вера? Истинные подвижники благочестия, некоторые тоже никогда не видели и не знали Его, однако были полны благодати, а вера их была много-много крепче тем, кто «видел и знал»… В глазах мутится. А если сейчас умру? Кажется, еще немного – и грохнусь в обморок, прямо тут, в коридорчике.
Проходит часа два, не меньше. Вдруг дверь распахивается, со страшной силой грохает о стену. Из комнаты высыпают кучей люди, курят, громко разговаривают – начальник лагеря, несколько офицеров и, судя по всему, высокий чин собственной персоной. Последний взглядывает на меня с изумлением. Я же, несмотря на жару, застегнутый на все крючки-пуговицы и замотанный тряпками, начинаю медленно подниматься, встаю во весь рост. Не сбавляя хода, он быстро шагает мимо и сбегает с крыльца. Но начальник лагеря останавливается и, показывая на меня смущенным подчиненным, грозно вопрошает:
– Какого хрена этот тут торчит?
И, не дожидаясь ответа, бежит вдогонку за инспектором.
– Кажется, про меня забыли… – запоздало мямлю я.
Объяснения ни к чему. Все уже на улице. Меня выводят два солдата. Начальник лагеря и инспектор направляются к чернеющей вдали бане. Остальные офицеры идут в свою избу. Младший офицер, совсем мальчишка, но с лицом, как у мертвеца, поворачивает в сторону дровяного склада. В руке у него трепещут на ветру несколько листков-приказов.
Меня больно пинают в бок, в спину. Два нескладных охранника-вологодца, оба розово-рыжие, как альбиносы, продолжая тыкать меня прикладами и стволами винтовок, толкают меня вслед за юным офицером. Все трое злорадно усмехаются, Бог знает чему. Не ведают, видно, бедные, своей участи…
Входим в дровяной сарай.
– Эй, лодыри-саботажники, встать! – кричит офицерчик. – Живо!
Но заключенные едва реагируют. Сбившиеся в один серый ком, чтобы не заледенеть окончательно, они едва шевелятся, не в силах разлепить даже онемевшие веки.
– Слушайте, – говорит офицерчик, потрясая листками и новым черным револьвером, – это приговор. Вы приговариваетесь к высшей мере наказания…
– Да ладно, начальник, скорей уж, – с усмешкой прерывает его солдат-альбинос.
В следующее мгновение офицерчик в слепом бешенстве начинает палить из револьвера в сбившихся в кучу заключенных. Пока не кончаются патроны.
Только теперь, словно разбуженные пулями от сна, люди силятся подняться на ноги.
– Думаете, меня за это накажут, я за это отвечу? – орет офицерчик, не сознавая того, что уже сам себя наказал.
– Да ладно, начальник, – бормочет другой солдат, с тем же смешком, и офицер выбегает из сарая на улицу.
А я ясно вижу, как сам Христос встает перед заключенным, закрывая их от солдат, как бы готовясь к смерти. Альбиносы клацают затворами винтовок и, перезаряжая, многими выстрелами добивают раненых. Скоро и у них кончаются патроны… Но на этот раз жертвы уж больше не шелохнутся.
А обо мне, похоже, опять забыли. Стоя в сторонке, я крещусь и шепчу молитвы. А еще, снова и снова, я осеняю крестом расстрелянных и расстрельщиков.
Дождавшись, когда смолкнет пальба, в сарай вбегает офицерчик. Глядя, как я крещу всех, его лицо перекашивается от ярости. Хватает ртом воздух.
– Ну, ты об этом пожалеешь! – наконец выдавливает он.
В углах губ у него проступает белая, словно молочная, пена.
– Боже мой, – говорю я сам себе, – да ведь сегодня у нас Богоявление! – И удивленно всплескиваю руками.
– Ну, погоди у меня! – скрежеща зубами, хрипит мальчишка-офицерчик, дергаясь всем телом, словно помешанный. – На тебя, гада, даже пулю тратить жалко! ? Оборачивается и машет рукой солдатам. – Живо! Выводите! Туда его! Понятно? Сейчас мы этого монаха как положено окрестим!..
Вологодские альбиносы хохочут с удвоенной силой. Я невольно бросаю взгляд в сторону лагерного отхожего места под навесом. Это глубокий ров-канава, через которую с небольшими промежутками переброшены толстые доски и столбы, чтобы на них, кое-как умостясь, могли справлять нужду заключенные. Туда меня и тащат.
Не понимаю, что происходит, почти не упираюсь. Втащив под навес, меня сбивают с ног, а затем заталкивают между досками – сбрасывают прямо в глубокую яму, прямо в жижу.
Поскальзываясь, на мгновенья ухожу туда с головой, барахтаюсь, оглушенный, задыхающийся, выныриваю на поверхность. Ничего не вижу, давлюсь от смрада кашлем, кое-как нащупываю ногами дно, благодаря своему высокому росту, почти по грудь в ледяной, булькающей жиже. Одной рукой пытаюсь очистить глаза, а другой слепо шарю вокруг – за что бы ухватиться. Кое-как продираю глаза, вижу над собой доски и людей. Вижу и мальчишку, который стоит на четвереньках. Его душит рвота.
– Христос Воскресе! – хочу крикнуть я, но из горла вырывается лишь сиплый писк.