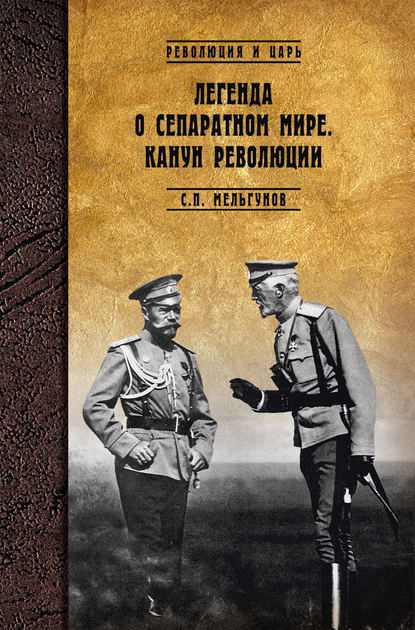По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Легенда о сепаратном мире. Канун революции
Жанр
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Родзянко в показаниях приводил такой свой диалог с Горемыкиным, считавшим, что «Дума мешает ему работать»: «Вы… хотите управлять». – «Да, понятно», – отвечал Родзянко. – «Вы должны законодательствовать, а мы управлять». – «Вы не умеете управлять. Отсюда понятно наше стремление управлять». – «Мы не дадим вам управлять» и т.д. Эта «затаенная обида», как выразился Волконский в показаниях, на Думу и общественность вовсе не была специфической чертой председателя Совета министров. О том свидетельствуют все записи Яхонтова. «Реакционер» Горемыкин мало чем отличался по своим взглядам от министров, стоявших за «общественность». Иллюстрацией может служить вопрос о печати, много раз обсуждавшийся в Совете.
В воспоминаниях Поливанова утверждается, что инициатором репрессивных мер в отношении печатного слова выступил 16 августа председатель Совета, и что «никто его не поддержал». Записи Яхонтова категорически опровергают такое заявление. Обуздать «беззастенчивую печать», которая «будто с цепи сорвалась», хотели все. Затруднения были лишь в многовластии, приводившем к «безвластию» (Барк), т.е. во взаимных отношениях военных и гражданских властей. В правительственной столице, которая естественно наиболее беспокоила Совет министров, распоряжалась военная власть, руководившаяся своими законоположениями, – в них не предусмотрена была цензура политическая. В ответ на упреки, что мин. вн. д. недостаточно энергично действует в отношении печати, Щербатов, называя себя «безгласным зрителем», заявлял: «Но что же я могу поделать, когда в Петрограде я только гость, а все зависит от военной власти. Эксцессы печати вызвали с нашей стороны обращение в Ставку о необходимости в интересах поддержания внутреннего порядка указать военным цензорам о более распространительном понимании их задач. В ответ на это последовало из Ставки распоряжение[144 - Ген. Янушкевич, по словам Щербатова, усмотрел здесь покушение на прерогативы Ставки.]… о том, что военная цензура не должна вмешиваться в гражданские дела. Это распоряжение и послужило основанием к теперешней разнузданности». Министерство вн. д. бессильно перед усмотрением Ставки, у ведомства нет средств помешать «выходу в свет всей той лжи и агитационных статей, которыми полны… газеты». Как бы в ответ на эти ламентации Горемыкин 16-го специально поставил на обсуждение вопрос о печати: «Они, черт знает, что такое начали себе позволять». «Действительно, наша печать переходит все границы не только дозволенного, но и простых приличий… Они (петр. газеты) заняли такую позицию, которая не только в Монархии – в любой республиканской стране не была бы допущена, особенно в военное время. Сплошная брань, голословное осуждение, возбуждение общественного мнения против власти, распускание сенсационных известий – все это день за днем действует на психику 180 милл. населения». Должна же быть «управа» на «г. г. цензурующих генералов» – заявляет Кривошеин. «Если генералы, обладающие неограниченными полномочиями и охотно ими пользующиеся в других случаях, не желают помочь мин. вн. д. справиться с разбойничеством печати, то сместить их к черту и заменить другими, более податливыми», – предлагает Харитонов. Государственный контролер рекомендует «закрыть две или три газеты, чтобы одумались и почувствовали на собственном кармане», и «прихлопнуть надо газеты разных направлений, слева и справа «Земщина» и «Русское Знамя» вредят не меньше разных «Дней», «Ранних Утр» и т.п. органов». «“Новое и Вечернее Время”, – вставляет Сазонов, – тоже хороши. Я их считаю не менее вредными, чем разные листки, рассчитанные на сенсацию и тираж». «Обе эти газеты, – поясняет Харитонов, – находятся под особым покровительством, и у военной цензуры на них рука не поднимается. С начала войны и до сих пор Суворины неустанно кадят Ставке, и оттуда были даны указания их ни в коем случае не трогать…»
На следующий день в заседание был вызван начальник петербургского военного округа ген. Фролов для обсуждения «дурацких циркуляров» из Ставки (выражение Горемыкина) и средств воздействия на печать. Генерал заявил, что он получил непосредственное указание от Царя на необходимость «хорошенько образумить» печать, ибо «нельзя спокойно драться на позициях, когда каждый день это спокойствие отравляется невероятными слухами о положении внутри». «Значит, я так понимаю, что я палка, которая должна бить покрепче. Дело мне новое – только вчера оно передано мне в руки. Соберу редакторов, поговорю с ними по душам… Если же они не пойдут навстречу уговорам, то прибегну к надлежащим жестам вплоть до принудительного путешествия непокорных в далекие от столицы страны»[145 - В том же заседании вновь выплыло имя Суворина. Щербатов обратил внимание на статью в «Вечернем Времени» по поводу послания Синода, призывавшего «православный народ к посту и молитве по случаю постигших родину бедствий». (Совет отнесся весьма сочувственно к этим дням траура 26—29 авг., – излишества кафешантанных развлечений, «пьяное времяпровождение» являются противоречием призыву: «все для войны»). «Бориса Суворина мало бить за подобную выходку», – заметил мин. вн. д. «Статья возмутительна», – со своей стороны признает обер-прокурор Самарин «и возбуждает справедливое негодование, что автор ее еще не потерпел примерного наказания». Горемыкин, Кривошеин и Поливанов в один голос заявляют, что газета достойна немедленного закрытия. «Этого сумасшедшего полезно в горячечную рубашку посадить». «Почтенный Борис Суворин несколько зарвался. Его избаловало положение безнаказанного фаворита Ставки. Теперь протекции его конец». Однако начинать с Суворина, по мнению Щербатова, неудобно: «В обществе ходит слух о недовольстве правительства его непримиримостью к вопросам о немецком засилии. Несомненно, что закрытие его газеты поспешат объяснить именно этим недовольством». «Самое простое, – говорит Горемыкин, – хорошенько взмылить ему голову – пусть мин. вн. д. позовет его к себе. Если же он будет продолжать безобразничать, то тогда можно будет услать его куда-нибудь подальше». Через неделю на сцену опять выдвигается Борис Суворин по инициативе Сазонова. В дополнение к словам Горемыкина он указывает: «А вчерашнее сообщение о покушении на вел. кн. Н. Н. Подлейший подвиг подлого репортера… Все это злостная выдумка для возбуждения общественной тревоги». Фролов: «Выясню, какая газета напечатала это известие первая, и оштрафую в наивысшем размере». Сазонов: «Эту ложь пустил Борис Суворин в его дрянном “Вечернем Времени”». Фролов: «Хлопну тогда Бориску. Очевидно, он сболтнул спьяна. Ведь это его обычное состояние». Мы видим, что негодование А. Ф. на литературную деятельность бр. Сувориных, находившихся под покровительством Ставки («Надо их укротить», – писала она мужу 3 сентября: до нее доходили слухи, что один из Сувориных называл великого князя Николаем III), соответствовало общему настроению, которое вызывала в Совете министров эта деятельность. С переменой верховного командования исчез и иммунитет редактора «Вечернего Времени».].
Через неделю Фролов снова вызван был в Совет для внушения о необходимости прекратить продолжавшиеся «безобразные выходки» печати. «Наши газеты совсем взбесились», – заметил председатель, – это не свобода слова, а черт знает что такое». Военный министр поясняет, что военным цензорам трудно разбираться в тонкостях желательного или нежелательного при сменяющихся течениях в государственной жизни, и они должны руководиться перечнем запрещенного. Военное ведомство должно быть вне политики. Сазонов настаивает на широком понимании цензуры, «как это делается в Германии», не разгораживая ее по ведомствам. (Запись Яхонтова таким образом показывает, что инициатива этой меры не принадлежала Горемыкину, как указывал в своих показаниях Поливанов. Как раз такое расширение толкования прав военной цензуры служило поводом обвинения, которое предъявлялось в Чр. Сл. Ком. тов. мин. вн. д. Плеве.) По мнению Горемыкина, затронуты слишком существенные интересы, чтобы останавливаться на формальностях и толкованиях закона. Председатель предупреждает, что, если положение не изменится, генерал может нажить «большие неприятности», равно как и мин. вн. д., так как Государь «крайне недоволен, что столько времени правительство не может справиться с газетной агитацией». Щербатов в ответ жалуется, что при отмене предварительной цензуры его ведомство «не может помешать появлению нежелательных известий, наложение же штрафов и закрытие вызывают запросы и скандалы в Гос. Думе». «Вот Дума на днях не будет вам больше мешать», – замечает Горемыкин. – Тогда можно будет справиться…» 28 августа «опять беседа о положении печати», – записывает Яхонтов. Военная власть «ничего не хочет делать. («Ген. Фролов никого, даже Совет министров не желает слушать», по замечанию Щербатова.) Настояния правительства остаются безрезультатными». «Страну революционизируют на глазах у всех властей, и никто не хочет вмешиваться в это возмутительное явление… На карте – судьба России, а мы топчемся на месте». «Наши союзники в ужасе от той разнузданности, которая царит в русской печати. В этой разнузданности они видят весьма тревожные признаки для будущего», – сообщает министр ин. д.
Приведенные выдержки из записей о «делах и днях» Совета министров с достаточной очевидностью свидетельствуют о «точности» воспоминаний ген. Поливанова. Больших принципиальных разногласий между председателем Совета и министрами мы не видим и в других вопросах. Далеко не всегда Горемыкин был вдохновителем «реакционных» предложений. Вот вопрос о русской валюте в Финляндии, поставленный на очередь Щербатовым в заседании 30 июля. Министр отмечал «поразительную нелепость»: «В пределах одной Империи одна область спекулирует на спине всей остальной страны… следовало бы положить границу зарвавшимся финнам». Государственный контролер поддерживает мин. вн. д.: «Блаженная страна. Вся Империя изнемогает в военных тяготах, а финляндцы наслаждаются и богатеют за наш счет. Даже от основной гражданской обязанности – защищать государство от неприятеля – они освобождены. Давно бы следовало притянуть их хотя бы к денежной, взамен натуральной (если она нежелательна), повинности. А тут они еще смеют с нашим рублем каверзничать». Министр ин. д. просит «оставить финнов в покое. За этим вопросом очень ревностно следят шведы, и лучше пока заставить совершенно о нем забыть». Председатель вполне соглашается с этой точкой зрения: «Овчинка выделки не стоит. Пользы от кучки чухонцев нам будет мало, а неприятностей не оберешься. Ну их всех к черту… Посмотрим, что дальше будет. У нас и без того по горло всяких вопросов».
Это «посмотрим, что дальше будет» (излюбленное выражение Горемыкина), выражало характерную черту, направлявшую политику старого председателя Совета министров – делать все «постепенно». «Кончим войну, – тогда посмотрим, что будет…» Горемыкин «твердо» стоял на позиции, что во время войны невозможна законодательная работа принципиального характера (показания упр. делами Ладыженского). Кн. Волконский, однако, ни разу не слышал от Горемыкина, что Думу надо уничтожить… Горемыкин вовсе не был сторонником крайних решений и легко склонялся к компромиссу, к той «золотой середине», против которой в конце концов восстали сами министры. Эту «золотую середину» предпочитал сам верховный носитель власти, и Горемыкин, как истинный «верноподданный», исполнял веления Монарха. Он говорил Шелькину, что, по его мнению, революционное движение разлетелось бы, «как пепел сигары»: «Я не раз хотел дунуть, но Государь не хотел идти со мной до конца». Просматривая яхонтовские записи, видишь, как часто в Совете министров Горемыкин вводил примиряющую ноту. Вероятно, это и дало повод впоследствии Сазонову говорить о «циничном безразличии поседевшего на административных постах бюрократа»[146 - Это «безразличие», очевидно, объясняется в большей степени той своеобразной бюрократической корректностью Горемыкина, не считавшего себя вправе вмешиваться в вопросы внешней политики и военных дел, по установившейся традиции не подлежавших его компетенции. Наумов в Чр. Сл. Ком. называл Горемыкина человеком безличным в противоположность его преемнику Штюрмеру, который вел определенную политику. Между тем в Чр. Сл. Комиссии именно против Горемыкина сконцентрировано было обвинение в нарушении «основных законов».].
Примером примиряющей позиции Горемыкина может служить вопрос об отношении к союзникам, очень резко вставший в Совете в связи с требованием отправки золота в Америку для обеспечения платежей по заказам. Харитонов: «Значит, с ножом к горлу прижимают нас добрые союзники». Кривошеин: «Они восхищаются нашими подвигами для спасения союзных фронтов ценою наших собственных поражений, а в деньгах прижимают не хуже любого ростовщика. Миллионы жертв, которые несет Россия, отвлекая на себя немецкие удары, которые могли бы оказаться фатальными для союзников, заслуживают с их стороны более благожелательного отношения в смысле облегчения финансовых тягот…» Шаховской: «Насколько могу судить, мы, говоря просто, находимся под ультиматумом наших союзников». Барк: «Если хотите применить это слово, то я отвечу – да». Кривошеин: «Раз вопрос зашел так далеко, то приходится подчиниться, но я сказал бы – в последний раз. Впредь надо твердо заявить союзникам: вы богаты золотом и бедны людьми, а мы бедны золотом и богаты людьми; если вы хотите пользоваться нашей силой, то дайте нам пользоваться вашей…» Горемыкин: «Лучше не затрагивать щекотливого вопроса об отношении с союзниками. Практически это ни к чему не приведет. Надо окончательно выяснить, насколько вывоз золота неизбежен». Барк: «Если Совет министров откажет в согласии на вывоз золота, то я слагаю с себя ответственность за платежи в сентябре. Предвижу неизбежность катастрофы…»
1. Правительство и ДумаДумская болтовня
Резкие тактические разногласия в Совете министров начались с момента принятия на себя Царем верховного командования, осложнившегося, как мы видели, вопросом о перерыве занятий Государственной Думы. Сам по себе роспуск Думы на осенние «каникулы» не возбуждал никаких сомнений. Правящая бюрократия в лице Совета министров, вне зависимости от своих политических оттенков, не слишком расположена была к «г. г. народным представителям» – к «безответственным людям, прикрывающимся парламентской неприкосновенностью», к той «таврической демагогии», которая в «захватном порядке стремится занять неподобающую роль посредника между населением и правительством» (заявления Кривошеина, Щербатова, Харитонова). У них у всех ироническое отношение к председателю Думы, который, по выражению Самарина, увлекается «им самим себе придуманной ролью главного представителя народных представителей». («У него, несомненно, мания величия», – добавляет Щербатов. «И притом в весьма опасной стадии развитая», – вставляет Кривошеин.) Заседающая Дума означает не прекращающийся «штурм» власти – «ненавистной бюрократии» (Кривошеин). Наличие Думы – препона для экстренных текущих законодательных мероприятий, которые подчас требовались военными обстоятельствами, так как при нормальном порядке законодательства не могла быть применена спасительная ст. 87. «Военных» в Ставке также раздражает «думская болтовня»[147 - Кр. Архив 27—51 ст. Кудашев.].
И тем не менее бытовые условия жизни требовали претерпевать и «потрясающие речи» и запросы. Старая Ставка придавала, например, большое значение призыву ратников 2-го разряда. Ген. Янушкевич развивал (в изложении Кудашева) такие мотивы в объяснение необходимости призвать немедленно сразу большое количество людей: «Одна часть этих людей, призываемая в первую очередь, обречена будет вследствие своей необученности верной гибели», но даст время остальным подучиться. Так, при одновременном призыве 1,5 миллиона сперва вольются в строй 300 т, которые и «лягут костьми» в первый же месяц; через месяц появятся 300 тыс. слабо обученных, их заменят солдаты с двухмесячным образованием и т.д., так что материал солдатский будет все время улучшаться. «Не берусь судить о достоинствах такой системы, но расточительность человеческих жизней представляется мне очень жестокой, – комментирует Кудашев в письме Сазонову 3 августа. – Против нее опытные офицеры возражают, что она фатально приведет к расстройству и ослаблению самих кадров». Против единовременного призыва такого числа ратников 2-го разряда протестуют в Совете Кривошеин и Щербатов, так как он внесет расстройство в жизнь страны, особенно чувствительное в период сбора урожая. Кривошеин вообще негодует на систему «сплошных поборов», которую он саркастически называл «реквизициями населения России для пополнения бездельничающих в тылу гарнизонов». «Обилие разгуливающих земляков по городам, селам, железным дорогам и вообще по всему лицу земли русской поражает мой обывательский взгляд. Невольно напрашивается вопрос, зачем изымать из населения последнюю рабочую силу, когда стоит только прибрать к рукам и рассадить по окопам всю эту толпу гуляк, которые своим присутствием еще больше деморализуют тыл». Критике приходилось замолкнуть, ибо этот вопрос, – иронизировал Кривошеин, – относился «к области запретных для Совета министров военных дел»[148 - Возможность заглянуть за кулисы опровергает, таким образом, ходячую версию, что против призыва высказывалась только Царица под напором Распутина, сыну которого угрожало привлечение на военную службу. А. Ф. действительно настаивала на отмене проекта Ставки. Она писала 10 июня по вопросу, который «наш Друг так принимает к сердцу и который имеет первостепенную важность для сохранения внутреннего спокойствия». Если приказ относительно призыва 2-го разряда дан, «то скажи Н., что так как надо повременить, ты настаиваешь на его отмене. Но это доброе дело должно исходить от тебя. Не слушай никаких извинений. Я уверена, что это было сделано не намеренно, вследствие незнания страны». 16 июня Царь отвечал: «Когда я сказал, что желаю, чтобы был призван 1917 год, все министры испустили вздох облегчения. Н. тотчас же согласился. Янушкевич просил только, чтобы ему позволили выработать подготовительные меры – на случай необходимости». Тем не менее в августе этот вопрос во всей своей конкретности встал перед Советом министров.]. Между тем решить этот вопрос должна была Гос. Дума. «Если станет известным, что призыв ратников 2-го разряда производится без санкции Гос. Думы, то боюсь, – утверждал министр вн. д., – при современных настроениях мы ни единого человека не получим». «Наборы с каждым разом проходят все хуже и хуже, – констатирует Щербатов. – Полиция не в силах справиться с массою уклоняющихся. Люди прячутся по лесам и в несжатом хлебе… Агитация принимает все больше антимилитаристический или, проще говоря, откровенно пораженческий характер…»
К числу таких же злободневных вопросов, о которых должна была высказаться Гос. Дума, принадлежал и злосчастный вопрос беженский – по крайней мере в представлении части министров. Щербатов считал «безусловно необходимым» санкцию Думы для образующегося Особого Совещания по беженцам, чтобы в нем были представлены выборные от законодательных учреждений, – надо «снять с одного правительства всю ответственность за ужасы беженства и разделить ее с Гос. Думой»[149 - Горемыкин: «Какая там страховка. Все равно будут взваливать всю ответственность на правительство. Совещание по обороне состоит из выборных и обладает неограниченными полномочиями, а все-таки за недостаток снабжения ругают исключительно нас».]. Военный министр, со своей стороны, считал необходимым провести через Думу закон о милитаризации заводов – меру «безусловно срочно» нужную для обороны, но «по своему существу она такова, что ввести ее в действие без санкции законодательных учреждений едва ли возможно в теперешние времена». «Во всяком случае, – добавлял Поливанов, – я не решился бы в столь щекотливом деле прибегать к 87 ст.»[150 - Харитонов предпочитал бы как раз наоборот – применить именно ст. 87, если нельзя избегнуть такой чрезвычайной меры, как мобилизация заводов. В Думе вопрос о личной принудительной повинности не имеет «шансов благополучного прохождения». При господствующих в Думе тенденциях подобная повинность явится поводом к агитационным выступлениям – «пойдет пищать волынка».].
Так вращался Совет в заколдованном до некоторой степени круге, изыскивая пути по возможности обходиться на практике без Думы[151 - Впоследствии во всеподданнейшем докладе 10 февр. 1917 г. Родзянко жаловался, что правительство «бессистемно» заваливает Думу законопроектами, имеющими отдаленное значение для мирного времени, а все вопросы, связанные с войной, разрешает самостоятельно. Упомянутые только что факты вводят корректив к такому обобщению.]. «Дума отучила нас от оптимизма, – говорил государственный контролер, человек либеральной репутации. – Ею руководят не общие интересы, а партийные соображения» («политические расчеты»). Не приходится поэтому удивляться, что инициатором перерыва занятий летней сессии Думы в сущности явился Кривошеин, поднявший этот вопрос в заседании 4 августа – тогда, когда «катастрофа» (в глазах большинства членов Совета), связанная с перипетиями перемены верховного командования, никем еще не предвиделась. Кривошеин напомнил, что «когда решался вопрос об экстренном созыве… мы имели в виду короткую сессию так до первых чисел августа»[152 - Думу предполагалось «по соглашению» созвать в ноябре, но было «обещано», как говорил Родзянко в Чр. Сл. Ком., созвать Думу немедленно в случае «малейших колебаний государственных дел и на войне». (Родзянко склонен был впоследствии формулу созыва Думы «не позже конца ноября» считать лишь «лицемерным» фокусом, чтобы «отделаться».) 8 июля, в связи с военными неудачами и обновлением состава правительства, Дума и была в экстренном порядке созвана на 19 июля – в годовщину объявления войны. В правительственной декларации указывалось, что правительство считает своим нравственным долгом идти на новые военные напряжения в «полном единении с Думой», от которой история ждет, таким образом, «ответного голоса Земли Русской». Правительство «без всяких колебаний» идет на новые жертвы. В Чр. Сл. Ком. Родзянко утверждал, что Дума была созвана «насильственно». Царь «сдался» только под влиянием «упорного настояния» председателя Думы.]. Правда, Кривошеин был за кратковременное продление сессии, дабы дать возможность Думе высказаться о призыве ратников: «Не стоит обострять настроения из-за каких-нибудь 2—3 дней». Но он, как и другие, видел в намеренной затяжке Думой решения вопроса о ратниках лишь «тактический прием» продлить заседания и тем самым отдалить перерыв занятий, а поэтому по существу высказался за ультимативный способ действия согласно предложению председателя: дать Думе короткий срок для проведения законопроекта и, если условия не будут соблюдены, распустить («переговоры и убеждения не помогут») и ходатайствовать о призыве ратников высоч. манифестом «с ссылкой на переживаемые родиной чрезвычайные обстоятельства»: «Пусть тогда все знают, что роспуск Думы вызван ее нежеланием разрешить вопрос, который связан с интересами пополнения армии и не допускает дальнейших замедлений»[153 - Для характеристики принципиальной позиции Кривошеина нелишне будет вспомнить, что говорил этот министр раньше по существу этого законопроекта. В одном из последующих заседаний Кривошеин так – достаточно демагогически – формулировал свое предложение: надо «спросить Гос. Думу во всеуслышание, желают ли г.г. народные представители защищаться против немцев». Поливанов в заседании объяснял, что думская комиссия от него «настойчиво требует» объяснения о положении на театре войны и состоянии снабжения, и без удовлетворения этого желания закон о ратниках не будет принят. Харитонов предлагает повернуть вопрос в обратном порядке: что Дума немедленно рассмотрит законопроект, а ей «за это» сообщить краткие сведения, поскольку это допускается соблюдением военной тайны. В данном случае у правительства не было желания игнорировать Думу. Сам председатель думской военно-морской комиссии Шингарев в показаниях признал, что давать в Комиссии, где было «слишком много народа» (помимо 60 постоянных членов приходили и другие депутаты), секретные сведения «было нельзя». В качестве примера Шингарев рассказывал, как его запрос Сазонову перед войной (еще в январе) в закрытом заседании бюджетной комиссии: готовится ли правительство «во всеоружии» встретить неизбежное, по его мнению, столкновение с Германией на почве пересмотра торговых договоров, и ответ министра, что он «на основании сведений, которые имеет», ожидает столкновение – какая-то «нескромная газета разболтала» («Биржевка»). В результате последовал запрос со стороны немецкого посла гр. Пурталеса и обсуждение вопроса в германской печати.]. И в последующих заседаниях, когда вопрос о конкретном роспуске Думы затягивался, снова Кривошеин ставил в «неотложный» порядок дня время перерыва занятий Думы, роспуск Думы должно произвести до сентября, когда будут внесены сметы и отпадет легальная возможность прекращения думских занятий. «Ко мне приходят члены Думы разных партий, – пояснял Кривошеин 19 августа, – и говорят, что Дума исчерпала предмет своих занятий и что благодаря этому создается в ней тревожное настроение. Безнадежность наладить отношения с правительством, вопрос о смене командования, сведения с мест в связи с наплывом беженцев, всеобщее недовольство и т.д. – все это в совокупности может подвинуть Думу на такие решения и действия, которые тяжело отразятся на интересах обороны. Мне прямо указывали, что речи по запросам и резолюции по ним могут принять откровенно революционный характер. Словоговорение увлекает и ему нет конца». «Заседания без законодательного материала превращают Гос. Думу в митинг по злободневным вопросам, а кафедру – в трибуну для противоправительственной пропаганды», – повторял Кривошеин. 24 августа: «Мне многие депутаты даже из левых кругов говорят, что Дума начинает безудержно катиться по наклонной плоскости».
Против роспуска Думы ни один министр не возражал. Все первоначально были солидарны с тем, что Думу необходимо распустить, но расставание с Думой, принимая создавшуюся «внутреннюю и внешнюю обстановку», следует «обставить по-хорошему, благопристойно, предупредив заранее, а не потихоньку, как снег на голову», предлагал в том же заседании Кривошеин: «Надо сговориться с президиумом». Предварительные переговоры, пользу которых не отрицал и председатель, в глазах Кривошеина имели лишь «дипломатическое значение», ибо он предусматривал ответ «неизбежно отрицательный»: «даже балашовцы не решатся открыто сказать, что пора Думу распустить». Бесполезно, по мнению Харитонова, говорить и с председателем Думы, ибо «можно быть заранее уверенным, что Родзянко встанет на дыбы и будет утверждать, что спасение России только в Думе». Надо искать поддержки у «благожелательных думцев», – предлагает военный министр. Кто они, «эти благожелатели», – спрашивает Горемыкин. «Разве г. председатель Совета министров ранее не интересовался этим вопросом и не принимал меры к его выяснению», – уклончиво ответил Поливанов, воздерживаясь определенно назвать образовавшийся к этому моменту «прогрессивный» (по терминологии общественной) или «желтый» (по терминологии правившей бюрократии) блок в Думе.
2. Прогрессивный блок
Внешние уступки отнюдь не носили в Совете министров принципиального характера: надо было «faire bonne mine au mauvais jeu», как выразился мин. нар. просв. Игнатьев, допускавший возможность, что Дума откажется подчиниться декрету о роспуске[154 - Только в официальных отчетах Пет. Тел. Аг. можно было писать, что Дума, собравшаяся в годовщину войны, «единодушно» выразила свои «верноподданнические чувства». В действительности агрессивно настроенная оппозиция с самого начала заговорила отнюдь уже не языком 26 июля 1914 г., а словами «законных исполнителей» народной воли (характеристика Милюкова).]. (Министр вн. д. сомневался, что Дума пойдет на «прямое неподчинение» – «все-таки огромное большинство их трусы и за свою шкуру дрожат. Но бурные сцены, призывы, протесты и митинговые выступления несомненны. Если императорский Яхт-Клуб на Морской революционен, то от Гос. Думы можно ожидать чего угодно и какой угодно истерики».) «Зловещие слухи», сознание полного своего бессилия перед надвигающимися событиями – «угрозы внутренней революции»[155 - Еще 11 августа Щербатов заявлял, что он не может «при слагающейся конъюнктуре» нести ответственность… «Как хотите, чтобы я боролся с растущим революционным движением, когда мне отказывают в содействии войск, ссылаясь на их ненадежность и на неуверенность в возможности заставить стрелять в толпу. С одними городовыми не умиротворишь всю Россию, особенно когда ряды полиции редеют не по дням, а по часам, а население ежедневно возбуждается думскими речами, газетным враньем, безостановочными поражениями на фронте и слухами о непорядках в тылу».] совершенно выбили большинство членов Совета из колеи. После «долгих колебаний» Кривошеин накануне упоминавшегося заседания с Царем пришел к выводу о необходимости коренного изменения внутренней политики. По его мнению, правительство вплотную подошло к дилемме – диктатура или соглашение с общественностью. Для разрешения ее он считал наличный состав министерства непригодным. К позиции Кривошеина всецело присоединялся Щербатов, повторивший на другой день после заседания в Царском его аргументацию: «Мы все вместе непригодны для управления Россией при слагающейся обстановке. Там, где должны петь басы, тенорами их не заменишь. И я, и многие сочлены по Совету министров определенно сознают, что невозможно работать, когда течение свыше заведомо противоречит требованиям времени. Нужна либо диктатура, либо примирительная политика. Ни для того, ни для другого я, по крайней мере, абсолютно не считаю себя пригодным. Наша обязанность сказать Государю, что для спасения государства от величайших бедствий надо вступить на путь направо или налево. Внутреннее положение в стране не допускает сидение между двух стульев».
В такой обстановке на авансцену появился «прогрессивный блок». Запись о спорах в Совете министров 24 августа у Яхонтова прерывается. Отмечено только, что «вопрос о перерыве занятий государственных учреждений решено отложить до соображения с подлежащей рассмотрению в Совете мин. программы образующегося в Гос. Думе блока нескольких партийных групп». 26-го к этому обсуждению правительство и приступило. Прислушаемся к прениям – они чрезвычайно показательны. Начал Сазонов, изложивший возникшие у него «глубокие сомнения по существу»: «Насколько в данной обстановке было бы с государственной точки зрения удобно прибегать к роспуску Думы. Несомненно, этот акт повлечет за собой беспорядки не только в среде тяготеющих к Думе общественных учреждений, союзов и организаций, но и среди рабочих. Хотя они связаны с Думой не органически, а искусственно, но удобный случай для демонстраций не будет упущен. Большинство (?) членов Гос. Думы само держится того взгляда, что по существу создавшегося положения роспуск нужен. Однако их удерживают опасения усиления брожения на заводах и разных выступлений, могущих привести к кровавым последствиям. Надо взвесить всесторонне. Быть может, придется признать, что митингующая Дума меньшее зло, чем рабочие беспорядки в отсутствие Думы»[156 - Морской министр заявил, что по его сведениям в случае роспуска Думы беспорядки неизбежны. Настроение рабочих очень скверно. Немцы ведут усиленную пропаганду и заваливают деньгами противоправительственные организации.]. «Выгодно ли распускать Думу, не поговорив с ее большинством о приемлемости этой (т.е. блока) программы». Сазонов высказывается за необходимость побеседовать с представителями блока: «Программа их, несомненно, с запросом и рассчитана чуть ли не на 15 лет (!!). Надо ее подробно рассмотреть… выбрать отвечающее условиям военного времени и по существу приемлемое… А затем, сговорившись и обещав проведение в жизнь обусловленного, можно будет распустить». Горемыкин возражает: «Все равно разговоры ни к чему не приведут… Ставить рабочее движение в связь с роспуском Думы неправильно. Оно шло и будет идти независимо от бытия Гос. Думы… Будем ли мы с блоком или без него – для рабочего движения это безразлично». Горемыкин согласен рассматривать программу блока, часть которой правительство могло бы принять в дальнейшей деятельности. Но разговоры с «блоком» председатель считает недопустимыми: «Такая организация законом не предусмотрена». «Блок создан, – утверждал Горемыкин, – для захвата власти. Он все равно развалится, и все его участники между собой переругаются». Сазонов: «А я нахожу, что нам нужно во имя общегосударственных интересов этот блок, по существу умеренный, поддержать». Сазонов соглашается, что роспуск Думы «нужен», но «для осуществления его надо сговориться с той организацией, которая представляет собой антиреволюционную Думу». Шаховской находит, что «и дальнейшее оставление Думы и ее роспуск при настоящих настроениях одинаково опасны. Из двух этих зол я выбираю меньшее и высказываюсь за немедленный, хотя завтра, роспуск. Но сделать это надо… поговорив с представителями блока… Таким способом действий примирительного характера мы откроем выход самим думцам, которые жаждут роспуска»[157 - Морской министр заявил, что по его сведениям в случае роспуска Думы беспорядки неизбежны. Настроение рабочих очень скверно. Немцы ведут усиленную пропаганду и заваливают деньгами противоправительственные организации.]. Щербатов высказывается также за немедленный роспуск и за сговор с блоком: «Отрицать нельзя, его программа шита нитками и его легко развалить… но это было бы невыгодно правительству… самая программа составлена с запросом в расчете поторговаться… Согласившись по отдельным пунктам программы, мы создадим сочувствующее нам ядро хотя бы человек в двести, и тогда можно будет безболезненно произвести операцию роспуска. Перерыв… надо будет посвятить на проведение по 87 ст. условленных с думцами законов и реформ. Эта работа поднимет кредит правительства в стране, которая будет знать, что мы действуем по соглашению с думцами. Нам станет легче управлять и осуществлять то, что требуется исключительными условиями войны». Горемыкин: «Вы упускаете, что одно из основных пожеланий блока – длительность сессии». Щербатов: «Это только для вывески». Сазонов: «Большинство Думы определенно против длительной сессии». Горемыкин: «Да, но оно никогда об этом публично не сознается». Сазонов: «Но и не будет нам мешать прервать сессию и в случае надобности нас поддержит…»
После такого предварительного обмена мнений Совет приступил к обсуждению программы блока, зафиксированной в документе, подписанном 25 августа представителями соответствующих групп Гос. Думы и Гос. Совета. Платформа блока провозглашала «создание объединенного правительства из лиц, пользующихся доверием страны и согласившегося с законодательными учреждениями относительно выполнения в ближайший срок определенной программы, направленной к сохранению внутреннего мира и устранению розни между национальностями и классами». «Начало программы, – заметил Горемыкин, – сводится к красивым словам, на которые мы не будем терять времени». Поливанов: «В этих красивых словах кроется вся сущность пожеланий общественных кругов о правительстве. Можно ли так пренебрежительно проходить мимо них». Горемыкин: «Совету министров недопустимо обсуждать требования, сводящиеся к ограничению царской власти. Программа будет представлена Государю Императору, и от Е. В. единственно зависит принять то или иное решение». Председатель обращается к пунктам программы, первый из которых имел в виду широкую амнистию «на путях Монаршего милосердия», как говорилось в тексте. Щербатов высказывается против общей амнистии. «Следовало бы ограничиться постепенным образом действий. Можно сговориться с блоком в том смысле, чтобы им был составлен список подлежащих амнистии, а мы… будем постепенно осуществлять». «Разбор политических дел идет в мин. юстиции непрерывно», – поясняет Хвостов, – не мало джентльменов гуляет на свободе…» «Но публика этого не знает», – замечает Щербатов. – Надо сделать с рекламой. Взять десяток-другой особенно излюбленных освободителей и сразу выпустить их на свет Божий с пропечатанием во всех газетах о Царской милости…» «На недопустимости общей амнистии согласились все», – гласит яхонтовская запись.
Предложение министра вн. д. – по мнению председателя – применимо и по второму пункту программы» (возвращение административно высланных за дела политического характера). «Никто не возражает, – записывает Яхонтов, – против слов Сазонова, что необходимо снять с правительства пятно ничем не оправдываемого произвола», порожденного предместником кн. Щербатова на министерском посту (т.е. Маклаковым). Соглашаются с тем, что давно пора покончить с «безобразием» в области религиозной политики, когда циркуляр нарушал провозглашенную манифестом веротерпимость (п. 3 программы блока).
«По польскому вопросу много сделано и делается», – комментирует Горемыкин п. 4 программы. Харитонов: «Скрыта мысль – снять все стеснения в вопросах землевладения в ограждаемых от польского проникновения областях». Харитонов полагает, что «правительственная политика в данном случае не допускает уступок». «К заключению госуд. контролера присоединился единогласно весь Совет министров», – вновь сообщает запись протоколиста.
Пунктом 5-м было еврейское равноправие, формулированное в таких, более чем осторожных, выражениях: «Вступление на путь отмены ограничений в правах евреев, в частности, дальнейшие шаги к отмене черты оседлости, облегчение доступа в учебные заведения и отмена стеснений в выборе профессии, восстановление еврейской печати». «Должен предупредить Совет министров, – заявляет председатель, – что Государь неоднократно повторял, что в еврейском вопросе он на себя ничего не возьмет. Поэтому возможен только один путь – через Государственную Думу. Пускай, если это ей по плечу, она займется равноправием. Не далеко она с ним уйдет». Щербатов: «Дума никогда не решится поставить вопрос об еврейском равноправии. Кроме скандалов из этого ничего бы не вышло. Другое дело устранение ненужных, обходимых и устарелых стеснений…» «Решено вести беседу о программе блока по еврейскому вопросу, – значится в «протоколе», – в смысле согласия идти по пути постепенного пересмотра ограничительного законодательства и административных распоряжений». «Принцип благожелательности» в финляндской политике (п. 6) также не встретил возражений, но принятие обязательства немедленного пересмотра законодательства о Вел. кн. Финляндском признано нежелательным, дабы не связывать правительства. Восстановление малорусской печати (п. 7) признано допустимым, поскольку дело идет не о сепаратических украинофильских органах. Согласился Совет и на допущение профессиональных союзов (п. 8). По поводу последнего пункта программы Совет вообще нашел, что там не имеется «чего-либо неприемлемого в отношении принципиальном». Из перечисленных законопроектов часть уже проведена, часть лежит в Гос. Думе с давних пор без движения: (введение земских учреждений на окраинах, уравнение крестьян в правах с другими сословиями, законопроект о кооперативах, об утверждении «трезвости навсегда» и т.д.).
В воспоминаниях Поливанова утверждается, что инициатором репрессивных мер в отношении печатного слова выступил 16 августа председатель Совета, и что «никто его не поддержал». Записи Яхонтова категорически опровергают такое заявление. Обуздать «беззастенчивую печать», которая «будто с цепи сорвалась», хотели все. Затруднения были лишь в многовластии, приводившем к «безвластию» (Барк), т.е. во взаимных отношениях военных и гражданских властей. В правительственной столице, которая естественно наиболее беспокоила Совет министров, распоряжалась военная власть, руководившаяся своими законоположениями, – в них не предусмотрена была цензура политическая. В ответ на упреки, что мин. вн. д. недостаточно энергично действует в отношении печати, Щербатов, называя себя «безгласным зрителем», заявлял: «Но что же я могу поделать, когда в Петрограде я только гость, а все зависит от военной власти. Эксцессы печати вызвали с нашей стороны обращение в Ставку о необходимости в интересах поддержания внутреннего порядка указать военным цензорам о более распространительном понимании их задач. В ответ на это последовало из Ставки распоряжение[144 - Ген. Янушкевич, по словам Щербатова, усмотрел здесь покушение на прерогативы Ставки.]… о том, что военная цензура не должна вмешиваться в гражданские дела. Это распоряжение и послужило основанием к теперешней разнузданности». Министерство вн. д. бессильно перед усмотрением Ставки, у ведомства нет средств помешать «выходу в свет всей той лжи и агитационных статей, которыми полны… газеты». Как бы в ответ на эти ламентации Горемыкин 16-го специально поставил на обсуждение вопрос о печати: «Они, черт знает, что такое начали себе позволять». «Действительно, наша печать переходит все границы не только дозволенного, но и простых приличий… Они (петр. газеты) заняли такую позицию, которая не только в Монархии – в любой республиканской стране не была бы допущена, особенно в военное время. Сплошная брань, голословное осуждение, возбуждение общественного мнения против власти, распускание сенсационных известий – все это день за днем действует на психику 180 милл. населения». Должна же быть «управа» на «г. г. цензурующих генералов» – заявляет Кривошеин. «Если генералы, обладающие неограниченными полномочиями и охотно ими пользующиеся в других случаях, не желают помочь мин. вн. д. справиться с разбойничеством печати, то сместить их к черту и заменить другими, более податливыми», – предлагает Харитонов. Государственный контролер рекомендует «закрыть две или три газеты, чтобы одумались и почувствовали на собственном кармане», и «прихлопнуть надо газеты разных направлений, слева и справа «Земщина» и «Русское Знамя» вредят не меньше разных «Дней», «Ранних Утр» и т.п. органов». «“Новое и Вечернее Время”, – вставляет Сазонов, – тоже хороши. Я их считаю не менее вредными, чем разные листки, рассчитанные на сенсацию и тираж». «Обе эти газеты, – поясняет Харитонов, – находятся под особым покровительством, и у военной цензуры на них рука не поднимается. С начала войны и до сих пор Суворины неустанно кадят Ставке, и оттуда были даны указания их ни в коем случае не трогать…»
На следующий день в заседание был вызван начальник петербургского военного округа ген. Фролов для обсуждения «дурацких циркуляров» из Ставки (выражение Горемыкина) и средств воздействия на печать. Генерал заявил, что он получил непосредственное указание от Царя на необходимость «хорошенько образумить» печать, ибо «нельзя спокойно драться на позициях, когда каждый день это спокойствие отравляется невероятными слухами о положении внутри». «Значит, я так понимаю, что я палка, которая должна бить покрепче. Дело мне новое – только вчера оно передано мне в руки. Соберу редакторов, поговорю с ними по душам… Если же они не пойдут навстречу уговорам, то прибегну к надлежащим жестам вплоть до принудительного путешествия непокорных в далекие от столицы страны»[145 - В том же заседании вновь выплыло имя Суворина. Щербатов обратил внимание на статью в «Вечернем Времени» по поводу послания Синода, призывавшего «православный народ к посту и молитве по случаю постигших родину бедствий». (Совет отнесся весьма сочувственно к этим дням траура 26—29 авг., – излишества кафешантанных развлечений, «пьяное времяпровождение» являются противоречием призыву: «все для войны»). «Бориса Суворина мало бить за подобную выходку», – заметил мин. вн. д. «Статья возмутительна», – со своей стороны признает обер-прокурор Самарин «и возбуждает справедливое негодование, что автор ее еще не потерпел примерного наказания». Горемыкин, Кривошеин и Поливанов в один голос заявляют, что газета достойна немедленного закрытия. «Этого сумасшедшего полезно в горячечную рубашку посадить». «Почтенный Борис Суворин несколько зарвался. Его избаловало положение безнаказанного фаворита Ставки. Теперь протекции его конец». Однако начинать с Суворина, по мнению Щербатова, неудобно: «В обществе ходит слух о недовольстве правительства его непримиримостью к вопросам о немецком засилии. Несомненно, что закрытие его газеты поспешат объяснить именно этим недовольством». «Самое простое, – говорит Горемыкин, – хорошенько взмылить ему голову – пусть мин. вн. д. позовет его к себе. Если же он будет продолжать безобразничать, то тогда можно будет услать его куда-нибудь подальше». Через неделю на сцену опять выдвигается Борис Суворин по инициативе Сазонова. В дополнение к словам Горемыкина он указывает: «А вчерашнее сообщение о покушении на вел. кн. Н. Н. Подлейший подвиг подлого репортера… Все это злостная выдумка для возбуждения общественной тревоги». Фролов: «Выясню, какая газета напечатала это известие первая, и оштрафую в наивысшем размере». Сазонов: «Эту ложь пустил Борис Суворин в его дрянном “Вечернем Времени”». Фролов: «Хлопну тогда Бориску. Очевидно, он сболтнул спьяна. Ведь это его обычное состояние». Мы видим, что негодование А. Ф. на литературную деятельность бр. Сувориных, находившихся под покровительством Ставки («Надо их укротить», – писала она мужу 3 сентября: до нее доходили слухи, что один из Сувориных называл великого князя Николаем III), соответствовало общему настроению, которое вызывала в Совете министров эта деятельность. С переменой верховного командования исчез и иммунитет редактора «Вечернего Времени».].
Через неделю Фролов снова вызван был в Совет для внушения о необходимости прекратить продолжавшиеся «безобразные выходки» печати. «Наши газеты совсем взбесились», – заметил председатель, – это не свобода слова, а черт знает что такое». Военный министр поясняет, что военным цензорам трудно разбираться в тонкостях желательного или нежелательного при сменяющихся течениях в государственной жизни, и они должны руководиться перечнем запрещенного. Военное ведомство должно быть вне политики. Сазонов настаивает на широком понимании цензуры, «как это делается в Германии», не разгораживая ее по ведомствам. (Запись Яхонтова таким образом показывает, что инициатива этой меры не принадлежала Горемыкину, как указывал в своих показаниях Поливанов. Как раз такое расширение толкования прав военной цензуры служило поводом обвинения, которое предъявлялось в Чр. Сл. Ком. тов. мин. вн. д. Плеве.) По мнению Горемыкина, затронуты слишком существенные интересы, чтобы останавливаться на формальностях и толкованиях закона. Председатель предупреждает, что, если положение не изменится, генерал может нажить «большие неприятности», равно как и мин. вн. д., так как Государь «крайне недоволен, что столько времени правительство не может справиться с газетной агитацией». Щербатов в ответ жалуется, что при отмене предварительной цензуры его ведомство «не может помешать появлению нежелательных известий, наложение же штрафов и закрытие вызывают запросы и скандалы в Гос. Думе». «Вот Дума на днях не будет вам больше мешать», – замечает Горемыкин. – Тогда можно будет справиться…» 28 августа «опять беседа о положении печати», – записывает Яхонтов. Военная власть «ничего не хочет делать. («Ген. Фролов никого, даже Совет министров не желает слушать», по замечанию Щербатова.) Настояния правительства остаются безрезультатными». «Страну революционизируют на глазах у всех властей, и никто не хочет вмешиваться в это возмутительное явление… На карте – судьба России, а мы топчемся на месте». «Наши союзники в ужасе от той разнузданности, которая царит в русской печати. В этой разнузданности они видят весьма тревожные признаки для будущего», – сообщает министр ин. д.
Приведенные выдержки из записей о «делах и днях» Совета министров с достаточной очевидностью свидетельствуют о «точности» воспоминаний ген. Поливанова. Больших принципиальных разногласий между председателем Совета и министрами мы не видим и в других вопросах. Далеко не всегда Горемыкин был вдохновителем «реакционных» предложений. Вот вопрос о русской валюте в Финляндии, поставленный на очередь Щербатовым в заседании 30 июля. Министр отмечал «поразительную нелепость»: «В пределах одной Империи одна область спекулирует на спине всей остальной страны… следовало бы положить границу зарвавшимся финнам». Государственный контролер поддерживает мин. вн. д.: «Блаженная страна. Вся Империя изнемогает в военных тяготах, а финляндцы наслаждаются и богатеют за наш счет. Даже от основной гражданской обязанности – защищать государство от неприятеля – они освобождены. Давно бы следовало притянуть их хотя бы к денежной, взамен натуральной (если она нежелательна), повинности. А тут они еще смеют с нашим рублем каверзничать». Министр ин. д. просит «оставить финнов в покое. За этим вопросом очень ревностно следят шведы, и лучше пока заставить совершенно о нем забыть». Председатель вполне соглашается с этой точкой зрения: «Овчинка выделки не стоит. Пользы от кучки чухонцев нам будет мало, а неприятностей не оберешься. Ну их всех к черту… Посмотрим, что дальше будет. У нас и без того по горло всяких вопросов».
Это «посмотрим, что дальше будет» (излюбленное выражение Горемыкина), выражало характерную черту, направлявшую политику старого председателя Совета министров – делать все «постепенно». «Кончим войну, – тогда посмотрим, что будет…» Горемыкин «твердо» стоял на позиции, что во время войны невозможна законодательная работа принципиального характера (показания упр. делами Ладыженского). Кн. Волконский, однако, ни разу не слышал от Горемыкина, что Думу надо уничтожить… Горемыкин вовсе не был сторонником крайних решений и легко склонялся к компромиссу, к той «золотой середине», против которой в конце концов восстали сами министры. Эту «золотую середину» предпочитал сам верховный носитель власти, и Горемыкин, как истинный «верноподданный», исполнял веления Монарха. Он говорил Шелькину, что, по его мнению, революционное движение разлетелось бы, «как пепел сигары»: «Я не раз хотел дунуть, но Государь не хотел идти со мной до конца». Просматривая яхонтовские записи, видишь, как часто в Совете министров Горемыкин вводил примиряющую ноту. Вероятно, это и дало повод впоследствии Сазонову говорить о «циничном безразличии поседевшего на административных постах бюрократа»[146 - Это «безразличие», очевидно, объясняется в большей степени той своеобразной бюрократической корректностью Горемыкина, не считавшего себя вправе вмешиваться в вопросы внешней политики и военных дел, по установившейся традиции не подлежавших его компетенции. Наумов в Чр. Сл. Ком. называл Горемыкина человеком безличным в противоположность его преемнику Штюрмеру, который вел определенную политику. Между тем в Чр. Сл. Комиссии именно против Горемыкина сконцентрировано было обвинение в нарушении «основных законов».].
Примером примиряющей позиции Горемыкина может служить вопрос об отношении к союзникам, очень резко вставший в Совете в связи с требованием отправки золота в Америку для обеспечения платежей по заказам. Харитонов: «Значит, с ножом к горлу прижимают нас добрые союзники». Кривошеин: «Они восхищаются нашими подвигами для спасения союзных фронтов ценою наших собственных поражений, а в деньгах прижимают не хуже любого ростовщика. Миллионы жертв, которые несет Россия, отвлекая на себя немецкие удары, которые могли бы оказаться фатальными для союзников, заслуживают с их стороны более благожелательного отношения в смысле облегчения финансовых тягот…» Шаховской: «Насколько могу судить, мы, говоря просто, находимся под ультиматумом наших союзников». Барк: «Если хотите применить это слово, то я отвечу – да». Кривошеин: «Раз вопрос зашел так далеко, то приходится подчиниться, но я сказал бы – в последний раз. Впредь надо твердо заявить союзникам: вы богаты золотом и бедны людьми, а мы бедны золотом и богаты людьми; если вы хотите пользоваться нашей силой, то дайте нам пользоваться вашей…» Горемыкин: «Лучше не затрагивать щекотливого вопроса об отношении с союзниками. Практически это ни к чему не приведет. Надо окончательно выяснить, насколько вывоз золота неизбежен». Барк: «Если Совет министров откажет в согласии на вывоз золота, то я слагаю с себя ответственность за платежи в сентябре. Предвижу неизбежность катастрофы…»
1. Правительство и ДумаДумская болтовня
Резкие тактические разногласия в Совете министров начались с момента принятия на себя Царем верховного командования, осложнившегося, как мы видели, вопросом о перерыве занятий Государственной Думы. Сам по себе роспуск Думы на осенние «каникулы» не возбуждал никаких сомнений. Правящая бюрократия в лице Совета министров, вне зависимости от своих политических оттенков, не слишком расположена была к «г. г. народным представителям» – к «безответственным людям, прикрывающимся парламентской неприкосновенностью», к той «таврической демагогии», которая в «захватном порядке стремится занять неподобающую роль посредника между населением и правительством» (заявления Кривошеина, Щербатова, Харитонова). У них у всех ироническое отношение к председателю Думы, который, по выражению Самарина, увлекается «им самим себе придуманной ролью главного представителя народных представителей». («У него, несомненно, мания величия», – добавляет Щербатов. «И притом в весьма опасной стадии развитая», – вставляет Кривошеин.) Заседающая Дума означает не прекращающийся «штурм» власти – «ненавистной бюрократии» (Кривошеин). Наличие Думы – препона для экстренных текущих законодательных мероприятий, которые подчас требовались военными обстоятельствами, так как при нормальном порядке законодательства не могла быть применена спасительная ст. 87. «Военных» в Ставке также раздражает «думская болтовня»[147 - Кр. Архив 27—51 ст. Кудашев.].
И тем не менее бытовые условия жизни требовали претерпевать и «потрясающие речи» и запросы. Старая Ставка придавала, например, большое значение призыву ратников 2-го разряда. Ген. Янушкевич развивал (в изложении Кудашева) такие мотивы в объяснение необходимости призвать немедленно сразу большое количество людей: «Одна часть этих людей, призываемая в первую очередь, обречена будет вследствие своей необученности верной гибели», но даст время остальным подучиться. Так, при одновременном призыве 1,5 миллиона сперва вольются в строй 300 т, которые и «лягут костьми» в первый же месяц; через месяц появятся 300 тыс. слабо обученных, их заменят солдаты с двухмесячным образованием и т.д., так что материал солдатский будет все время улучшаться. «Не берусь судить о достоинствах такой системы, но расточительность человеческих жизней представляется мне очень жестокой, – комментирует Кудашев в письме Сазонову 3 августа. – Против нее опытные офицеры возражают, что она фатально приведет к расстройству и ослаблению самих кадров». Против единовременного призыва такого числа ратников 2-го разряда протестуют в Совете Кривошеин и Щербатов, так как он внесет расстройство в жизнь страны, особенно чувствительное в период сбора урожая. Кривошеин вообще негодует на систему «сплошных поборов», которую он саркастически называл «реквизициями населения России для пополнения бездельничающих в тылу гарнизонов». «Обилие разгуливающих земляков по городам, селам, железным дорогам и вообще по всему лицу земли русской поражает мой обывательский взгляд. Невольно напрашивается вопрос, зачем изымать из населения последнюю рабочую силу, когда стоит только прибрать к рукам и рассадить по окопам всю эту толпу гуляк, которые своим присутствием еще больше деморализуют тыл». Критике приходилось замолкнуть, ибо этот вопрос, – иронизировал Кривошеин, – относился «к области запретных для Совета министров военных дел»[148 - Возможность заглянуть за кулисы опровергает, таким образом, ходячую версию, что против призыва высказывалась только Царица под напором Распутина, сыну которого угрожало привлечение на военную службу. А. Ф. действительно настаивала на отмене проекта Ставки. Она писала 10 июня по вопросу, который «наш Друг так принимает к сердцу и который имеет первостепенную важность для сохранения внутреннего спокойствия». Если приказ относительно призыва 2-го разряда дан, «то скажи Н., что так как надо повременить, ты настаиваешь на его отмене. Но это доброе дело должно исходить от тебя. Не слушай никаких извинений. Я уверена, что это было сделано не намеренно, вследствие незнания страны». 16 июня Царь отвечал: «Когда я сказал, что желаю, чтобы был призван 1917 год, все министры испустили вздох облегчения. Н. тотчас же согласился. Янушкевич просил только, чтобы ему позволили выработать подготовительные меры – на случай необходимости». Тем не менее в августе этот вопрос во всей своей конкретности встал перед Советом министров.]. Между тем решить этот вопрос должна была Гос. Дума. «Если станет известным, что призыв ратников 2-го разряда производится без санкции Гос. Думы, то боюсь, – утверждал министр вн. д., – при современных настроениях мы ни единого человека не получим». «Наборы с каждым разом проходят все хуже и хуже, – констатирует Щербатов. – Полиция не в силах справиться с массою уклоняющихся. Люди прячутся по лесам и в несжатом хлебе… Агитация принимает все больше антимилитаристический или, проще говоря, откровенно пораженческий характер…»
К числу таких же злободневных вопросов, о которых должна была высказаться Гос. Дума, принадлежал и злосчастный вопрос беженский – по крайней мере в представлении части министров. Щербатов считал «безусловно необходимым» санкцию Думы для образующегося Особого Совещания по беженцам, чтобы в нем были представлены выборные от законодательных учреждений, – надо «снять с одного правительства всю ответственность за ужасы беженства и разделить ее с Гос. Думой»[149 - Горемыкин: «Какая там страховка. Все равно будут взваливать всю ответственность на правительство. Совещание по обороне состоит из выборных и обладает неограниченными полномочиями, а все-таки за недостаток снабжения ругают исключительно нас».]. Военный министр, со своей стороны, считал необходимым провести через Думу закон о милитаризации заводов – меру «безусловно срочно» нужную для обороны, но «по своему существу она такова, что ввести ее в действие без санкции законодательных учреждений едва ли возможно в теперешние времена». «Во всяком случае, – добавлял Поливанов, – я не решился бы в столь щекотливом деле прибегать к 87 ст.»[150 - Харитонов предпочитал бы как раз наоборот – применить именно ст. 87, если нельзя избегнуть такой чрезвычайной меры, как мобилизация заводов. В Думе вопрос о личной принудительной повинности не имеет «шансов благополучного прохождения». При господствующих в Думе тенденциях подобная повинность явится поводом к агитационным выступлениям – «пойдет пищать волынка».].
Так вращался Совет в заколдованном до некоторой степени круге, изыскивая пути по возможности обходиться на практике без Думы[151 - Впоследствии во всеподданнейшем докладе 10 февр. 1917 г. Родзянко жаловался, что правительство «бессистемно» заваливает Думу законопроектами, имеющими отдаленное значение для мирного времени, а все вопросы, связанные с войной, разрешает самостоятельно. Упомянутые только что факты вводят корректив к такому обобщению.]. «Дума отучила нас от оптимизма, – говорил государственный контролер, человек либеральной репутации. – Ею руководят не общие интересы, а партийные соображения» («политические расчеты»). Не приходится поэтому удивляться, что инициатором перерыва занятий летней сессии Думы в сущности явился Кривошеин, поднявший этот вопрос в заседании 4 августа – тогда, когда «катастрофа» (в глазах большинства членов Совета), связанная с перипетиями перемены верховного командования, никем еще не предвиделась. Кривошеин напомнил, что «когда решался вопрос об экстренном созыве… мы имели в виду короткую сессию так до первых чисел августа»[152 - Думу предполагалось «по соглашению» созвать в ноябре, но было «обещано», как говорил Родзянко в Чр. Сл. Ком., созвать Думу немедленно в случае «малейших колебаний государственных дел и на войне». (Родзянко склонен был впоследствии формулу созыва Думы «не позже конца ноября» считать лишь «лицемерным» фокусом, чтобы «отделаться».) 8 июля, в связи с военными неудачами и обновлением состава правительства, Дума и была в экстренном порядке созвана на 19 июля – в годовщину объявления войны. В правительственной декларации указывалось, что правительство считает своим нравственным долгом идти на новые военные напряжения в «полном единении с Думой», от которой история ждет, таким образом, «ответного голоса Земли Русской». Правительство «без всяких колебаний» идет на новые жертвы. В Чр. Сл. Ком. Родзянко утверждал, что Дума была созвана «насильственно». Царь «сдался» только под влиянием «упорного настояния» председателя Думы.]. Правда, Кривошеин был за кратковременное продление сессии, дабы дать возможность Думе высказаться о призыве ратников: «Не стоит обострять настроения из-за каких-нибудь 2—3 дней». Но он, как и другие, видел в намеренной затяжке Думой решения вопроса о ратниках лишь «тактический прием» продлить заседания и тем самым отдалить перерыв занятий, а поэтому по существу высказался за ультимативный способ действия согласно предложению председателя: дать Думе короткий срок для проведения законопроекта и, если условия не будут соблюдены, распустить («переговоры и убеждения не помогут») и ходатайствовать о призыве ратников высоч. манифестом «с ссылкой на переживаемые родиной чрезвычайные обстоятельства»: «Пусть тогда все знают, что роспуск Думы вызван ее нежеланием разрешить вопрос, который связан с интересами пополнения армии и не допускает дальнейших замедлений»[153 - Для характеристики принципиальной позиции Кривошеина нелишне будет вспомнить, что говорил этот министр раньше по существу этого законопроекта. В одном из последующих заседаний Кривошеин так – достаточно демагогически – формулировал свое предложение: надо «спросить Гос. Думу во всеуслышание, желают ли г.г. народные представители защищаться против немцев». Поливанов в заседании объяснял, что думская комиссия от него «настойчиво требует» объяснения о положении на театре войны и состоянии снабжения, и без удовлетворения этого желания закон о ратниках не будет принят. Харитонов предлагает повернуть вопрос в обратном порядке: что Дума немедленно рассмотрит законопроект, а ей «за это» сообщить краткие сведения, поскольку это допускается соблюдением военной тайны. В данном случае у правительства не было желания игнорировать Думу. Сам председатель думской военно-морской комиссии Шингарев в показаниях признал, что давать в Комиссии, где было «слишком много народа» (помимо 60 постоянных членов приходили и другие депутаты), секретные сведения «было нельзя». В качестве примера Шингарев рассказывал, как его запрос Сазонову перед войной (еще в январе) в закрытом заседании бюджетной комиссии: готовится ли правительство «во всеоружии» встретить неизбежное, по его мнению, столкновение с Германией на почве пересмотра торговых договоров, и ответ министра, что он «на основании сведений, которые имеет», ожидает столкновение – какая-то «нескромная газета разболтала» («Биржевка»). В результате последовал запрос со стороны немецкого посла гр. Пурталеса и обсуждение вопроса в германской печати.]. И в последующих заседаниях, когда вопрос о конкретном роспуске Думы затягивался, снова Кривошеин ставил в «неотложный» порядок дня время перерыва занятий Думы, роспуск Думы должно произвести до сентября, когда будут внесены сметы и отпадет легальная возможность прекращения думских занятий. «Ко мне приходят члены Думы разных партий, – пояснял Кривошеин 19 августа, – и говорят, что Дума исчерпала предмет своих занятий и что благодаря этому создается в ней тревожное настроение. Безнадежность наладить отношения с правительством, вопрос о смене командования, сведения с мест в связи с наплывом беженцев, всеобщее недовольство и т.д. – все это в совокупности может подвинуть Думу на такие решения и действия, которые тяжело отразятся на интересах обороны. Мне прямо указывали, что речи по запросам и резолюции по ним могут принять откровенно революционный характер. Словоговорение увлекает и ему нет конца». «Заседания без законодательного материала превращают Гос. Думу в митинг по злободневным вопросам, а кафедру – в трибуну для противоправительственной пропаганды», – повторял Кривошеин. 24 августа: «Мне многие депутаты даже из левых кругов говорят, что Дума начинает безудержно катиться по наклонной плоскости».
Против роспуска Думы ни один министр не возражал. Все первоначально были солидарны с тем, что Думу необходимо распустить, но расставание с Думой, принимая создавшуюся «внутреннюю и внешнюю обстановку», следует «обставить по-хорошему, благопристойно, предупредив заранее, а не потихоньку, как снег на голову», предлагал в том же заседании Кривошеин: «Надо сговориться с президиумом». Предварительные переговоры, пользу которых не отрицал и председатель, в глазах Кривошеина имели лишь «дипломатическое значение», ибо он предусматривал ответ «неизбежно отрицательный»: «даже балашовцы не решатся открыто сказать, что пора Думу распустить». Бесполезно, по мнению Харитонова, говорить и с председателем Думы, ибо «можно быть заранее уверенным, что Родзянко встанет на дыбы и будет утверждать, что спасение России только в Думе». Надо искать поддержки у «благожелательных думцев», – предлагает военный министр. Кто они, «эти благожелатели», – спрашивает Горемыкин. «Разве г. председатель Совета министров ранее не интересовался этим вопросом и не принимал меры к его выяснению», – уклончиво ответил Поливанов, воздерживаясь определенно назвать образовавшийся к этому моменту «прогрессивный» (по терминологии общественной) или «желтый» (по терминологии правившей бюрократии) блок в Думе.
2. Прогрессивный блок
Внешние уступки отнюдь не носили в Совете министров принципиального характера: надо было «faire bonne mine au mauvais jeu», как выразился мин. нар. просв. Игнатьев, допускавший возможность, что Дума откажется подчиниться декрету о роспуске[154 - Только в официальных отчетах Пет. Тел. Аг. можно было писать, что Дума, собравшаяся в годовщину войны, «единодушно» выразила свои «верноподданнические чувства». В действительности агрессивно настроенная оппозиция с самого начала заговорила отнюдь уже не языком 26 июля 1914 г., а словами «законных исполнителей» народной воли (характеристика Милюкова).]. (Министр вн. д. сомневался, что Дума пойдет на «прямое неподчинение» – «все-таки огромное большинство их трусы и за свою шкуру дрожат. Но бурные сцены, призывы, протесты и митинговые выступления несомненны. Если императорский Яхт-Клуб на Морской революционен, то от Гос. Думы можно ожидать чего угодно и какой угодно истерики».) «Зловещие слухи», сознание полного своего бессилия перед надвигающимися событиями – «угрозы внутренней революции»[155 - Еще 11 августа Щербатов заявлял, что он не может «при слагающейся конъюнктуре» нести ответственность… «Как хотите, чтобы я боролся с растущим революционным движением, когда мне отказывают в содействии войск, ссылаясь на их ненадежность и на неуверенность в возможности заставить стрелять в толпу. С одними городовыми не умиротворишь всю Россию, особенно когда ряды полиции редеют не по дням, а по часам, а население ежедневно возбуждается думскими речами, газетным враньем, безостановочными поражениями на фронте и слухами о непорядках в тылу».] совершенно выбили большинство членов Совета из колеи. После «долгих колебаний» Кривошеин накануне упоминавшегося заседания с Царем пришел к выводу о необходимости коренного изменения внутренней политики. По его мнению, правительство вплотную подошло к дилемме – диктатура или соглашение с общественностью. Для разрешения ее он считал наличный состав министерства непригодным. К позиции Кривошеина всецело присоединялся Щербатов, повторивший на другой день после заседания в Царском его аргументацию: «Мы все вместе непригодны для управления Россией при слагающейся обстановке. Там, где должны петь басы, тенорами их не заменишь. И я, и многие сочлены по Совету министров определенно сознают, что невозможно работать, когда течение свыше заведомо противоречит требованиям времени. Нужна либо диктатура, либо примирительная политика. Ни для того, ни для другого я, по крайней мере, абсолютно не считаю себя пригодным. Наша обязанность сказать Государю, что для спасения государства от величайших бедствий надо вступить на путь направо или налево. Внутреннее положение в стране не допускает сидение между двух стульев».
В такой обстановке на авансцену появился «прогрессивный блок». Запись о спорах в Совете министров 24 августа у Яхонтова прерывается. Отмечено только, что «вопрос о перерыве занятий государственных учреждений решено отложить до соображения с подлежащей рассмотрению в Совете мин. программы образующегося в Гос. Думе блока нескольких партийных групп». 26-го к этому обсуждению правительство и приступило. Прислушаемся к прениям – они чрезвычайно показательны. Начал Сазонов, изложивший возникшие у него «глубокие сомнения по существу»: «Насколько в данной обстановке было бы с государственной точки зрения удобно прибегать к роспуску Думы. Несомненно, этот акт повлечет за собой беспорядки не только в среде тяготеющих к Думе общественных учреждений, союзов и организаций, но и среди рабочих. Хотя они связаны с Думой не органически, а искусственно, но удобный случай для демонстраций не будет упущен. Большинство (?) членов Гос. Думы само держится того взгляда, что по существу создавшегося положения роспуск нужен. Однако их удерживают опасения усиления брожения на заводах и разных выступлений, могущих привести к кровавым последствиям. Надо взвесить всесторонне. Быть может, придется признать, что митингующая Дума меньшее зло, чем рабочие беспорядки в отсутствие Думы»[156 - Морской министр заявил, что по его сведениям в случае роспуска Думы беспорядки неизбежны. Настроение рабочих очень скверно. Немцы ведут усиленную пропаганду и заваливают деньгами противоправительственные организации.]. «Выгодно ли распускать Думу, не поговорив с ее большинством о приемлемости этой (т.е. блока) программы». Сазонов высказывается за необходимость побеседовать с представителями блока: «Программа их, несомненно, с запросом и рассчитана чуть ли не на 15 лет (!!). Надо ее подробно рассмотреть… выбрать отвечающее условиям военного времени и по существу приемлемое… А затем, сговорившись и обещав проведение в жизнь обусловленного, можно будет распустить». Горемыкин возражает: «Все равно разговоры ни к чему не приведут… Ставить рабочее движение в связь с роспуском Думы неправильно. Оно шло и будет идти независимо от бытия Гос. Думы… Будем ли мы с блоком или без него – для рабочего движения это безразлично». Горемыкин согласен рассматривать программу блока, часть которой правительство могло бы принять в дальнейшей деятельности. Но разговоры с «блоком» председатель считает недопустимыми: «Такая организация законом не предусмотрена». «Блок создан, – утверждал Горемыкин, – для захвата власти. Он все равно развалится, и все его участники между собой переругаются». Сазонов: «А я нахожу, что нам нужно во имя общегосударственных интересов этот блок, по существу умеренный, поддержать». Сазонов соглашается, что роспуск Думы «нужен», но «для осуществления его надо сговориться с той организацией, которая представляет собой антиреволюционную Думу». Шаховской находит, что «и дальнейшее оставление Думы и ее роспуск при настоящих настроениях одинаково опасны. Из двух этих зол я выбираю меньшее и высказываюсь за немедленный, хотя завтра, роспуск. Но сделать это надо… поговорив с представителями блока… Таким способом действий примирительного характера мы откроем выход самим думцам, которые жаждут роспуска»[157 - Морской министр заявил, что по его сведениям в случае роспуска Думы беспорядки неизбежны. Настроение рабочих очень скверно. Немцы ведут усиленную пропаганду и заваливают деньгами противоправительственные организации.]. Щербатов высказывается также за немедленный роспуск и за сговор с блоком: «Отрицать нельзя, его программа шита нитками и его легко развалить… но это было бы невыгодно правительству… самая программа составлена с запросом в расчете поторговаться… Согласившись по отдельным пунктам программы, мы создадим сочувствующее нам ядро хотя бы человек в двести, и тогда можно будет безболезненно произвести операцию роспуска. Перерыв… надо будет посвятить на проведение по 87 ст. условленных с думцами законов и реформ. Эта работа поднимет кредит правительства в стране, которая будет знать, что мы действуем по соглашению с думцами. Нам станет легче управлять и осуществлять то, что требуется исключительными условиями войны». Горемыкин: «Вы упускаете, что одно из основных пожеланий блока – длительность сессии». Щербатов: «Это только для вывески». Сазонов: «Большинство Думы определенно против длительной сессии». Горемыкин: «Да, но оно никогда об этом публично не сознается». Сазонов: «Но и не будет нам мешать прервать сессию и в случае надобности нас поддержит…»
После такого предварительного обмена мнений Совет приступил к обсуждению программы блока, зафиксированной в документе, подписанном 25 августа представителями соответствующих групп Гос. Думы и Гос. Совета. Платформа блока провозглашала «создание объединенного правительства из лиц, пользующихся доверием страны и согласившегося с законодательными учреждениями относительно выполнения в ближайший срок определенной программы, направленной к сохранению внутреннего мира и устранению розни между национальностями и классами». «Начало программы, – заметил Горемыкин, – сводится к красивым словам, на которые мы не будем терять времени». Поливанов: «В этих красивых словах кроется вся сущность пожеланий общественных кругов о правительстве. Можно ли так пренебрежительно проходить мимо них». Горемыкин: «Совету министров недопустимо обсуждать требования, сводящиеся к ограничению царской власти. Программа будет представлена Государю Императору, и от Е. В. единственно зависит принять то или иное решение». Председатель обращается к пунктам программы, первый из которых имел в виду широкую амнистию «на путях Монаршего милосердия», как говорилось в тексте. Щербатов высказывается против общей амнистии. «Следовало бы ограничиться постепенным образом действий. Можно сговориться с блоком в том смысле, чтобы им был составлен список подлежащих амнистии, а мы… будем постепенно осуществлять». «Разбор политических дел идет в мин. юстиции непрерывно», – поясняет Хвостов, – не мало джентльменов гуляет на свободе…» «Но публика этого не знает», – замечает Щербатов. – Надо сделать с рекламой. Взять десяток-другой особенно излюбленных освободителей и сразу выпустить их на свет Божий с пропечатанием во всех газетах о Царской милости…» «На недопустимости общей амнистии согласились все», – гласит яхонтовская запись.
Предложение министра вн. д. – по мнению председателя – применимо и по второму пункту программы» (возвращение административно высланных за дела политического характера). «Никто не возражает, – записывает Яхонтов, – против слов Сазонова, что необходимо снять с правительства пятно ничем не оправдываемого произвола», порожденного предместником кн. Щербатова на министерском посту (т.е. Маклаковым). Соглашаются с тем, что давно пора покончить с «безобразием» в области религиозной политики, когда циркуляр нарушал провозглашенную манифестом веротерпимость (п. 3 программы блока).
«По польскому вопросу много сделано и делается», – комментирует Горемыкин п. 4 программы. Харитонов: «Скрыта мысль – снять все стеснения в вопросах землевладения в ограждаемых от польского проникновения областях». Харитонов полагает, что «правительственная политика в данном случае не допускает уступок». «К заключению госуд. контролера присоединился единогласно весь Совет министров», – вновь сообщает запись протоколиста.
Пунктом 5-м было еврейское равноправие, формулированное в таких, более чем осторожных, выражениях: «Вступление на путь отмены ограничений в правах евреев, в частности, дальнейшие шаги к отмене черты оседлости, облегчение доступа в учебные заведения и отмена стеснений в выборе профессии, восстановление еврейской печати». «Должен предупредить Совет министров, – заявляет председатель, – что Государь неоднократно повторял, что в еврейском вопросе он на себя ничего не возьмет. Поэтому возможен только один путь – через Государственную Думу. Пускай, если это ей по плечу, она займется равноправием. Не далеко она с ним уйдет». Щербатов: «Дума никогда не решится поставить вопрос об еврейском равноправии. Кроме скандалов из этого ничего бы не вышло. Другое дело устранение ненужных, обходимых и устарелых стеснений…» «Решено вести беседу о программе блока по еврейскому вопросу, – значится в «протоколе», – в смысле согласия идти по пути постепенного пересмотра ограничительного законодательства и административных распоряжений». «Принцип благожелательности» в финляндской политике (п. 6) также не встретил возражений, но принятие обязательства немедленного пересмотра законодательства о Вел. кн. Финляндском признано нежелательным, дабы не связывать правительства. Восстановление малорусской печати (п. 7) признано допустимым, поскольку дело идет не о сепаратических украинофильских органах. Согласился Совет и на допущение профессиональных союзов (п. 8). По поводу последнего пункта программы Совет вообще нашел, что там не имеется «чего-либо неприемлемого в отношении принципиальном». Из перечисленных законопроектов часть уже проведена, часть лежит в Гос. Думе с давних пор без движения: (введение земских учреждений на окраинах, уравнение крестьян в правах с другими сословиями, законопроект о кооперативах, об утверждении «трезвости навсегда» и т.д.).
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: