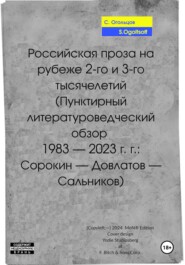По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Медбратья объявляли подъём брязгом железа увесистых ключе-связок о железо коечных спинок, чтобы к приходу заведующей и медперсонала жизнь пятого отделения уже текла обычным руслом.
Прежде всего все стекались в туалет.
2 / 80 = FUCKING(0)!
Два унитаза на 80 прикрытых ПИЗДЕЦ как мало (!),
поэтому очередь к ним начиналась ещё в коридоре. Внутри она продолжалась параллельно или трясь о стены двух комнат – сперва прихожей, а затем и самого туалета.
В первой из них со мной впервые в жизни случился обморок, совершенно без всякого повода. Чёрная темень сгустилась в глазах и, оползая спиной по стене, я соскользнул до пола и сидел там в полной мгле. Однако окончательно я не отключился и спустя какое-то время в темноте послышались эха отдалённых голосов, которые объясняли друг другу, что это у меня обморок. Потом стало светать постепенно, я открыл глаза и вернулся в очередь.
Для тех, кому совсем уж невтерпёж, по центру туалетной комнаты, за два метра не доходя до унитазов, на плитках пола стоял жестяной таз-шайка с ручками. При наполнении до краёв, кто-нибудь из чокнутых вычерпывал говно руками в отдельное ведро и выливал в какой-нибудь из унитазов, уступленный для этой цели очередным сидельцем, остаточная моча выливалась из шайки в обрезок сливной трубы в углу.
Для приседа над унитазом отводилась негласная квота времени и когда она истекала, очередь в непосредственной близи начинала роптать, а ещё через минуту какой-нибудь свихнутый глухонемой из толпы в прихожей молча подходил и сдёргивал тебя с унитаза без объяснения причин…
Туалет запирали перед началом завтрака и уже до окончания обеда, после которого он открывался на непродолжительное время, пока там мыли пол. Последняя помывка дня давала шанс доступа в туалет в полчаса после ужина.
Из-за довольно бездумного отношения к вопросам мочеиспускания, мой мочевой пузырь на протяжении додурдомной жизни не получил надлежащей выучки и дисциплины, чтобы соотносить исполнение своих функций с таким бесхитростным режимом. Ощутив позывы, я впадал в панику, что не дотерплю до следующего получаса открытых дверей. Обращаться к медбратьям—в железе связки каждого из них болтался вожделенный ключ—не имело смысла из-за их неизменной отповеди: —«Отъебись! В туалет нельзя, там полы помыты». Чтобы не огрести всей вразумляюще-увесистой связкой по голове, правильнее было отъебтись.
Однажды доведённый до отчаяния, я попытался незаметно помочиться в раковину торцевой стены в конце коридора, чей кран всё равно не работал, но получил удар по рёбрам от прикрытого, который частенько курил там втихаря, любуясь высохшим фаянсом вроде как фонтаном в парке, который на ремонте.
В ходе другого кризиса, преодолевая стыд, я обратился к пожилой медсестре с ключами на поясе, в попытке поделикатнее объяснить свою нужду и бедственное положение.
Довольно продолжительное время она не могла понять моё описательное бормотание об ощущениях в области мочевого пузыря, но затем открыла душ и, указуя на трап слива, молвила: —«Сцы тута». Недаром в Царской армии их звали сёстрами милосердия…
~ ~ ~
В баню тоже водили партиями, в какое-то другое здание. Надо было встать под душ в скользкую чугунную ванну с бурой прозеленью на стенках, заново намылить мочалку оставленную на её стенке предыдущим однопартийцем, а потом смыть с себя пену под почти что тёплой водой, а рядом с ванной уже стоял следующий, такой же голый, но пока ещё сухой, и дёргался щекой и шеей, упёршись взглядом в никуда под низким потолком. Вафельное полотенце промокало раньше, чем успеваешь обтереть хотя бы половину себя, а остаточную влагу впитывало исподнее бельё по пути в отделение…
Днём к окнам в холле лучше не подходить вовсе. Через их стёкла вдалеке виднеется пара башенных кранов, что медленно майнуют стрелами на своих стройках, а с автостанции долетают невнятные объявления счастливого пути автобусам неразборчивого направления. Светит солнце, тает снег. Там жизнь идёт и продолжается, а ты с этой стороны вертикальной решётки…
День приёма посетителей в пятом отделении – суббота, а по другим дням никого не принимали. На трезвонный зов звонка ближайшая к двери медсестра отпирала её узнать к кому это, и кричала вдоль коридора фамилию, чтоб шёл на свидание.
Мои родители приехали в первую же субботу. Я очень удивился, потому что никому не говорил, что поеду в Ромны. Оказывается, на следующий день Прасковья дала им знать, что я не ночевал, они позвонили в СМП-615, им сказали где я сошёл с автобуса накануне. На автовокзале меня тоже кто-то припомнил и – клубок распутался…
Свидание проходило на лестничной площадке на одной из длинных скамеек перед дверью пятого отделения. Мы сидели трое в ряд, моя мать, сдвинув серый пуховой платок на плечи, говорила:
– Как же это, сы?ночка? – и начинала плакать круглыми слезами, а отец, чтобы как-то её утешить, недовольно объявлял:
– Ну начала! Начала!
Шапку он не снимал и не плакал, а хмурился и смотрел на скамейку напротив, где двое других родителей кормили всякими вкусностями из целлофана своего – худого парня, который вообще не разговаривал, потому что его укусил энцефалитный клещ.
Я тоже ел – моя мать привезла всякие домашние пирожки и плюшки и пирожные эклер с заварным кремом из магазина «Кулинария» на Переезде-Путепроводе. Она знала что я люблю.
Ещё в целлофане было сало, но я отказался наотрез и моя мать в конце свидания отдала его медсестре, чтобы положили в раздатке – когда захочу, тогда и съем, но я из принципа не ходил в столовую, когда зазывали есть передачи.
В остальные субботы приезжали мои брат с сестрой. И вместе, и по очереди. Мой брат был без шапки на голове, но хмурился в точности как отец и говорил: —«Ну, чё ты, Серёга? Это ты зря».
А Наташа не плакала. Она воспитывала меня: —«Вот скажи, оно тебе надо? Маладец!.»
Она сказала, что Ира не приезжала, хотя она ей позвонила, чтобы она знала…
Ира ни разу не приехала в Ромны, но я понимал, что ей нужно смотреть за ребёнком… К 8-му марта на столике-каталке из «манипуляционного кабинета» в коридор привезли пустые поздравительные открытки и я заполнил одну в Нежин Ире, что поздравляю и люблю. Пока писал, аж сам ужасался до чего трясучие выходят строчки и почерк совсем не мой. Наверное, из-за уколов…
~ ~ ~
Заведующую отделением, она же главврач, мои предпочтения в музыке не интересовали, ей было не до этого, она меня лечила. Мне кололи аминазин внутримышечно, три раза в день. Первые пару дней ещё как-то терпишь, но потом на ягодицах живого места не осталось. Укол поверх укола, болезненные желваки покрыли мой зад и срослись в сплошняк туго вспухших бугров, стало трудно ходить, какие уж там коридорные витки по орбите. Кроме того, кожа, не успевая затянуться, начала кровить, понемногу, но постоянно, больничные кальсоны промокли и выкрасили пижамные штаны изнутри, хотя местами проступало и насквозь.
Самым непереносимым был третий, заключительный укол дня. Его кололи вечером, чуть позже девяти. От звяканья стальных коробок со шприцами на столике-каталке, всё ближе и ближе в коридоре, судорога стискивала мои зубы. Перезвяк обрывался у входа и дежурная медсестра появлялась в проёме со шприцем в руке. Сделав укол, она возвращалась в коридор за следующим шприцем для следующего прикрытого.
Один раз медсестра меня пропустила и чтобы ей не напоминать, я притворился спящим, а когда каталка позвякала дальше, к восьмой палате, я не мог поверить собственному счастью. Через час медсестра позвала меня от входа. Держа шприц во вскинутой руке, она победно улыбалась: —«Хотел увернуться, Огольцов?»
В манипуляционном кабинете, перед обходом, они заряжают шприцы по списку, а когда на каталке оказался один лишний, она догадалась, что кто-то пропущен… Ты вспомнила? Молодец. А улыбаться зачем? В этот момент она напомнила мне Свету из моего полигамного прошлого, причёской, наверное…
Ещё мне кололи инсулин внутривенно, но сперва главврач предупредила родителей, чтобы они согласились. Бельтюков, молодой, но опытный сосед по палате, говорил, что инсулин добывают из бычьей печени, потому что больше неоткуда. Назначение этих уколов в том, чтобы довести прикрытого до комы. Говорили, что такое лечение хорошо сказывается на пациентах, кроме того процента на кого препарат неправильно действовал. Но выживших больше. Лишь бы успеть вовремя вывести уколотого из коматозного состояния.
Инсулин вводили мне и Бельтюкову по утрам. Один укол в вену ниже локтевого сгиба. Потом медсестра звала ближайшего медбрата и тот приводил пару добровольцев из прикрытых, чтобы прификсировать нас тряпками к железу коек, на которых мы валялись. Они фиксировали только руки, но потуже, чтоб мы не вырывались, когда нас поведут обратно из текущей комы.
Минут через двадцать, медсестра возвращалась в палату заполнять какие-то журналы за белым столом в углу. Вот отчего он оказался в таком неподходящем месте. Она присматривала за нами как за молоком на огне, чтобы не убежало когда вскипит.
Бельтюков и я лежали на соседних койках, привязанные, бок о бок, и разговаривали глядя в потолок. Он был общительный парень и чем-то смахивал на водителя Виталика из стройбата, а может и не очень. Потом наша беседа переходила в бессвязные восклицания. Бельтюков кричал про засилье блядского матриархата, а я, что все люди братья, ну как вы можете не видеть это? При восклицаниях, голова моя заламывалась назад до отказа, чтобы посмотреть вдоль своего позвоночника, но только подушка всегда мешала.
Это служило сигналом медсестре отложить журналы и ввести нам глюкозу внутривенно, что предотвращало впадение в фатальную фазу комы. Потом нас развязывали и давали по стакану воды густой от растворённого в ней сахара, потому что во рту ужасно горело… Но это не значит, будто мы с Бельтюковым каждый раз орали одно и тоже, просто такой была основная тематика наших бесконтрольных лозунгов, когда под инсулином. По воскресеньям нам эту херню не кололи…
Самым тяжким испытание стал укол серы. Обычно её колют алкашам в виде наказания, однако заведующая могла иметь какие-то свои экспериментальные соображения или оптимистические надежды. Она же хотела как лучше, наверное. Это тоже укол в зад, но постепенно эффект распространяются и ниже вдоль костной ткани. После лечения серой два дня приходится волочить ногу из-за болевых ощущений, будто сустав берцовой кости мелко раздроблён.
Укол серы сломил мою волю. Волоча ногу, я пришкандыбал в столовую, чтобы есть сало передачи, но когда чмо-раздатчик выдал мне целлофановый пакет, оттуда пахн?ло моим портфелем в шестом классе, когда я забыл съесть в школе бутерброд с ветчиной и тот провалялся взаперти все зимние каникулы. Пришлось выбросить сало вместе с целлофаном…
Мои отношения с остальными прикрытыми оставались ровными и корректными, как везде и повсюду, я оставался негласным отщепенцем. Те, кто по полной отщипнулся и ушёл на погружение в неразбериху их индивидуальных миров, меня не замечали, но способные к мыслительной деятельности—кому насколько удаётся—те уважали ради сочувствия, что мне колют инсулин. Только один хлопец, Подрез, какое-то время передо мной лебезил непонятно с чего, а потом в очереди в столовую ударил в живот, непонятно зачем.
Спустя минуту Бельтюков, в той же очереди, нашёл повод придраться к Подрезу, сделал захват и держал прификсированно. Он ничего мне не намекнул, даже и взглядом, но тут и без рекламы видно, что Подрез обездвижен, чтоб я ему врезал куда захочу. Но я не стал – жалко бить душевнобольных, хоть и живот болит…
Куда более жестокий удар нанесла мне пропажа книги на Английском. На белом столе в нашей палате осталась лишь одинокая тетрадка, с давно уже оконченным переводом, да ручка между её страниц. Я расстроился невыносимо, потому что книга одолжена у Жомнира, который одолжил её на Английском отделении у Ноны, которая всегда мило улыбается. Но когда я, в таком ужасном состоянии, обратился к главврачу, та, с бесконечным безразличием, ответила, что книга никуда не денется… И не ошиблась. Три дня спустя мне вернул её прикрытый, который отобрал у полуотщипнутого похитителя из седьмой палаты. Дольше тот не смог её утаивать.
(…я понимаю чувства вора. В те времена с Советском Союзе ещё не научились делать книг в мягких глянцевых обложках, и вдруг – женщина в цвете, крупным планом, на фоне пятого отделения… Кто бы удержался?..)
Он её ни капли не помял и только на обратной стороне обложки нежными прикосновениями карандаша излил своё обожание. Слегка напоминало набросок коры головного мозга или замысловато вьющихся клубов лёгкого дыма. Возможно даже это были формулы на неизвестном научном языке из запредельного будущего, только я уже завязал отклоняться в ту сторону…
Прикрытые все такие разные. По ком-то сразу видно, что у него поток сознания не в ту степь, если даже вообще не высох, а на другого даже и не подумал бы.
В общем, там были виды всех сортов и даже вполне дружелюбные типы, как тот хорошо упитанный брюнет. Однако один раз, лёжа на больничной кушетке под выключенным телевизором, он мне признался в убийстве и, обычно такой жизнерадостный, вдруг весь так посуровел. Может и наврал, потому что убийц во втором отделении держат, там где медбратья вообще зверюги, а его исповедь это просто сон на яву, как мои мечты грохнуть Серого, за круглым столом в кочегарке ВСО-11. Хотя не знаю, ведь тот пенсионер полковник, что за своей снохой с топором гонялся, к нам попал…
Да, попадались неизлечимые вруны. Один из них, с жирной татуировкой КОЛЯ на руке, без всякого повода начал убеждать меня, что его зовут Пётр, а на меня же и обиделся, хотя я никак не противоречил.
А Цыба тот вообще поразил своей эрудицией, когда перечислил все неудачные попытки Эрнеста Хемингуэя покончить с собой, пока не дошло, наконец, что пистолетом самое оно. А я его до этого за явного не все дома держал…
Был один с виду нормальный старикан и только его чрезмерная сентиментальность выдавала, что тютю. Он становился безмерно несчастлив как только услышит, что мы живём в дурдоме. Всегда. Пожизненно. Полный дурдом – что там, снаружи, что тут, у нас, без разницы.