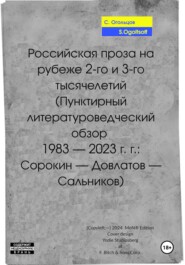По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не говорите так. По крайней мере тут – психиатрическая больница.
Уж до того субтильная деликатность души…
Или, скажем, тот мужик, которого я долго глухонемым считал. Наоборот, он весьма любознательный, просто свои вопросы очень долго подготавливает. Потребовался целый месяц, чтобы он ко мне подошёл и, с глазу на глаз, спросил за самое за наболевшее: —«А жена твоя была целомудренна?»
Во-первых, глухонемые слов таких в своём лексиконе не держат, а во-вторых, я ей в уши не заглядывал, как говорит Рабентус.
А глухонемой, как услыхал такое, плакать начал. Он опять умолк и только капал беззвучными слезами.
В общем, довольно-таки смурной дурдом…
~ ~ ~
При всей своей чокнутости, прикрытые всё наперёд знают и за четыре дня меня предупредили, что в пятницу мне предстоит предстать перед комиссией, которая решит выпустить меня или же лечить дальше. В комиссию входил главный врач психушки, главврач пятого отделения и дежурная медсестра. Я очень боялся сказать что-нибудь не так и торопливо со всеми во всём соглашался, пресмыкался даже перед медсестрой: —«Да! Да! Конечно да!»
Главврач сказала, что меня будут готовить на выписку, но не выпустят пока родственники не заберут… Как я испугался, что вдруг никто не приедет в субботу!. Ведь была же такая, когда зря ждал. Весь вечер после комиссии мне приходилось сдерживать себя, чтобы не расплакаться. Буквально давил рыдание в горле – я не выдержу ещё неделю уколов…
Мои родители приехали вдвоём и с площадки перед дверью нас позвали в кабинет «главврач» и заведующая сказала, что на воле мне следует продолжить лечение таблетками аминазина. Моя мать очень её благодарила, а отец вынул деньги из кармана куртки и протянул матери. Она подошла к заведующей и опустила деньги в карман её белого халата, но главврач даже как-то и внимания не обратила.
(…как потом выяснилось, сумма составляла сорок рублей – дневной заработок бригады каменщиков из 6 человек. В тот день на выписку пошли трое, значит она за одно утро заработала мою месячную зарплату.
Как говорят в Конотопе – кто на что учился…)
На автобусе из Ромнов, мать осторожно сообщила мне, что мои вещи перевезены из дома под большой Берёзой обратно на Декабристов 13. Меня огорчила эта новость, но противиться не нашлось сил…
Поначалу, наша бригада встретила меня с осторожностью, как человека вернувшегося из Ромнов. Но на стройке подобное отношение быстро сглаживается, если до конца рабочего дня никого не приветил лопатой по кумполу и не сиганул с пятого этажа, значит такой же, как все.
Правда, Лида заметила, как я прикорнул к поддону кирпича и задремал на солнышке, покуда кран отъехал за следующей банкой грязи, чего прежде со мной не случалось. А Григорий сказал Грине, что я уже не тот и в доказательство отвёл его на лестничную площадку, где над нишей для ящика электросчётчиков я неправильно положил перемычку— один край на пять сантиметров ниже другого. Гриня ответил, что всё равно поедят, потому что всю нишу загородит ящик под счётчики. Так что мне пришлось переделывать во время обеденного, но до Ромнов я бы себе такого брака не позволил.
И в целом, я стал более покладистым. Единственно, что лечение не смогло из меня вытравить, так это нежелание опускаться на четыре кости при выравнивании боковой опорной стены с уровнем панелей перекрытия. Все делают это с колен, так удобнее и безопасней. Но я хоть мучился, но ниже корточек не опускался при кладке рядов кирпича ниже собственных ступней, несмотря на протесты моего центра тяжести. Вита тоже иногда оставалась коленонепреклонной.
(…иногда трудно избавиться от всаженного в тебя юного пионера:
"Лучше нахитнуться с четвёртого этажа, чем класть стену стоя на коленях!"..)
Когда я поехал а Нежин на выходные, то следил за собой, чтоб держать глаза чуть прижмуренными и не пугать людей своим видом контуженного, потому что нижние веки обвисли и обнажили белки глаз, как будто меня долго принуждали смотреть документальный сериал про лагеря смерти, газовые камеры и трубы крематориев… Как Заводного Апельсина из фильма Кубрика. Сам фильм я не видел и знал, что не увижу, когда в кочегарке стройбата читал про него большую статью в журнале Москва…
Когда я заметил, что у меня под челюстью начал появляться второй подбородок, я выбросил 200-граммовую склянку с таблетками аминазина, прощальный дар главврача пятого отделения, в сливную яму на Декабристов 13. На следующий день моя мать её там углядела и начала кричать, что сообщит психиатру Тарасенко про моё нарушение предписаний от психспециалиста из Ромнов.
– Мама, как ты не понимаешь? Эти таблетки, чтоб сделать меня ненормальным.
Я всегда гордился своей стройной поджаростью, хоть и сутуловат, и не хотел её утратить…
Всё стало как раньше. Почти…
Стройка. Нежин.
Веки вернулись на своё место, уже не надо было жмуриться.
Переводы.
Стихи…
Стихи стали появляться с началом моей строительной карьеры в СМП-615. Сначала они даже и стихами-то не были, просто бессвязные куски обрывков фраз, словосочетания. Какое-то привлекало переменчивым чередованием звучания слов, другое своей двусмысленностью, но не в смысле охальности, а тем, что можно по разному его истолковать.
Занятый трудовым процессом, я незаметно для коллег-каменщиков переворачивал эти слова, переиначивал, выбрасывал из головы к чёртовой матери или чертям собачьим, но самые упорные возвращались вновь, как будто никуда и не отлучались. Тогда оставалось последнее средство – перенести неотвязных на бумагу и забыть.
(…за шесть лет собрались штук 30 таких непрошенных приставал на двух языках, потому что каждый приходил как ему вздумается.
Среди них были чисто графические, срисованные с натуры вокруг стройки: «яблоко неба пронзённое шпагой луча», были и звукоподражательные: «каркаломна баркарола», философские, как про съеденного Бога, или просто ритмо-шагательные речёвки для маршировки: «ах о чём мы хохочем»…)
Один из первых опытов я показал Ире, и она тут же встрепенулась – кто это та Мадонна в чёрной телогрейке? Как будто я знаю, просто стояла в очереди в рабочей столовой № 3 в обеденный перерыв.
Ну а про стихи «На мелодию В. Косма» она ничего не спросила, сразу видно, что это про неё, тут без вопросов. А когда она сказала, что ей сказали, что это неплохое стихотворение, то я перестал их ей показывать. Наверное, из ревности к неизвестному кому-то, кому она давала их для оценки.
Когда я прочитал моему брату Саше «Интервью Скифа», он тут же откликнулся: —«Я тебя заложу!»
(…если на твой стих первым делом выскакивает мысль про КГБ, значит в нём стоящая идея…)
Ивана, плотника СМП-615, почему-то затронул капустный лист на жале ноже. Полгода спустя он попросил ещё раз прочесть ему про капусту. Я и подумать не мог, что этот здоровила такой любитель салата.
Случалось, что до конца обеденного перерыва есть ещё минут пять, а делать нечего, тогда в вагончике женщины-каменщицы просили прочитать чего-нибудь новенькое, а после Гриня кричал:
– Серёга! Коней огнём не подковывают! Для этого подковы есть. Мерин ты перерваный!
Он рос, учился и мужал в селе Красное на Батуринском шоссе и сызмальства в этих делах разбирался.
Когда количество стихов перевалило за двадцать, моё отношение к ним качественно поменялось. А чё валяться будут? Жалко же. И я начал рассылать их в разные издательства и ежемесячники, как Мартин Иден из одноимённого романа Джека Лондона. И они постоянно ко мне возвращались, как и к нему, с ответами отстуканными пишущей машинкой, и даже словно бы через копирку.
Ответ сообщал, что присланный мною материал не отвечает тематической направленности их издания, а редакторский портфель заполнен на предстоящие 3–4 года, но ни слова про сами стихи. Так что, рецензия Грини осталась непревзойдённой – «Мерин перерваный!»
Правда, литсотрудник одного из журналов поделился, что в подобный стиль был в моде в 1930-е. Возможно, он хотел тонко намекнуть на устарелость писанины, но случайно осчастливил – у моих стихов даже и стиль есть!
(…да ещё какой! В 1930-е Союз Писателей ещё не успели охолостить политическими чистками и репрессиями в облавах на шпионов. В те дни люди ещё писали стихи, а не готовили коньюктурный материал в преддверии очередного Съезда Партии…)
Мне тихо-тихо стало доходить, что умникам, которые пристроились хлебать из корыта литературного сотрудничества, все эти поэтические «шпаги в небе» нужны не больше, чем прозаичные шампуры в их персональном заду.
Окончательным вразумлением для открывания моих глаза, стал ответ из ежемесячника Москва на Усталую Аллу. С первого взгляда заметно, что московский литературный сотрудник со всей ответственностью проявил вдумчивый подход при рассмотрении полученного стихотворения. Смысл одного слова во второй части показался ему не слишком ясным и он не преминул даже в словарь заглянуть и выяснить что же оно означает… Он позабыл стереть в моём стихе пометки своего усидчивого карандаша. Слово «вожделение» осталось подчёркнутым, а рядом добавлено его значение «похоть». Не знаю, каким словарём он пользовался, но такой перевод оскорбил меня.
Последней каплей стала фамилия рецензента, отстуканная рядом с виньетистой подписью – Пушкин!
БЛЯДЬ! Представшая умственному взору картина, где Пушкин ищет в словаре слово «вожделение» заставила меня подвести черту, и больше не ебать мозги редакторам своею ё… то есть… непревзойдЁнной простотой. Я понял, наконец, что никакой я не Мартин Иден, и никакая мне тут не Америка.
Осознание своего не-Американского происхождения и местонахождения сняло почтовые расходы на заказные письма с марками. Хотя расход не так уж и велик, одно письмо обходилась в 50 коп., эквивалент двух пачек папирос «Беломор-Канал» и шести коробок спичек, поскольку стоимость жизни в Советском Союзе была достаточно доступной, а от иллюзий лечили, практически, бесплатно.
~ ~ ~
Летом ты снова приезжала в Конотоп, но уже без коляски. Наша бригада работала тогда на 50-квартирном возле Путепровода-Переезда и строповщица Катерина покричала снизу, что ко мне пришли. Я спустился и вышел на тротуар за воротами. Ты стояла рядом с Ирой, на ней был красный сарафан с белыми Монгольскими узорами. А в чём ты не помню. Зато помню до чего классно ты улыбалась… Я осторожно опустил свою пластмассовую каску на твои прямые волосы, козырёк съехал до самого носа, но не смог угасить твою довольную улыбку. Я помню эту улыбку из-под каски.