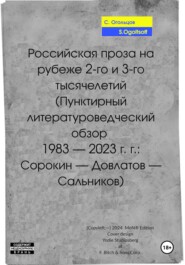По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А кто говорит, что вы сумасшедший?
– Ну в трамвае там.
Его оживлённость росла обгоняя минуты. Он начал выспрашивать какую мне желательно печать на справку: круглую, или треугольником?
– Это неважно. Лишь бы с подписью.
Поэтому он позвал молодую докторшу и пожилую медсестру, чтобы меня отвели в душ, а оттуда в пятое отделение. Перед душем медсестра состригла волосы у меня в паху механической парикмахерской машинкой. Я чувствовал неловкость, но не сопротивлялся – в чужой монастырь со своим уставом не прут.
После душа, докторша взяла у меня интервью. Для закрепления успеха, я прогнал ей пару дур, она лишь сладострастно пристанывала и безостановочно строчила в толстую тетрадь. Когда мы вышли во двор, я сказал, что оставил целлофановый пакет за воротами. Медсестра отказывалась верить, но сходила и с изумлением принесла.
(…а чему было удивляться? У кого очко не сыграет сквозануть пакет оставленный как бы наживка перед гостеприимным распахом ворот областной психиатрической больницы?.)
Докторша прошманала целлофан и позволила оставить при себе его содержимое: тонкую тетрадку, ручку и книгу на Английском с портретом озабоченной женщины в широкополой шляпе на мягкой обложке…
Пятое отделение роменской психиатрической больницы располагалось на третьем этаже здания возведённого по чертежам Сталинских времён, когда лестничные марши монтировались вдоль стен оставляя широкий колодец в центре лестничной клетки. По пути наверх, клетку пересекала железная сеть – подсунуть неудачу спонтанным самоубийцам. Ступени приводили к запертой двери между двух длинных скамей вдоль боковых стен широкой площадки.
За дверью, как и следует ожидать, начинался коридор уходящий вправо. Начинался он от окна с вертикально-отчётливыми прутьями решётки и, мимо запертой двери с табличкой «главврач», уходил к своему глухому—смутно различимому из-за удалённости—концу с краном и раковиной в поперечной стене.
В обеих боковых стенах длинного коридора зияли прямоугольные дверные проёмы палат, которые на первый, необвыклый взгляд своим отсутствием дверей смахивали на пещерные зевы. Свет внешнего мира проникал в палаты через решётку и стёкла окон и только после этого, дополнительно обескровленный коечным интерьером, достигал выхода, но на коридор ничего уже не оставалось. Поэтому в пасмурную погоду свисающие из его потолка лампочки горели весь день. Их скудный свет скорее подчёркивал, чем рассеивал неодолимый сумрак.
На полпути к дальней глухой стене одной палаты слева не хватало, её подменял небольшой холл с решётками в двух окнах. В углу холла у правого окна стояло видавшее виды трюмо с пустой тумбочкой, а возвращающуюся из угла в коридор перегородку прореза?ла белая дверь с табличкой «манипуляционный кабинет». Левое окно загораживал высокий ящик неизвестного назначения (может и гардероб мордой в угол, наказанный) в роли пьедестала под выключенным телевизором. К их общей пирамиде примыкала больничная кушетка под стеной второй перегородки холла, а в ней его вторая дверь, тоже белая, с табличкой «старшая медсестра», аккурат напротив манипуляционного кабинета.
Пол коридора своими квадратами коричневато-тёмной плитки вливался в общую гамму всеобъемлющей сумеречности. При этом он лоснился влажной чистотой, поскольку дважды в день привилегированные пациенты пошлёпывали вдоль него мокрыми тряпками на швабрах…
Для начала—установить степени буйности—меня поместили в палату наблюдения, напротив холла с трюмо. Обтянутый коричневым кожзаменителем креслообразный стул упирался спинкой в откос бездверного проёма. Тощие трубки ножек отсвечивали никелем и несли груз пожилого, но дебелого мужика в халате мини и такой же белой шапочке медперсонала. Медбрат при исполнении.
Одно его ухо сканировало палату, а лицо устремлялось вдоль коридора с парой случайных прохожих в пижамах и ещё одним сидячим медбратом различавшимся у дальних палат, где его содержал точно такой же стул-полукресло, из которого он скрашивал свой досуг болтая, сверху-вниз, с молодым человеком в пижаме и кирзовых сапогах. Неравенство статуса собеседников подчёркивалось позой сидевшего на корточках—глубокий висячий присед, распрямлённые в локтях руки просительно возложены на вздёрнутость коленей, кисти заискивающе повиливают пред восседающим над головой.
Медбрат завёл меня в палату, попутно брязгнув увесистой связкой ключей на привязи к его поясной перевязи об спинку первой от входа койки, где молодой блондин в ярко-красной пижаме лежал, вгоняя взгляд в глубокие трещины побелки потолка, и, самозабвенно ускоряясь, дрочил под простынёй. Из угла напротив грянул театрально сатанинский хохот, но тут же осёкся.
Объёмистый палец указал на третью от окна и я смиренно лёг на койку. На следующей лежала навзничь фигура молодого человека, который зябко обтягивал воротником синего больничного халата торчащую из него шею с крупной обритой головой. Взор, безотрывно устремлённый вверх, отслеживал изменчивые переходы пятен в потолке, из одного в другое, но он не мастурбировал. И не спускал с воротника рук.
Вскоре он обратил ко мне испытующий взгляд из синеватых кругов под глазами и спросил зовут ли моего брата Сашей и есть ли у меня сестра. Не дожидаясь моего ответа, он зажал голову между ладоней для пояснения, что учился с ними вместе в техникуме, но однажды вечером отец послал его собрать коров, когда через Подлипное продирался холодный злой туман, чтобы простудить ему голову без шапки, совсем беззащитную, которая с тех пор так вот и болит.
Пару раз он прерывал своё повествование резкими выкриками, отшугивая прибабахнутых, что приближались к изножию моей койки с гугняво невнятными вопросами. Потом он сказал, что его тоже зовут Саша, отвернулся и уснул.
Пара сопалатников без проблем речи уговорили блондина в красном спеть и тот визгливо завёлся верещать последний хит Всесоюзной радиостанции Маяк:
"Спасите, спасите, спасите разбитое сердце моё,
Найдите, найдите, найдите, найдите, найдите её…"
Два часа беспорочного и безропотного лежания засвидетельствовали мою безобидность и старшая сестра позвала меня в коридор, чтобы отвести в 9-ю палату, поближе к двери с табличкой «главврач».
9-я смотрелась намного уютней – всего пять коек. Только белый стол в левом углу малость выпирал в дверной проём, но благодаря отсутствию двери это неудобство почти не ощущалось. А зоосадные вопли, докатываясь вдоль коридора, мало-помалу одомашниваются и хоть по-прежнему вызывают в груди резкий вздрог своей первобытно-джунглевой мощью, его уже легче сдерживать..
Вечером вдоль коридора раздался крик «на кухню!» и к выходу протопатала группа привилегированных во главе с медбратом. Через полчаса они вернулись и торопливо промаршировали вспять, ускоряемые тяжестью двух котлов-термосов с завинченными крышками. Ещё через несколько минут из конца коридора донеслось: —«Рабочие, на ужин!»
Рабочих всегда звали в столовую первыми. Вместо пижам они носили чёрные спецовки и после завтрака и обеда их куда-то уводили.
Через определённый отрезок времени кричали – «Вторая партия, на ужин!»
И уже в последнюю очередь, тоже после паузы затишья: —«Третья партия, на ужин!»
Три запертые двери стояли шеренгой в левой стене коридора в самом его конце: душ, раздатка и столовая. Табличек на них не было, но все знали где что. В душевой никто никогда не мылся, она прибежище жестяные вёдер и швабр для мытья пола. Дверь отпирала медсестра или медбрат, чтобы привилегированные разобрали инструменты своего времяпрепровождения и её тут же запирали вновь. Однако несмотря на неусыпный контроль, один прикрытый умудрился-таки там повеситься. Правда, не с первого раза…
Перед кормёжкой отпирали сразу две двери: раздатку – чтобы занести туда термосы, и столовую, чтобы было куда звать партии.
И без того узкую раздатку теснили устроенные в ней стеллажи для привольной лёжки целлофанов с передачами посещений. Дважды в неделю во второй половине дня коридор оглашался неурочным кличем «Передача! У кого передача? В столовую!» Те из прикрытых, кто знал, что в раздатке хранится передача от родственников, которую он не доел во время свидания, отправлялся в столовую, чтобы доесть. Некоторые об этом не знали или знать не желали, но чуткие сопалатники им об этом напоминали и даже с заботой отводили в столовую, посодействовать в доедании…
К рабочим я не относился, так что ел во второй партии сбившейся в шумливую, разнообразно одетую, но одинаково голодную очередь вдоль стены у двери в столовую, уже не запертую, а подпёртую спиной медбрата, пока внутри протрут столы после предыдущей партии едоков. Медбрат заодно присматривал, чтоб кто-нибудь не затесался по второму разу, из только что кормленных.
Наконец он командовал «давай!» и мы с разноголосым шумом вливались через непривычно узкую дверь в комнату с тремя окнами и длинными столами, совсем как в средневековой трапезной, если бы не клеёнка. Они стояли в три ряда, от стены до стены, и узкий проход посередине делил их на шестеро. Мы садились за них, переступая через прибитые к полу лавки.
Затем следовало ожидание, полное оживлённого шума и раскованных жестикуляций, пока на постоянке дежурный белобрысый мастурбант из палаты наблюдения не принесёт широкий фанерный поднос с алюминиевыми мисками, ложками и хлебом. Поднос разгружался и те, кому досталось, приступали есть, а остальные смотрели на них и ждали пока чмо-раздатчик, тоже из прикрытых, заряжает следующий за окошком в перегородке.
Мы съедали всё и начинали ждать всё тот же поднос, но уже уставленный кружками с тягучим кисло-сладким киселём, чью пенку я так ненавидел в детстве.
Один раз я проспал в палате и мне пришлось есть с третьей партией. Тяжкое зрелище. Там люди обращаются со своими лицами как с пластилином, выкорёживают что попало. Зато мне стало известно кто издаёт крики бабуина, когда я лежу в своей палате и кто отвечает ему рёвом раненного слона. Членораздельных разговоров в третьей партии не ведут.
Правда, иногда в их партию замешивался кто-нибудь из второпартийцев и отнюдь не из любви к живой природе, а чтобы съесть заодно и пайку соседа, пока тот корчит рожи оконной решётке. Саша, который знал моего брата Сашу, в одностороннем порядке дружил с контингентом третьей партии и часто ел вместе с ними как раз для обуздания таких больных на голову, но хитрожопых нахлебников.
Эти три кормления были самым громогласным временем дня в жизни пятого отделения. Если кто-то начинал производить излишний шум в необоснованный период, в палату сбегались пара медбратьев и, увещевательно огрев связкой железных ключей по голове, фиксировали нарушителя покоя. То есть, они его распинали в позиции навзничь, привязывая запястья и лодыжки к железу уголка вдоль коечной сетки пожелтелыми тряпками из явно ещё при жизни растёрзанных простыней…
После кормёжки все расходились по своим палатам либо бродили бесцельными парами по коричневым плиткам коридорного пола.
Не скажу, будто мы там голодали – хавка, как хавка. Один раз нам раздали даже по две оладьи на ужин. Да, холодные и без хлеба, но на каждой оказалась смазка из капли какого-то липкого джема.
Отдельной строкой стоит непостижимый пир горой совсем поздно вечером, когда в холле откуда-то появились два бельевых таза с колбасой: в одном ливерка, в другом кровянка. И кто сколько хотел, столько и брал. За исключением пары третьепартийцев, на которых нежданно снизошло просветление, и хотя говорить они так и не начали, но упорно подкрадывались к тазам. Однако банковавший на пиршестве толстяк-прикрытый отшугивал их прочь. Дискриминация случается где угодно…
Но главную усладу в жизнь пятого отделения вносила статная льноволосая медсестра в наволочке бугрящейся—вместо подушки—кусками сахара рафинада. Эту наволочку она заносила в комнату «старшая медсестра» и каждый день, кому хватала мозгов придти и попросить, а дверь оказывалась незапертой, получал пару кусков не прессованного, а настоящего рафинированного сахара, который не тает на языке всего за две секунды.
Мне, например, мозгов хватало дважды в день. И этот сахар я старался потреблять неприметно, потому что у кого не хватало клёпки обратиться к первоисточнику в наволочке, становились досадно сообразительными, чтобы клянчить у меня. Я говорил, что кончился, и выразительно хлопал по пустому карману пижамы, но вспомнив, что это неправильно, делился из второго …
Раз в двадцать дней стройная черноволосая женщина с острым носом и, естественно, в белом халате приходила в холл посреди коридора. Сразу видно было, что она из стеклоглазых, только я уже с этим всем завязал и потому принимал версию старожилов пятого отделения, что она бывшая цирковая акробатка. Циркачка состригала щетину с наших лиц зудящей машинкой для стрижки, а ножницами делала причёску, если не попросишь, чтоб и голову тоже «под ноль».
Культурную жизнь обеспечивал телевизор в холле. Час до и час после программы Время, во время которой он отключался на перерыв для процедур. Собиралось до десяти зрителей, которые приносили табуреты или стулья из своих палат, потому что с кушетки неудобно задирать голову к экрану. Медбрат у палаты наблюдения тоже придвигался поближе…
На ночь в палатах включался свет до самого утра. Наверное, чтобы никто ничего себе не сделал или соседу. Спать при свете неудобно, потому что даже если во сне гуляешь на воле, по городским улицам или на природе, присутствие лампочки над головой неизбежно чувствуется и там. Поэтому ночь наступала только в коридоре, который не слишком сильно освещался, чтобы создать медбратьям нормальные условия для сна в их полукреслах.
Часам к двум ночи в девятую палату являлся бритоголовый юноша – показать как ловко он жонглирует парой варёных яиц из передачи. Иногда он показывал небольшую, но мастерски исполненную жанровую картинку карандашом, где голый мужик с угрюмой сосредоточенностью гнался за девкой убегавшей в одних сапогах и треугольном кокошнике, по округлому заду спринтерши плескалась её длинная тугая коса, а сама она испуганно косилась через плечо на полуметровый член целеустремлённого преследователя. Судя по всему – копия с оригинала первой половины XIX столетия.
Уводить юношу приходил щуплый мужик с неуловимыми глазами. По его личной, не однажды излагавшейся версии, прикрыли его за стёкла в окнах сельсовета, которые он нечаянно разбил палкой. Все, сколько было… Он целовал юношу в темечко под неотросшими волосами, называл его «мнемормыш» и уводил в их палату. Такая у него была привычка, он всех юношей целовал в темечко даже совсем чокнутых, и каждому говорил «мнемормыш».
(…никогда раньше или позже, не слыхал я, а ты ни в одном словаре не найдёшь это неслыханное слово, но всё равно нежность звучания делает его таким миленьким, мягким, как, скажем, «тюленёнок», чувствуешь, а? – нет, я серьёзно, не типа там за своих тяну, сам знайиш, за прикрытых, вот повтори любое из этих двух раз десять перед бритьём и стопудово не порежешься, даже если в станок заправлено лезвие «Нева»…)
~ ~ ~