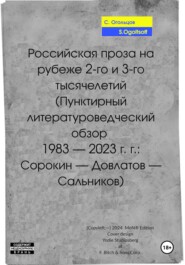По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Постанывая и шаркая тапками по полу, она двинулась, с нашей поддержкой, к шторам дверного проёма в тёмную кухню.
Так втроём, мы миновали середину комнаты под люстрой с пятью белыми плафонами, из которых только один рисовал тускло-жёлтый круг электрического света на побелке потолка. Когда до кухни оставалось метра два, окружающий нас свет вдруг померк и я оказался в темноте, но не кромешной, потому что мог различить, что занимаюсь этим со своей матерью в основной позе нецивилизованных приматов. Ужас тряханул меня, словно удар током, и я вновь очутился в гостиной.
До штор в проёме оставался ещё метр пути. Я испуганно взглянул на Иру поверх белого платка на голове моей матери. Ира, сдвинув брови, старательно смотрела не на меня, а на опущенный профиль свекрови, как будто ничего не заметила. Значит, опять видение, но дольше той секунды бега сквозь древнегреческую ночь…
Я попросил Иру остановиться, выскочил на кухню и включил там свет. Мы отвели мою мать в спальню и посадили на кровать, где мой отец что-то бормотнул во сне. Потом мы вернулись в гостиную.
Оглаушенный до головокружения, я раздвинул кресло-кровать для Леночки и диван-кровать для нас. Скоро в хате наступило сонное царство. Только гулкое тиканье из пластмассовой коробки настенных часов над телевизором мерно стучало мне по вискам. Они тоже не знали что это было и за что мне такое…
~ ~ ~
Как и прежде, принимая тетрадки с моим переводом, Жомнир вскидывал правый кустик своих бровей и начинал читать, вставляя карандашные пометки между широко расставленных строк, хоть и соглашался, что его варианты тоже не то.
– Твоя беда, Сергей, что мова не родной тебе язык. Ты не впитал её с молоком матери.
Я воздержался пояснять, что первые месяцы жизни меня прикармливали молоком коров Гуцульщины.
Он вышел в свою архивную камеру и вернулся с небольшой книжкой:
– Рассказы Гуцало… Вот как надо писать.
И Жомнир принялся вычитывать оттуда отдельные предложения, прищёлкивая языком после особо «красномовных», потом вручил книжечку мне – учись пацан.
(…я прочёл тот сборник и другие книжечки Е. Гуцало. Все, что подвернулись. Ну что поделать, если воспевание перезвона утренней росы на огуречной рассаде меня не вставляет? (По этой же причине и Есенина не люблю, хоть он и Рязанский.) К тому же, после Зачарованной Десны Довженко, который так великолепно исчерпал эту тематику, соваться в неё глупо, ты в ней обречён на жалкое крохоборство.
А когда Гуцало попытался писать о жизни в городе, то съехал до уровня фейлетонов сатирического журнала Перець. Да, бесспорно, в каком-то из рассказов он сумел подметить красную пыль на чёрных телогрейках каменщиков, но деталь эта никак ни к чему не пристёгнута. Хорошая, но лишняя деталь так и осталась попусту болтаться, как вялый хуй в пизде бездонной…
Детали должны работать на конструкцию в целом. Созвездие Южного Креста и красный отсвет лампы в рыжих волосах доктора на пустой палубе корабля, с первых же абзацев исподволь подводят читателя к предстоящему конфликту священничества и проституции, о котором поведает Моэм в Дожде…)
Но Жомниру виднее и для компенсации просчёта с выбором молочного питания в детстве, а также восполнения неаттестованности по Украинской литературы в отрочестве, я взял тонкую тетрадь, озаглавил её «Укр. Лит-ра» и прочёл все книги украинских литераторов с двух длинных полок в библиотеке Клуба КПВРЗ, записывая в тетрадку имена пройденных авторов с названиями их творений. («Социализм – это прежде всего учёт», – ответил Ленин левым эсерам).
Перепись населения полок учла и Лесю Украинку, и её маму Олену Бджилку, и Панаса Мирного с его волами, и великого Кобзаря, и Марко Вовчок, и Ивана Франко, и Янковского (кумир Жомнира) и много-много всячины в алфавитном порядке. О некоторых из них даже сам Жомнир знал лишь по торопливым записям в своих конспектах обзорных лекций, которые он посещал студентом.
(…просеяв это всё через сито внимательного чтения, с уверенностью могу сказать, что в плане художественной ценности, большинство обязательных авторов не потянули сотворить что-либо выше уровня «Мороз крепчал…» из не-одноимённого рассказа Чехова про писательницу-надомницу. Как подметила Украинская народная пословица – де немае спiвця, послухаеш i горобця. Коль скоро во всех просвещённых странах Европы есть писатели, то давайте и у себя заведём!
Вот и чирикают воробышки в пересказах текущих Европейских мод. Честь им и хвала за это – родная мова начинает печататься на бумаге! Но это уже политика, а я говорю о литературе.
Из Украинской литературы только трое не ударят лицом в грязь при сравнении с мировыми литературными стандартами:
1. поэт Кандыба, он же Олесь, который годами ходил по колено в крови на Киевской скотобойне и при этом писал пронзающие своей нежностью стихи;
2. писатель Василь Стефаник;
3. писатель Лесь Марто?вич.
Мастер знает что хочет сказать, потому что ему есть что сказать и, в результате, он умеет сказать это. Сорбонны мастеров не производят, ведь люди не учатся искусству дышать.
Прочие бумагомараки просто динькают Валдайскими колокольчиками в потугах изобразить новомодные вальсы Штрауса, которые Маэстро создаёт к восторгу и восхищению приличной европейской публики.
Не боись! Додинькаем и перетилинькаем весь его оркестр! А и у нас жа ишшо естя балалайки неповторимыя!.)
Так что, после работы мне было чем заняться. И даже электричка запросто превращается в рабочий кабинет. Полтора часа – это огромный кус времени. Поэтому по пятницам я выходил на работу с портфелем, а после работы, в вагоне электрички, доставал из него тонкую тетрадь, ручку и томик рассказов Моэма на Английском языке.
Склонясь над над чёрными значками в плотной печати книжных страниц, я погружался в густую ласковую ночь экзотических южных морей, где пряный аромат цветущих джунглей разносится за много миль от островов и, вынырнув оттуда с парой корявых строк для тетрадки, укладывал добычу в арифметические клеточки, чтоб снова пойти на погружение и там опять брести по песку пляжа вдоль белопенного, даже в темноте, прибоя и заторможено вглядывался в ночь через стекло вагонного окна…Что?. Приостёрный?.. Так быстро? …следующая Нежин.
Это было вкусное время…
Раскладывать тетрадь и книгу поверх портфеля на коленях – неудобно, но и проблеме письменного стола нашлось элегантное решение. По пятницам, переодевшись после работы, я вынимал из своего шкафчика кусок фанеры, служившей в нём полкой для головных уборов. Кусок фанеры 50 см х 60 см подмышкой не бросается в глаза и не мешает заходить в автобус или вагон электрички.
По прибытии в Нежин, письменный стол отлично умещался в ячейку камеры хранения, а портфель ехал на Красных Партизан, под стол покрытый тюлем, поверх которого стояло зеркало старого трюмо. Расходы на хранение фанеры в ячейке составляли 30 коп.: 15 коп. – чтобы установить шифр внутри дверцы и захлопнуть её, 15 коп. – чтобы открыть, набрав шифр с наружной стороны.
Один раз на обратном пути дверь ячейки заклинило. В таких случаях её вскрывает дежурная по вокзалу особым ключом и в присутствии милиционера. Правоохранитель предварительно спросил какие вещи я туда поставил.
Чтобы не напрягать мужика, я и не заикнулся про письменный стол или полку шкафа, однако, неблагодарный отказывался поверить даже в кусок фанеры. Когда дежурная открыла ячейку, а я, вытащив эти свои 50 см х 60 см, отошёл, мент ещё долго заглядывал в пыльную пустоту ячейки. Инсценировка поговорки нашего бригадира, Мыколы Хижняка, зазирав, як та сорока у порожню кiстку. Чё, мебельный гарнитур присматриваешь?.
А иногда в портфеле я привозил ещё и вещи в стирку, потому что Ира так сказала. Мне приятно было исполнять эту её инструкцию, мы как бы становились семьёй, пусть хоть и в тёщиной стиральной машинке, но всё же вроде как бы да…
А вот первый наш семейный праздник не удался… Тебе исполнился ровно год и я пригласил Иру в ресторан. Она отказалась, потому что Гаина Михайловна была против хождений по ресторанам.
Вообще-то, сперва Ира колебалась: идти или не идти? Но я так и не смог её убедить из-за своего косноязычия. Чаще всего оно на меня нападает в самых элементарных, бытовых ситуациях. Я просто не умею объяснять то, что и само собой понятно: —«Ну ладно, ну пошли, да?»
Да, убедительнее не придумать… Тогда как тёща, опершись на косяк двери в спальню, сыплет аргументами – порядочная женщина два дня готовится, чтоб в ресторан пойти.
– Ну ладно, чё ты. Ну пойдём, да?
И тому подобное жалкое блеяние, вместо того, чтобы сказать, что это первый день рождения дочки и такого уже не будет, а экспромты иногда бывают лучше, чем отрепетированные торжества. На такое, видите ли, язык не поворачивается. Косноязычие – просто кара. Это только на отвлечённые темы я за словом в карман не лезу.
Когда Брежнев первый и последний раз проезжал через Конотоп спецпоездом из трёх вагонов, то на два месяца раньше срока у вокзала возвели жестяной щит, выше самого здания, а на нём гигантски дорогой Леонид Ильич—ум, честь и совесть нашей эпохи—со всей его коллекцией Золотых Звёзд Героя Советского Союза на груди пиджака. Вот глянет он в окно какого-то из трёх вагонов в проносящемся мимо поезде и усечёт как мы тут все Его тотально любим.
За два часа до События вокзал был оцеплен милицией на триста метров во все стороны, на всякий, хоть даже поезд следует без остановки. Меня как-то не успели предупредить и я шёл с Посёлка вдоль путей, пока сержант милиции не остановил сказать, что на вокзал нельзя.
Ланна, грю, мне не на вокзал, на Переезд иду, вон тем служебным проходом обойду, чтоб джинсы об мазут на рельсах не попачкать.
Мент любил и уважал Брежнева не больше моего, но с учётом сопутствующих обстоятельств – чувак в гражданке чего-то там хочет доказать хлопцу в форме при исполнении, он задал мне абсолютно правомерный и обоснованный вопрос:
– Ты чё, больной?
И тут же, без запинки, мгновенно выскочил гордый ответ:
– Я неизлечимо болен жизнью.
Во сказанул – аж самому понравилось! Сержант, от восхищения, не нашёлся что сказать, но всё равно не пропустил…
Поэтому семейный праздник пришлось отмечать в одиночку, хотя Ира и Гаина Михайловна дуэтом предрекали, что ничего хорошего из этого не выйдет.
А и таки ж не вышло… В «Полесье» мне насилу дали стопку водки – последняя, говорят, а коньяк продаётся только бутылкой. Но я же не алкаш, чтоб в одиночку поллитра коньяка на грудь принять. Вот и пришлось сосредоточиться на той, последней из Могикан стопке под закусь из унылых размышлений, что бесполезно спорить с Матерями, и что в условиях тоталитарного матриархата наверняка есть система сообщающихся сосудов между тёщей и неприязненно настроенной официанткой.
В ресторане «Чайка», расположенном на большем удалении от Красных Партизан, я купил случайно завалявшуюся бутылку шампанского и салат из петрушки… На обратном пути с празднества шампанское, есессна, ударило мне в мочевой пузырь.