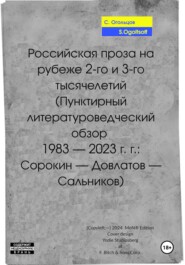По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но время истекло, другой Советский разведчик в штатском, её сопровождающий, взглядывает на часы. Тайное свидание закончено. И он уводит её прочь, чтобы ищейки Гестапо не напали на след…
Но здесь, в вагоне пригородного поезда, мелодия Таривердиева нарастает и ширится, мы не у них под колпаком, одни на весь пустой одиночный…
БЗДЕНДЗЗ! ЗПРТЫЧZZ!!
Из череды сиденных спинок между нами, как из чуть скошенной колоды карт, вскинулся краснорожий джокер. Мы тут не одни?!. Этот алкаш дрых между нами всю дорогу!.
Его похмельно красная харя семафорит:
– Стоп! Дистанционный флирт окончен!..
О, боги! Как я ржал! Как падал в приступе на собственный портфель! Без удержу, без остановок!.
Ханыга с мутным недопониманием уставился на мои конвульсии, оглянулся на девушку, утёр немытой лапой свои отвешенные губы и нетвёрдой походкой поконал в тамбур, а там и в другой вагон. Его деликатной натуре претит езда в соседстве с визжащими четвероногими.
Ты прав, алкаш! Всему должна быть мера. А мне пора завязывать чмякать одну и ту же сенти-менти-буббле жвачку…
~ ~ ~
Брежнева похоронили самым гадким образом. Бездушно так. Два мужика в чёрных траурных бантиках на рукавах плюхнули гроб в яму под Кремлёвской стеной. Те, кто смотрели церемонию в прямом вещании, перед урезкой для программы Время, были просто шокированы.
Смерть Лёни, причмякивавшего на каждом слове в написанных ему речах, с его любовью к орденам и медалям Советского государства, которыми он награждался каждый год (кроме медали Матери-Героини за которую надо родить десятерых детей), с его троекратными, громкими, мокрыми лобызаниями взасос всякого, кто только подвернётся из лидеров братских партий и прогрессивного движения в мире, стала испытанием для Советского населения. За почти двадцать лет люди привыкли худо-бедно перебиваться средь дефицитов, но без конвейера массовых репрессий времён Сталина, без расстрела голодных бунтов танками и автоматчиками, как при Хрущёве…
Выйдя поздним вечером в четверг из бани, я воочию увидел насколько растеряны люди, как сбиваются поплотнее и озираются в поисках пастыря-скотовода. Как тут не поверишь документальным лентам, где взрослые люди в офицерских погонах рыдмя рыдают из-за кончины Сталина?
Тем временем, на Декабристов 13, как бы шутейно, но с очевидной подоплёкой страха, возвели Великую Бумажную Стену, заслониться от неведомого грядущего. Материалом для фортификационных работ послужили почётные грамоты вручённые членам семьи по ходу её существования. Пришпиленные вплотную друг к дружке, грамоты тянулись в одну шеренгу вдоль рейки прибитой над клеёнкой, что заменяла кафель на стене. От буфета у окна, до рукомойника у двери на веранду. Грамота за отличную учёбу в третьем классе, за второе место в турнире пионерского лагеря по шашкам, за участие в художественной самодеятельности, теперь вот стали частоколом против будущего. Зря я считал грамоты бесполезными бумажками, любая фигня когда-нибудь догребается до своего звёздного часа… Я пожал плечами. Какая разница?.
За Брежневым последовала чехарда мумий, которые приходили к власти на три-четыре месяца, потом населению опять приходилось отключать телевизор на три дня, потому что там одна лишь тягуче камерная музыка и программа Время зачитывает телеграммы соболезнования от всяких братских партий и мировых лидеров. На то он и траур.
Но наконец, после очередных похорон, к рулю поднялся некий Горбачёв, вполне ещё даже среднего возраста, чтобы прервать вакханалию классической музыки на ЦТ, хотя и с подозрительным пятном на лысине головы. Он начал произносить речи про ускорение и перестройку, выговаривая звук «г» на Украинский манер. Да пусть мелет, если охота, кому мешает? Однако за год до момента, куда мы добрались в этом письме, он издал указ с длинным названием, а сказать попросту – объявил «сухой закон». Этот документ враз показал, что говорливый лидер в жизни не читал работ Джона Милля, у которого чёрным по белому стоит: на подобные меры пускаются правительства, которые считают население своей страны незрелой бестолочью. Вроде как задвинуть засовчик и сказать: —«Ты сегодня никуда не пойдёшь».
Это уже ни в какие ворота и, в день вступления указа в силу, я сошёл с Нашей Чаечки у гастронома На Семи Ветрах. Там я купил бутылку вина и выжрал её с горла?, не покидая помещения. Так я выразил своё негодование по поводу «сухого закона». Кто-то из продавщиц начала квохтать, чтобы меня хватали и звонили в милицию, но в очереди не нашлось исполнителя верноподданнического проекта. Я вынес пустую тару и аккуратно опустил в урну на тротуаре.
С трамвайными пересадками, я добрался до конечной на Посёлке, хотя это оказалось нелегко. После Всесвiта на обед и ни крохи закуси в гастрономе, вино плохо вело себя в желудке. Я насилу смог удержать его под контролем до веранды на Декабристов 13, где, наконец, выбросил в помойное ведро у газовой плиты.
Моя мать, появившись из кухни, в испуге вскрикнула: —«Коля! Он кровью рвёт!»
Отец тоже вышел на веранду, но услыхав знакомый дух, лишь отмахнулся от её страхов: —«Какая кровь? Налыгался как последнее чувырло!»»
Я покрыл ведро крышкой, переобулся из туфлей в тапочки и молча прошёл рухнуть на диван-кровать, даже не пикнув, что в монаде из чувырл нет разницы между последним и предыдущим…
А до «сухого закона» я выпивал очень даже умеренно. Мою недельную дозу алкоголя составляли две бутылки пива после бани, но Горбачёв своим указом вынудил меня дойти до этого эксцесса. Разумеется, неделя на неделю не приходится и случались более либеральные семидневки, когда каменщики нашей бригады угощали меня вином в вагончике. Но приносили они не всегда и угощение тоже не было догмой. А всё из-за принципа, с которым я вернулся из командировки в Киев, где у меня вышел спор с одним молодым прорабом.
Мы рассматривали случай рабочего, который рухнул, чисто гипотетически, на землю рядом с незавершённой, скажем, траншеей. Молодой теоретик утверждал, что работяга ужрался в лоскуты, отрицая любые прочие варианты. Мой контр-аргумент основывался на спецовке, в которую лежащий был одет и, следовательно, у него просто обморок, потому что люди не пьют на рабочем месте, в данном случае возле упомянутой траншеи. Конечно, я прекрасно сознавал, что наши люди пьют где угодно и в чём попало и против очевидности не попрёшь, но в тот конкретно момент меня потянуло занять идеалистическую позицию, сам не знаю почему…
По возвращении в Конотоп из командировки, когда мне предложили в вагончике глотнуть винишка, я продолжал катить под борца за идеалы и заявил, что не пью на работе, хотя и хотелось. Последовал резонный аргумент, что вагончик не рабочее место. Пришлось пересмотреть формулировку принципа, которая теперь вылилась в «я не пью в рабочей одежде». Тогда мне предложили, в виде компромисса, переодеться в чистое, хлобыстнуть, и снова натянуть спецуху. Со временем процедура сократилась, я просто раздевался до трусов и майки, делал пару глотков, чисто из вежливости, и одевал рабочее.
У нас в бригаде к принципам относились с уважением и меня терпели даже в таком неглиже. И только крановщик Виталя взрывался и выходил из себя: —«Чё ты ему оставляешь? Он же нас спалит!»
– Не, он не стукач.
– А как мастер зайдёт и его трусы увидит – не врубится что бухаем?
Но крановщик башенного крана не член бригады, а Виталя и не из Конотопа даже. Он ездил на работу из Бахмача и просто у него такой баламутный темперамент. Однажды в обеденный перерыв начал смехуёчки строить: —«Ну, чё ты влип в отой свой Всесвiт? Иди выпей! Но без раздеваний, у меня тоже принципы!»
Он хихикал, игриво поблескивал глазками, хватал бутылку четырёхпалой кистью и наливал только себе и Кирпе…
Долг платежом красен… На следующий день, я на обед купил бутылку «Золотой Осени» и плитку шоколада в гастрономе, потому что Виталя и Кирпа играли в вагончике в карты.
Я не спеша разделся до нижнего и начал демонстрировать коллегам возвышенный пример сибаритского отношения к жизни, прихлёбывая из бутылки по 1 руб. 28 коп. вприкуску с дорогим шоколадом.
(…это не месть была, а просвещающий акт откровения…)
Виталя держался долго, но темперамент взял своё: —«Блядь! Смешивать с Алёнкой бормотуху! Во извращенец!»
Но, конечно, это от зависти, он ведь в жизни так не пробовал. И я невозмутимо добил всю бутылку и даже Кирпе не оставил, который вчера Витале подхихикивал.
(…однако же порой закрадывается сомнение: было ль то впрямь чистой педагогикой от гедониста или всё же мстительным эксгибиционизмом?..)
~ ~ ~
В четверг я заторчал в парной чуть дольше и на выходе из бани часы над её кассой показывали семь с минутами. До Горбачова у кормила власти, я этого бы даже не заметил – счастливые часов не наблюдают, однако сухой закон поставил продажу алкоголя в жёсткие временны?е рамки. Но как же моя послебанная квота пива!.
Пивной бар по ту сторону площади Конотопских Дивизий вместо обычного яркого сияния флуоресцентных ламп, маячил скудным кружком дежурной лампочки во глубине недр. С отрешённым унынием, я проходил мимо, когда дверь бара приоткрылась и два мужика сошли по высокому крыльцу заведения. Ну-каньки, ну-каньки!. Поглядим, посмотрим!..
Незапертая дверь охотно подалась лёгкому нажиму. И действительно, всего одна лампочка в 100 ватт горела в зале над краном с пивом. Но пиво текло из него в бокалы! Мужики их расхватывали и отступали к высоким круглым столикам. Если бы не жалкое освещение – всё как в старые добрые беззаконные времена!
Хотя не всё. Нет прежнего шума и гама тёплых бесед. Бармен в белом халате предупреждает, раз за разом, из-за стойки: —«Потише, мужики! И давай по-быстрому, и так нарушаем!»
Нет кайфа в кайфе под хлыстом секундомера… Тут, в полутёмном зале подземелья, где не различить лица пьющего за столиком напротив, мы словно последняя горсть рыцарей Тамплиеров, чей орден разбит и предан анафеме. Прячемся от безалкогольных соглядатаев и доносчиков. Любая торговка может ткнуть пальцем и завизжать: —«Хватайте! Держите! Зовите ментов!»– Мы вне закона…
Если честно, я не слишком люблю забегаловки. Стоишь в очереди и смотришь как подваливают корифаны и просто знакомые к стоящим впереди тебя: —«Братан! И мне парочку!» И вместо одной очереди вынужденно выстаиваешь две, а то и три, фактически. Ещё противнее, когда до крана остаётся пара человек, а тебя тычут в рёбра и рожа, которую ты вроде бы видел где-то, лыбится с подмигом: —«Ты ж не забыл? Я три бокала заказывал». Нет, в следующий раз пойду лучше в кафе, там бутылочное, подороже, но без этих наглых хвостопадов… И после очередной бани я гордо прохожу мимо пивного бара и топаю в кафе.
– Пива нет.
Блин! Придётся на Мир переться… Но и в кафе рядом с кинотеатром та же картина. Ресторан на вокзале моя последняя надежда. Всё повторяется с точностью до миллиметра. Но ведь сегодня четверг!.
Так меня вынудили купить бутылку белого портвейна. Столы в ресторане большие, на десять персон каждый, в окружении тяжёлых кожаных кресел, но посетителей почти никого. Я сел где-то посередине и начал наливать в фужер: как из бутылки с пивом – тонкой, словно спица, струйкой. Так уж у меня рука набита.
После первого фужера, ко мне приблизился мужчина неясного рода занятий с просьбой о позволении присесть. Целый зал пустых столов, а его именно сюда тянет. Ну я не стал возражать.
Опустившись в соседнее кресло, он поделился, что здесь проездом из города Львова. Я ответил, что Львов тоже хороший город, добро пожаловать, и всё такое. Затем я начал наливать следующий фужер. Приникнув неотступным взором к филигранно-тонкой струйке, он сообщил о своём недавнем освобождении из Зоны… Пара хлопцев через один стол притихли. Я поздравил его с долгожданной свободой и выпил.
Его лицо вдруг исказалось выражением необъяснимой злобы и он перешёл на громкие угрозы предстоящей пенетрации моего прямого прохода с его стороны, как только окажемся в одной камере.
(…используя более доступную терминологию, разумеется, на уровне обиходно-бытового общения…)
Вино допито, сосед по столу мне не по душе и я поднялся уходить. Один из хлопцев, что сидели рядом, уже стоял между столов.