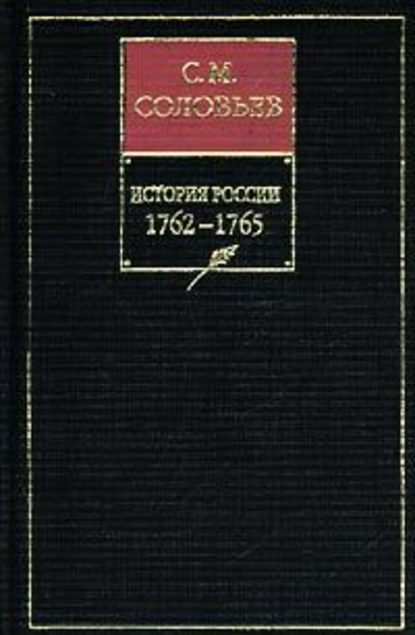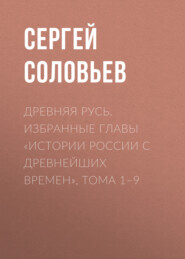По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России с древнейших времен. Книга ХIII. 1762–1765
Жанр
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Порта не поверила известию, что к коронации Станислава Понятовского в Варшаву приедет русская императрица для вступления с ним в брак; но Порта обеспокоилась известиями, что в Польше готовятся большие перемены, уничтожение liberum veto, и рейс-еффенди требовал от Обрезкова и Рексина, чтоб они доставили Порте от Польской республики письменное точное уверение, что польская конституция никогда не потерпит ни малейшего изменения, особенно в статье о liberum veto. Прусский посланник согласился было донести об этом своему двору; но Обрезков уклонился учтивым образом и уговорил Рексина сделать то же, находя требование предосудительным для достоинства Польского королевства и не приносящим ни малейшей пользы России. На донесении об этом Панин сделал заметку: «Сие тем более заслуживает похвалу политическому проницанию резидента Обрезкова, ибо такою от Польши декларациею турки получили бы знатную ступень мешаться в польские дела и почли бы себя сущими гарантами ее правительства, следовательно, разделили бы впредь с Россиею то, что по сие время ей одной от Польши хотя неохотно, но тем не меньше существительно и от других держав признавается».
Что в Европе была Польша, то в Азии была Кабарда, слабая страна, находившаяся между двумя сильными влияниями – русским и турецко-крымским. Хан, стремясь привести Кабарду в свою зависимость, с одной стороны, заподозривал пред ее владельцами намерения России, ставя на вид, что охраняет их от грозящей им беды; а с другой – жаловался на них русскому правительству и требовал удовлетворения, чтоб раздражить их еще более против России. И относительно польских дел хан вел себя враждебно, пересылая в Константинополь неприязненные России внушения, а перед консулом толковал о своей силе, о средствах вредить или быть полезным России, которая поэтому должна была его уважать. По этому поводу Никифоров получал повеления из Иностранной коллегии осаживать хана. Хан потребовал себе в подарок кречета; Никифоров получил приказание внушить, что императрице известно, что он, хан, вместо старания укреплять дружбу между Россиею и Турциею всячески, напротив того, хлопочет о том, как бы повредить ей: сам верит всем клеветам на Россию и желает, чтоб и Порта им верила. Этими поступками сам себя лишает большой награды, а потому не прежде может надеяться получить от России какие-нибудь благодеяния, как после совершенной перемены своего поведения.
Первый выбор консула в Крыме оказался неудачен. Никифоров делал большие ошибки: начал уговаривать хана, чтоб тот не мешался в польские дела, прежде чем тот промолвил о них одно слово; этим со стороны консула было внушено, что Россия нуждается в хане, заискивает в нем; вместо того чтоб представить подарки хану от имени киевского генерал-губернатора, представил их прямо от имени императрицы; Никифоров был заподозрен и в нечистых поступках относительно казны. Наконец, неосторожное поведение консула в самом щекотливом деле, в деле религиозном, послужило поводом к его отозванию. В октябре крепостной человек Никифорова Михайло Авдеев, 15 лет от роду, ушел и принял магометанство, а консул с своими людьми взял его силою опять к себе и подал жалобу на нарушение народных прав; татары, напротив, требовали выдачи Авдеева как уже магометанина, причем один из чиновных татар сказал: «Хотя бы и консул пришел, то мы по своим книгам и суду могли бы его обусурманить», и когда переводчик консула жаловался на эти слова каймакаму, или наместнику ханскому, то сидевший тут муфтий сказал: «Хотя бы ваша и кралица сюда пришла, то бы мы и ее побусурманили». В ответ на донесение об этом Никифоров получил сильный выговор от Иностранной коллегии; поступок его назван горячим и непростительным, ибо он должен был знать, что ренегаты почитаются погибшими и о возвращении их никто не старается; грубые выражения муфтия насчет императрицы суть следствия его же консульской неосторожности.
Французские хлопоты остались на этот раз без последствий в Турции; Польшу Франция предоставила ее судьбе; но тем с большею настойчивостью действовала она в Швеции. Система действия была изменена: до сих пор Франция поддерживала противников усиления королевской власти, следуя общему тогда правилу, что слабость королевской власти дает другим державам более возможности вмешиваться в дела страны и проводить в ней свое влияние. Но теперь родился вопрос: что выгоднее для Франции: делить ли постоянно в Швеции влияние с Россиею, поддерживая большими деньгами свою партию, или, усилив королевскую власть, противопоставить России опасного уже по самой близости врага, который будет всегда готов сдержать Россию в ее неприятных для Франции стремлениях? Пример Польши заставлял Францию спешить переменою политики относительно Швеции. Французский посланник в Варшаве Поми писал своему двору: «Все поляки говорят прекрасно, но немногие осмеливаются что-нибудь делать, и, что делают, выходит дурно. Теперь поддерживать свободу Польши – значит защищать открытое место без гарнизона, без офицеров, без военных запасов, без хлеба, без укреплений». В Версали не хотели сделать и из Швеции такого же удобного для защиты места. В инструкциях Шуазеля Бретейлю говорилось: «Франция была введена обстоятельствами в заблуждение, слишком благоприятствовала ослаблению королевской власти в Швеции, из чего возникло метафизическое, невозможное правление. Растрачивали деньги на слабые партии, а Швеция становилась все. слабее и незначительнее. Поэтому надобно доставить королю более власти».
В начале года Остерман уведомил императрицу, что генерал граф Ферзен тесно сблизился с недавно приехавшим в Стокгольм французским послом бароном Бретейлем и объявил королеве, что старается склонить Бретейля содействовать уничтожению на будущем сейме вкоренившихся в Швеции беспорядков, что ему Бретейль и обещал; и датский двор также склоняется этому содействовать. Королева поэтому продолжает быть очень ласкова к Ферзену и даже усилила наружные знаки своей милости к Бретейлю; удостоивает своим разговором и датского посланника, чего прежде никогда не бывало. Панин заметил на донесении Остермана: «Знать, что жребий шведской королеве быть обманутою французскими послами: в мое время перед сеймом, на котором графу Браге отсекли голову, маркиз дАвренкур, обещав ей свое вспоможение и выведав из нее на одном маскерате все ее тогдашние намерения и предприятия противу сенаторей его креатур, предал ее им, Бретель же гораздо вороватее Давренкура». Ферзен уверял, что французскому послу в инструкциях предписано не подражать поведению своего предшественника Давренкура, который действовал против короля и королевы. Панин заметил: «По-видимому, Бретейль очень хорошо завел свои машины, налагая все прошедшее на счет своего предместника, и королева, конечно, будет обманута. Ее величество тут не припамятует, что Бретейль не прислан ее мирить с Давренкуром, но исправлять дела оставшихся в Швеции французских креатур, а что граф Ферзен – тот самый, который был первым жрецом Брагевой головы в поражении их шведских величеств».
Когда Остерман стал внушать надежным людям, что напрасно королева верит Ферзену и французскому двору, то ему отвечали, что королева, по ее решительному уверению, отнюдь никогда не согласится приступить к французской системе; не верит она ни Ферзену, а еще менее сенатору Шеферу; но по причине господства французской партии она принуждена пользоваться их ласканиями, ибо если ни в чем другом нельзя успеть то по крайней мере она избавится от гонения, тем более что королева не имеет никакого подлинного обнадеживания ни с русской, ни с английской стороны, в чем будет состоять их помощь, а французский посол обещает на будущий сейм миллион ливров, и если сейм не будет чрезвычайный, отложится до обыкновенного срока, то французский двор пришлет еще три миллиона ливров. Панин заметил на донесении об этом: «Все сие пустые затеи и больше показывают десимюлацию ее величества перед благонамеренными, нежели истинность ее сентиментов, ибо как возможно согласить теперь оказываемое сю порабощение духа противу французской партии с тою характера ее гордостию и презрением всех очевидных тогда опасностей, которые она оказывала, когда ни снаружи, ни внутри Швеции не только подкрепления, ниже малейшей к тому надежды не имела».
Остерману было предписано иметь дружественные сношения с приверженцами двора и с благонамеренными патриотами, причем он не должен был никого поощрять к созыванию чрезвычайного сейма. Благонамеренные, по обычаю, неотступно просили Остермана узнать точнее, в чем будет состоять помощь со стороны России, дабы они заблаговременно могли бодрствовать против французских быстрых уловлений и содержать королеву в добром к себе расположении. Они высказывали желание чрезвычайного сейма, выставляя на вид, что без него своевольство так укоренится, что рано или поздно самодержавие само собою введено будет, и если это не сделается при жизни короля, то непременно последует вдруг по кончине его. Панин заметил по этому поводу: «Разумный домоводец когда что торгует, он соображает прежде всего цену с надобностию, с своим достатком и с пользою, которую из того получает; то же правило служит аксиомом и в политике. Неоспоримый интерес вашего величества принять участие, чтоб развращением не воспоследовало в Швеции генеральное опровержение всему правительству; но определить меру сего участия рассудительным образом невозможно прежде, покамест совершенно о том не уверимся, какой точно конец получат польские дела; без крайней же нужды, которой еще в Швеции не предусматривается, благоразумие не дозволяет совсем полагаться на одну надежду и потому брать решительные меры».
Между тем Панин, сначала думавший, как мы видели, что Бретейль обманывает королеву, стал приходить к мысли, что французский посланник может хлопотать об установлении самодержавия в Швеции, в чем заключается настоящий интерес Франции. На реляции Остермана от 19 марта Панин заметил: «Не то страшно, что Бретейль уверяет о нехотении своем мешаться во внутренние дела: после в них во время сейма вмешается и тем обманет дворовую партию, но того вправду бояться надобно, чтоб Франция, усыпляя всех своим защищением правительства против короля, он, Бретейль, вдруг не соединился с дворскими партизанами своей системы и не подал бы нечувствительно способа им схватить самодержавство, что в существе есть и будет истинный интерес Франции, лишь бы только достоверно можно было ей его достигнуть».
В начале мая Остерману послан был указ стараться отвращать королеву от впадения в сети французских партизанов, а с другой стороны, удерживать благонамеренных (колпаков) от несвоевременного отделения от придворной партии. Остерман отвечал, что из придворной партии он получает уверения о преданности короля и королевы императрице; если и происходят сношения с французскими партизанами, то они наружные, без всякой твердости. Королева довольно испытала, как мало она может верить их обольщениям, и потому уверения со стороны императрицы предпочитает всему и на них одних полагает прямую свою надежду, как бы с французской стороны ни старались переменить ее мысли. Благонамеренные же патриоты полагают все свое спасение в защите императрицы и с неописанною благодарностию принимают обнадеживания в русской помощи, обещаясь следовать великодушным советам императрицы и не только не подавать вида об отделении себя от придворной партии, но еще сильнее искать королевской милости. В начале июля Остерман донес о разговоре своем с королевою, которая уверяла его в самых сильных выражениях в своей особенной и беспредельной преданности императрице и желании заслужить ее всевысочайшую дружбу. Остерман просил ее принять уверения в добром расположении императрицы к ней и королю и не верить никаким другим внушениям, приходящим с противной стороны, выдуманным людьми, завидующими доброму согласию между Россиею и Швециею. Королева сказала на это: «Вы не ошибаетесь, говоря о зависти; прошу вас верить, что я никаким внушениям веры не даю, и в доказательство моего усердия к императрице и доверия к вам не могу от вас скрыть, как мне прискорбно слышать о враждебных замыслах датского и венского дворов против императрицы». «Эти вредные замыслы мне неизвестны, – отвечал Остерман, – и я могу удостоверить ваше величество, что опасности тут нет никакой и все действует одна зависть». «И я имею такую же надежду, – сказала королева, – но по искреннему своему к вам усердию не могу скрыть своего беспокойства». Остерман настаивал, чтоб королева не верила никаким внушениям, потому что перед этим она дала ему знать, как ей прискорбно было уведомиться, что императрице донесено, будто бы она, королева, недружелюбно к ней относится, а потому и императрица с своей стороны к ней неблагосклонна и хорошо расположена к одному королю.
24 августа Остерман писал о разговоре своем с прусским посланником бароном Кокцеем, который все твердил, что уполномочен своим государем сообразовать свои поступки с поступками русского министра. Кокцей дал знать Остерману, что введение самодержавия в Швеции одинаково противно интересам России и Пруссии, но согласно с интересами обоих дворов восстановление на будущем сейме прав и преимуществ королевских, как-то: права объявлять войну, заключать мир, установлять новые с иностранными дворами обязательства по примеру преимуществ английского короля. Остерман имел наивность заключить из этих слов, что Кокцей, должно быть, не получил инструкции по внутренним шведским делам и рассуждает о правах короля по словам членов придворной партии. В том же донесении Остерман уведомил о состоявшемся определении о созвании чрезвычайного сейма. «От этого определения, – писал Остерман, – все благонамеренные патриоты ожидают большой пользы, если получат от вашего императорского величества обещанное вспоможение; если теперь при самом начале случай упущен будет, то после нельзя будет поправить дела и двойным иждивением». По мнению благонамеренных патриотов, вспоможение должно было состоять из 300000 рублей, из которых 100000 должно было выдать немедленно, а на остальные дать ассигнации и выплатить их в течение двух лет. Благонамеренный сенатор граф Левенгельм объявил Остерману, что он сильно уговаривал королеву наблюдать строгий нейтралитет как в выборе ландмаршала, так и при всех других выборах; но не мог в этом успеть и довольно приметил, что она имеет доверие к советам графа Ферзена и надеется по его обещанию получить в свое распоряжение французские деньги. 24 сентября Остерман сообщил о любопытном разговоре Левенгельма с французским послом Бретейлем. Левенгельм старался убедить посла, чтоб он не употреблял подкупа: все бедствия Швеции, говорил он, проистекали от того, что нация, будучи подкупами раздроблена на разные части, не могла никогда содействовать истинной пользе своего отечества, и теперь, если подкупы будут продолжаться, то надобно ожидать тех же самых бедствий, и посол приобретет для своего двора больше вреда, чем пользы. Бретейль, выслушав все это, отвечал, что он нимало не намерен следовать примерам своих предместников, но если соперники его будут употреблять подкупы, то и он, естественно, принужден будет обороняться тем же самым оружием. «Кого вы признаете здесь своими соперниками?» – спросил Левенгельм. «Английского посланника Гудрика и русского Остермана», – отвечал Бретейль. Гудрик действительно предложил Остерману 40000 фунтов стерлингов для действий сообща.
Из России Остерману прислано было 50000 рублей и наставление: «Мы постоянным и ненарушимым интересом поставляем в Швеции непоколебимое соблюдение узаконенного в 1720 году вольного образа правления и сопротивление введению самодержавства. На таком основании мы признаем благонамеренными патриотами всех тех, которые стараются только о восстановлении должного равновесия между тремя властями и уничтожении беспорядков, происшедших от своевольного и превратного толкования формы правления. Это восстановление и уничтожение беспорядков мы почитаем совершенно исполненным, если уничтожатся все без изъятия сенатские толкования и сеймовые определения, особливо акты, обнародованные на сейме 1756 года, а в самой форме правления переправится оговорка, находящаяся в заглавии, именно что „государственные чины предоставляют себе на генеральном сейме право толкования и исправления установленной формы правления, если это впредь понадобится“. Вместо этого должно быть внесено следующее: „Если впредь понадобится толкование или исправление правительственной формы, то государственные чины предоставляют себе на генеральном сейме право составить проект для обнародования всей нации, которая на следующем сейме в данных депутатам полномочиях и инструкциях должна этот проект одобрить, и тогда только он может получить силу закона“. Повелеваем вам истинным и благонамеренным патриотам подавать всякое вспоможение не только советами, но и деньгами; вы должны стараться составить из этих патриотов действующий корпус, чего иначе достигнуть нельзя как избранием для них одной главы, к чему мы удостоиваем сенатора графа Левенгельма как самого разумного и искусного в делах из всех благонамеренных патриотов, присоединяя к нему в помощь сенатора графа Горна, полковника Рудбека и статс-секретаря барона Дюбена как людей, исстари расположенных к нашему двору. Вы должны им объявить: 1) что наше вспоможение не назначается на личное преследование членов противной партии, равно как не на доставление частных выгод тому или другому из благонамеренных патриотов, но единственно на поправление государственных дел и на поправление всей благонамеренной партии в надлежащую силу и кредит у народа, и потому они не должны позволять друзьям своим вмешиваться в частные предприятия; 2) чтоб они всеми мерами старались обуздывать высокомыслие придворной партии, особенно начальника ее полковника Синклера, причем, однако, должны избегать явного разрыва с этою партиею, а старались склонить ее к своим благонамеренным видам; 3) приложили бы старание привлечь на свою сторону сенатора графа Гепкена и уговорили бы его потом возвратиться в Сенат, а, напротив того, сенатора Шефера принудили бы оттуда добровольно выйти; 4) в Секретную комиссию посадить сколько можно более честных и искусных людей, дабы, наконец, 5) воспользоваться склонностию и самих сенатских приверженцев к независимости от чужих держав и положить начало низвержения французской системы предписанием своему министерству, чтоб оно не вмешивалось ни в какие обязательства с чужестранными дворами, могущие вывести Швецию из нейтрального состояния в случае военных замешательств в Европе». Екатерина хотела составить в Швеции свою независимую партию или поднять старую партию колпаков, которая бы, с одной стороны, противодействовала французскому влиянию, с другой – сдерживала королеву и придворную партию от стремления к перемене конституции 1720 года. Разумеется, придворная партия не могла смотреть на это равнодушно. В конце октября один из главных членов этой партии имел разговор с Остерманом, из которого тот заключил, что приверженцы двора желают, чтоб русские и английские деньги были отданы в руки королевы для составления одной партии под именем придворной, от которой колпаки вполне бы зависели. Упомянутый член придворной партии толковал Остерману, что особенная партия, независимая от Сената или короля, никогда ничего с пользою сделать не может, и приводил в пример события на сейме 1747 года. Остерман уверял его, что у него вовсе нет намерения отделить колпаков от придворной партии; а так как печальные события на сейме 1747 года произошли от тогдашних французских обольщений, то это самое и побуждает его теперь просить короля и королеву предостеречь себя от них, ибо когда их величества по своей дружбе к императрице будут иметь неизменное внимание к ее советам, то не только не будет особенной партии, но и союз между Россиею и Швециею станет так крепок, что все французские стремления не будут в состоянии ему повредить. Между тем один из благонамеренных (должно быть, тот же Левенгельм) дал знать Остерману о своем разговоре с королевою: Луиза-Ульрика требовала от него, чтоб он старался поправить в народе кредит Ферзена и Синклера, причем выставляла на вид честность их намерений; но благонамеренный не согласился на ее желания и отвечал, что если бы он взялся исполнить ее волю, то пользы никакой ей не принесет, а собственный кредит в народе потеряет. При этом благонамеренный упрашивал королеву, чтоб она не верила французским обнадеживаниям, передаваемым ей чрез Ферзена и Синклера, а предпочитала уверения, идущие с русской и английской стороны, как больше согласные с национальным интересом. Королева отвечала: «Я еще не знаю, в чем будет состоять русская поддержка: если, как я думаю, только в том, чтоб восстановить правительственную форму 1720 года, то я большой выгоды в этом не вижу и потому, естественно, предпочитаю тех, которые обещаются больше содействовать в мою пользу».
12 ноября приехал к Остерману известный важный член придворной партии (Синклер?) и объявил, что король и королева на будущем сейме не начнут никакого самого малого дела, не узнав прежде от него, Остермана, мнения об этом деле императрицы, и все свои поступки будут согласовать с ее волею. Остерман в ответ пропел свою обычную песню, что их величества прежде всего не должны верить внушениям, делаемым со стороны французских приверженцев – графа Ферзена с товарищами. Гость начал с божбою уверять, что король и королева не только не верят внушениям французских приверженцев, но скоро произойдет и явный разрыв двора с ними. Наконец, посланный объявил, что с французской стороны немедленно начнется закупка дворянских полномочий, следовательно, со стороны их величеств очень нужно было бы употребить такие же способы, чтоб не быть предупрежденными. Остерман понял, к чему все это клонится, и отвечал, что надеется очень скоро получить высочайшие инструкции, без которых не может быть никакого ответа; но, чтобы показать королю и королеве свое усердие к их пользам, Остерман выдал посланному 20000 талеров (купфермюнце) с обещанием по согласию с английским посланником выдать такую же сумму в начале будущей недели; деньги должны были идти на закупку полномочий. Панин заметил на донесении: «Сумма гораздо невелика, и потому недурно, что приманку сделал, больше же давать уже не станет».
Но, получив русские деньги, посланный отправился к английскому посланнику Гудрику с вопросом, какая сумма назначена из Англии в пользу их величеств, и с требованием, чтоб сумма была выдана. Гудрик отговорился, что он не может ничего дать без согласия с русским посланником, к которому и надобно адресоваться. Посланный явился к Остерману с объяснением, что если императрица намерена употребить денежные издержки в пользу короля, то никаких других распоряжений не нужно, довольно того, чтоб требуемые 200000 рублей были готовы, без получения которых королю было бы неприлично самому вмешиваться и поощрять других к деятельности. Остерман отвечал, что если императрица помогает деньгами, то, естественно, должна знать, на что будут употреблены ее деньги, чтобы по прежним примерам они понапрасну не были истрачены; английский двор тем более любопытствует знать, куда употребляются деньги, что его вступление в здешние дела большею частию зависит от доброго начала относительно избрания ландмаршала и членов Секретной комиссии из числа благонамеренных. Тогда посланный объявил, что он того же дня снесется с тремя главными членами благонамеренной партии и, определивши с ними, сколько нужно денег, будет их требовать от Остермана и английского посланника, причем назвал имена этих благонамеренных, чтоб Остерман мог от них узнать, правду ли он говорит. Остерман, увидав его на такой доброй дороге, дал ему еще 4000 плотов вместо 15000, которых он требовал, и Гудрик обещал выдать такую же сумму. «Кроме сего доброго успеха, – доносил Остерман, – и та польза приобретена, что, собственно, их величества зачинают больше полагаться на подаваемые им мною с вашей всевысочайшей стороны уверения и к моему поведению свое высокое удовольствие оказывать изволят. Единая только вредительность еще остается, что оный дворовый партизан с своим сообщником обер-камергером графом Гиленстолпом предуспели такой полный кредит у их величеств иметь, что никто с ним не сравнивается. Его величество при оказании своей к вашему императорскому величеству истинной благодарности за ваше обещанное ему вспоможение и высокого удовольствия ко мне, всенижайшему, мне объявить соизволил, чтоб я в случае какого ему сообщения адресовался для того к упомянутому графу Гиленстолпу яко его величеству верному слуге. Такое со стороны его величества нечаянное повеление меня немало удивило. Вашему императорскому величеству известна та персона, которую я с самого начала моей здешней бытности всегда продолжительно для такого внушения употреблял; его к вашему всевысочайшему двору и персонально к его величеству преданность довольно мне знаема. Уважая, с одной стороны, повиновение королевскому повелению, а с другой – необходимую надобность мне оного для вышеозначенного внушения удержать, понудило меня с глубочайшим респектом у его величества испросить милостивое позволение употреблять в случае надобности ту ж персону, которую я доднесь употреблял, показав в резон, что хотя по причине имеющейся к нему доверенности, которая мне главнейшим всегда правилом служить имеет, оного Гиленстолпа употреблять не премину, однако ж в рассуждении вручения мне тою персоною королевского отправленного к вашему императорскому величеству изъяснения употреблением к тому при случае получения вашего всевысочайшего ответствия Гиленстолпа натурально оная персона будет иметь причину думать о имеющейся к оной какой недоверенности, которую она толь меньше заслуживает, что, сколько мне известно, никто больше оной его величеству не предан. Король, приняв милостиво мое изъяснение, ответствовал, что он сам в преданности той персоны не сумневается и, следовательно, мне дает позволение по-прежнему и оную употреблять, но как оная в делах обретается, так Гиленстолп к взаимному сношению несколько способнее. Я, настоя в прежнем моем всенижайшем прошении, принял смелость к тому присовокупить, чтоб его величество милостиво склонился употребить для лучшего сохранения секрета ту же персону, доказывая, что может случиться такое дело, которое подлежит его единственному знанию, на что его величество милостиво и согласиться изволил и, приняв от меня уверение о вашем всевысочайшем намерении в угодность его на будущем сейме содействовать, когда вашим советам последовано будет, изъяснился, что он, будучи о том уверен, надеется, что и его совету иногда следовано будет, еже я покрыл тем, что то само разумеется, ибо инако общее с обеих сторон согласие состояться не может. Ее величество королева, оказав равную благодарность, много распространялась похвалами к именитому дворовому партизану, доказывая его великий разум и искусство, чему я и комплиментами ответствовал; и, как дошла материя дискурса до известных французских партизанов, она требовала моего мнения; не приличнее ли я признаваю продолжение наружной к ним учтивости на куртагах, нежели явного разрыва, которого будто некоторые из благонамеренных желают. Так, я принял смелость представить, что не токмо от такой наружной учтивости отвращать, но более к оной согласовать причину имею: довольно того, что я ее величества слово имею, что она к ним никакой доверенности иметь не изволит».
Но вслед за этим Остерман должен был донести, что расхваленный королевою «дворовый партизан» обманывает: он действительно начал советоваться с «бонетами» (колпаками), но скоро перестал давать им отчет в употреблении русских и английских денег, начал представлять необходимость выбора в Секретную комиссию некоторых членов французской партии; не соглашался, чтоб часть этих денег шла на устройство столов для бедных депутатов и чтоб эти столы учреждались колпаками, стал избегать свидания с последними. И король начал с ними изъясняться сдержаннее, стал повторять, что не сомневается в преданности графа Ферзена и другого вождя французской партии, статс-секретаря барона Германсона.
Дания не подавала ни малейшего повода к беспокойству. Датский двор вполне соглашался со всем тем, что делалось в Польше со стороны России. В конце июня Корф уведомил императрицу о разговоре своем с министром иностранных дел бароном Бернсторфом, который, расхваливая поведение Чарторыйских и Понятовских, удивлялся необыкновенно разумным действиям Екатерины: в короткое время царствования своего она совершила великие и полезные дела как внутри, так и вне своей империи почти непонятным и для других дворов примерным образом; умела привести в согласие поляков, собравшихся на созывательный сейм, так что даже отважились поправить известные ошибки в польских фундаментальных законах, на что в продолжение веков не осмеливались покуситься и почитали за невозможное дело. «Но, – прибавил Бернсторф, – не будет ли Польша опасна своим соседям, когда придет в совершенный порядок?» Корф, поблагодаря его за откровенный отзыв, сказал, что выражение совершенный порядок уже показывает, как еще много недостает для того, чтоб Польша стала опасною своим соседям, на чем надобно и успокоиться. Императрица очень желает заслужить имя установительницы мира, однако притом хорошо знает связь своих интересов с положением других держав. Исправление польских законов коснулось преимущественно экономического штата польского короля и гражданских законов, a liberum veto едва ли может быть уничтожено и всегда будет служить средством препятствовать намерениям короля и республики, если эти намерения покажутся опасными соседям.
Барон Корф занимался в Копенгагене не одними датскими отношениями. 25 февраля он просил у императрицы всемилостивейшего позволения открыть собственную свою систему, о которой он больше двух лет думал и которая состояла в следующем: «Нельзя ли на севере составить знатный и сильный союз держав против бурбонского союза, который, кажется, чрез австрийский дом получает себе приращение; если венский двор и до сих пор находится в союзе с Франциею, то Англия перестанет по-прежнему поддерживать равновесие между Австриею и Франциею, следовательно, принуждена будет принять чью-нибудь сторону. В таком случае что же ей другое остается делать, как пристать к северным державам? Но при этом какое множество различных интересов надобно принять в соображение! Если в моем мнении найдется что-нибудь полезное, то я уверен, что такое дело предоставлено совершить вашему императорскому величеству».
Это была знаменитая система «Северного союза, северного концерта, или аккорта», которая так понравилась Панину и которую он усыновил себе по смерти Корфа. Систему эту привести в исполнение было трудно именно потому, что нельзя было убедить в ее пользе двух главных предполагавшихся членов после России – Пруссию и Англию. Фридрих II, зная страшную вражду к себе Австрии и Франции и не имея возможности сблизиться по-прежнему с Англиею, искал для себя обеспечения в союзе с Россиею, добился его благодаря польским делам и не желал ничего более, вовсе не хотел связывать себя никакою системою, никакими обязательствами со второстепенными, ничтожными в его глазах державами. Англия, отрезанный ломоть относительно общей политической жизни континента, была еще более чужда какой-нибудь системы, которая не представляла ей непосредственных торговых выгод, которая предполагала обязательства, расходы для каких-то отдаленных целей, причем хорошего барыша нельзя было министерству расчесть по пальцам пред парламентом.
Мы видели, что Россия желала получить денежную помощь от Англии в шведских и польских делах. В первых, хотя с великим трудом, еще можно было от нее что-нибудь вытянуть, ибо деньги шли на противодействия враждебной ей Франции; но уже никак нельзя было от нее требовать, чтоб она истратила хотя фунт стерлингов по польским делам, к которым была совершенно равнодушна. Мы видели вследствие этого затруднительное положение русского министра в Лондоне графа Александра Ром. Воронцова. Невозможность уладить дело с настоящим министерством, естественно, сближала Воронцова с оппозициею. Это, разумеется, не нравилось настоящему министерству, и отсюда возникал вопрос об отозвании Воронцова, что было очень приятно Панину, не любившему Воронцовых.
5 января английский посланник граф Бекингам на конференции с вице-канцлером объявил, что его правительство никак не может дать России 500000 рублей субсидии на текущие польские дела. Настоящее положение его не позволяет ему этого сделать. Что касается отозвания графа Воронцова, то оно может быть приятно лондонскому двору, ибо он, Бекингам, имеет приказ внушить русскому министерству, чтоб оно не совсем верило несправедливым донесениям Воронцова о настоящем положении внутренних дел Англии, тем более что примечена связь Воронцова с вождями противной двору партии и можно без ошибки сказать, что эти вожди диктуют ему его депеши. Вице-канцлер отвечал, что Воронцов будет отозван в угодность лондонскому двору; а, впрочем, доношения этого министра всегда были сходны с настоящим положением дел в Англии; по ним не видно, чтоб он имел какую-нибудь связь с противною двору партиею в предосуждение настоящего министерства, и должно думать, что знакомство его с вождями оппозиции состояло в одних ничего не значащих учтивостях. После этого Бекингам начал просить о заключении договоров без проволочки времени и получил ответ, что с русской стороны охотно желают совершения такого полезного обеим державам дела, но трудно ожидать в нем успеха, когда английское министерство так неподатливо на удовлетворение русских требований, когда оно так равнодушно смотрит на все внешние дела европейского континента, которые могут принять очень вредный для английской короны оборот, ибо Франция строит свою политическую систему на крепком основании, умножая свои морские силы вместе с Испаниею, утверждая свои союзы с разными дворами, особенно с венским и сардинским. Панин в своем разговоре с Бекингамом дал ему понять, что договор между Россиею и Англиею не будет заключен, если Англия не согласится помочь России деньгами в польских и шведских делах; что русский двор уже выслал в Польшу два миллиона рублей и, несмотря на то, русские приверженцы требуют новой помощи, потому что Франция расточает там большие суммы.
Преемником Воронцову назначен был известный Гросс. Относительно его Бекингам в конференции 3 февраля выразил мнение, будто он сильно предан Франции и потому не может быть приятен в Англии. Вице-канцлер отвечал, что Гросс – человек изведанной верности и везде, где ни был, умел приобресть себе похвалу и одобрение двора своего; во время последней войны имел он действительно, как и все другие русские министры, более тесное согласие с французскими, чем с английскими, посланниками, но это происходило Не от личного его мнения, а от тогдашней системы. Бекингам, ничего не отвечая на это, опять стал жаловаться на медленность в заключении договоров, представляя, что двор его предпочитает дружбу России всякой другой и не принимает ничьих предложений, но должен будет принять их, если с русской стороны ничего не будет сделано. 12 февраля Бекингам опять жаловался на медленность в заключении договоров. Голицын отвечал, что эта медленность происходит оттого, что дело рассматривается особливою коммерческою комиссиею. 1 марта Бекингам объявил, что его двор считает заключение союзного и коммерческого договоров с Россиею делом неудавшимся и потому намерен отозвать его и приписывает неудачу дела преимущественно бывшему в Лондоне русскому министру графу Воронцову, тогда как торговый договор более полезен России, чем Англии, которая может обойтись без русских произведений, имея довольное число таких же в своих новых американских владениях. Вице-канцлер отвечал прежнее, что вина неуспеха в заключении договоров на стороне Англии, которая не только не приняла русских предложений, но и не представила ни малейшего средства к соглашению. В России вполне уверены в пользе торговли для обоих народов: доказательством служит то, что англичане продолжают пользоваться выгодами старого трактата, хотя срок его и кончился.
Эти требования Бекингама и ответы Голицына продолжали повторяться до самой осени. 4 октября Бекингам объявил вице-канцлеру о получении им от своего двора указа сообщить русскому министерству, что английский министр в Стокгольме, который отправлен в Швецию в угоду и по требованию русского двора, описывая настоящее состояние дел в Швеции, признает необходимым на первый случай издержать 40000 рублей; посредством этих денег он надеется положить хорошее основание системе русского и английского дворов в Швеции, до значительной степени уменьшить французское там влияние и на сейме определить форму шведского правления согласно с желаниями обоих дворов, русского и английского; но для приведения к желанному концу всего дела он считает нужным истратить не меньше 120000 рублей. Поэтому, продолжал Бекингам, английский двор надеется, что императрица охотно согласится принять половину этой суммы на себя. Вице-канцлер отвечал, что шведские дела могут побудить русский двор принять предложения английского; впрочем, эти дела не менее должны возбуждать внимание и Англии, которой следует заботиться как об исправлении формы правления в Швеции, так и об уничтожении господствующей там французской партии, об отнятии у Сената похищенной им королевской власти и установлении равновесия между королем и Сенатом, чтоб один без другого не могли объявлять войны, заключать договоры и союзы, налагать подати и проч. Кроме того, у Англии есть еще особенный интерес в уничтожении вредного намерения французского двора постановить с шведским союзный морской трактат, по которому Швеция обязывалась бы давать Франции в случае морской войны десять военных кораблей, а уничтожить это намерение иначе нельзя как субсидиями Швеции с английской стороны.
Гросс приехал в Лондон 16 февраля и 19-го имел разговор с лордом Сандвичем, заведовавшим иностранными делами по северному департаменту. Сандвич начал разговор о сильном желании короля, чтоб наконец союзный и коммерческий договоры между Россиею и Англиею приведены были к окончанию, и приезд Гросса подает ему некоторую надежду относительно успеха переговоров по известному искусству нового министра в делах. Гросс отвечал то же самое, что Панин и Голицын обыкновенно отвечали Бекингаму в Петербурге, именно что виною медленности неподатливость с английской стороны. Сандвич объяснял дело тем, что в русском проекте есть два пункта, которых Англия никак не может принять: один пункт о Польше, другой – о Турции. Англия не может обязаться помогать России в случае войны последней с Турциею по своим существенным торговым интересам; не может также обязаться субсидиями для польских дел, потому что казна истощена последнею войною, и таким обязательством нынешние министры возбудили бы против себя всенародный крик; а на все другие предложения императрицы в Англии охотно согласятся. К лорду Бекингаму отправлен указ, чтоб всячески старался окончить оба трактата – союзный и коммерческий; если же увидит совершенную невозможность успеть в этом, то ожидал бы отзывной грамоты. Гросс спросил: в случае отозвания Бекингама будет ли на его место отправлен кто-нибудь другой? Назначится министр второго ранга, отвечал Сандвич и прибавил, что по всем известиям он не сомневается, что в Польше все произойдет по желанию императрицы и что умеренное поведение Англии в делах польских удержит Францию от глубокого в них вмешательства. Но Панин заметил на донесении: «Уведомляя английский двор о производимых в Польше французско-венских возмущении и интриге, надлежит дать приметить, что английская в тех делах умеренность худо Францию удерживает, но паче может ободрять ее в севере инфлюенцию». Англия никак не хотела отказаться от своего умеренного поведения , и, когда Гросс спросил Сандвича, какого рода инструкцию получил английский резидент в Варшаве Ратон, Сандвич отвечал, что Ратон имеет указ поступать согласно с русскими министрами до некоторой степени и в разговорах отзываться, что его государю будет очень приятно при будущем избрании польского короля поступать во всем согласно с намерениями русской императрицы, если притом будет сохранена вольность, и вперед английский резидент должен поступать по этому наставлению. Указывая на разность последних слов, Гросс писал: «Из этого ваше императорское величество собою заключить можете, что отсюда никакого существительного вспомоществования в польских делах ожидать не надлежит».
В мае по поводу заключенного между Россиею и Пруссиею союзного договора Сандвич заметил Гроссу, что если бы Англию пригласили приступить к этому союзу, то она предпочла бы заключить с Россиею особый договор, ибо ее обязательства как морской державы другие, чем обязательства короля прусского. Донося об этом, Гросс писал, что не должно ли приписать слов Сандвича зависти к королю прусскому. Панин заметил на донесении: «И начинающемуся беспокойству, что по сю пору никакой решительно системы не имеют, а покориться еще не хотят; но когда вернее уведомятся о новой негоциации между бурбонских домов, то, конечно, с нами не будут столько торговаться».
Донесение Гросса от 1 июня было очень приятно Панину. Гросс писал о своем разговоре с Сандвичем, происходившем накануне, 31 мая. Гросс спросил, получено ли английским министерством известие об окончании переговоров между Франциею, Австриею и Испаниею, вследствие чего Испания приступает к Версальскому договору, а венский двор – к договору фамильному между государями бурбонского дома. Сандвич отвечал, что имеет причину думать о заключении такого договора, и прибавил, что это обстоятельство, естественно, должно еще сильнее побудить английского короля желать заключения союзного договора с Россиею; что с английской стороны готовы принять все приличные обязательства, только бы можно было их оправдать перед нациею как взаимно полезные. Если бы потребовалось, чтоб и прусский король был включен в договор, то с английской стороны препятствия этому не будет, потому что противная двору партия рассевает слухи, будто настоящее министерство недовольно заключением союза между Россиею и Пруссиею, тогда как он, лорд Сандвич, смотрит на этот союз как на хорошее основание обязательствам, принимаемым по желанию английского министерства. «Однако, – прибавил Сандвич, – мне было бы очень прискорбно, если б с русской стороны было возобновлено прежнее предложение о принятии участия в польских делах с уплатою субсидий, потому что министры королевские никак не могли бы оправдать эту меру пред парламентом». «Очень могли бы, – заметил Гросс, – если б представили, как вредно было бы для Англии влияние Франции в Польше, когда б она его приобрела там, осилив Россию». «Я хорошо знаю, – отвечал Сандвич, – что такое представление не имело бы желанного действия; но я с вами согласен в том, что в обязательствах между Россиею и Англиею надобно соблюдать совершенное равенство и что в таких случаях союза, где помощь войском или флотом будет невозможна, надобно платить деньги». Панин заметил на донесении Гросса: «Разумным производством и твердостию, конечно, довести можно, что Англия заплатит часть убытков по польским делам: ваше императорское величество сами всевысочайше усмотреть соизволите, что медленность с нашей стороны в сей негоциации не произвела ничего дурного, а вперед можно надеяться много лучшего. И может быть, тут то же будет, что ваше величество видеть изволили с королем прусским, когда он сам того домогался, в чем состоял главный предмет нашей политики».
С этих пор разговоры между Гроссом и английскими министрами стали отличаться тем же однообразием, каким отличались разговоры между Бекингамом, Паниным и князем Голицыным в Петербурге. Английские министры спрашивали, нет ли надежды на заключение союза без двух пунктов – турецкого и польского; Гросс отвечал, что в этих двух пунктах вся сущность. Когда в июле английские министры начали говорить, что если нельзя заключить союза с Россиею, то Англия принуждена будет стараться подкрепить себя другими союзами, то Панин написал: «Не найдут нигде такова».
В сентябре английское министерство объявило Гроссу, что хотя король постоянно намерен избегать тягостных военных обязательств с державами твердой земли, однако в рассуждении того, что Франция старается впредь получить от Швеции помощь военными кораблями, английский народ находит непосредственный свой интерес в уничтожении подобных французских видов и не пожалеет денег на этот важный предмет; но так как Россия еще более в этом заинтересована, да и первое предложение шло с ее стороны, то справедливость требует, чтоб половину иждивения она приняла на себя. Панин заметил: «C'est се qu'on dit negocier en vrai marchand (это значит вести дело по-торгашески)».
Сандвич сообщил Гроссу под величайшим секретом две добытые английским правительством французские бумаги. Первая была письмо французского посланника в Стокгольме Бретейля к герцогу Пралэну от 31 августа 1764 года. Французский поверенный в делах в Петербурге Беранже писал, что Екатерина намерена в будущем году устроить лагерь в Финляндии. По мнению Бретейля, это делалось с целию произвести давление на шведский сейм. «Если, – писал Бретейль, – ничто не помешает исполнению этого намерения русской государыни, то нельзя не предвидеть пагубных затруднений, которые последуют отсюда для Швеции. Я уверен, что найду должную твердость между шведскими патриотами, но боюсь, что те получат плохую помощь при печальном состоянии всех частей управления. Все известия, приходящие из России, согласно говорят, что неудовольствие и дух возмущения там со дня на день увеличивается. Правда, эти известия прибавляют, что Екатерина удвоивает заботы и предосторожности, но меры тиранства скорее служат признаком волнения, чем средством для его укрощения, и в рабской стране важное предприятие не бывает следствием обдуманного соглашения; недоверие и близорукость каждого препятствуют этому. Я знаю это по опыту; я был свидетелем быстроты, с какою головы и души без чувства и мужества воспламенялись и стремились к самым опасным крайностям. Минута сводит несколько людей, которых надежда на лучшую будущность заставляет принимать немедленное решение, а деньги быстро производят то же самое действие на солдат. Из писем Беранже я вижу, что лица, заслуживающие внимания и мне известные, делали ему предложения и уверяли в своей преданности, если будут обеспечены покровительством в случае несчастия и получат теперь денежную помощь. Я не сомневаюсь, что он вам донес об этом обстоятельстве, и я ручаюсь, что он принял предложение с мудростию и, однако, так, что головы адресовавшихся к нему людей остались разгоряченными. Я уверен, что он очень способен вести их далее с благоразумием, если вы это ему поручите и если королю угодно будет пожертвовать четырьмя– или пятьюстами тысяч ливров, чтоб попытаться низвергнуть Екатерину со всеми взгроможденными сю планами. Это малый, исполненный усердия и самой строгой честности. Мне кажется также, что искусный поверенный в делах будет способнее к такому делу, чем министр или посланник; а притом, чем бы ни кончилось это предприятие, ненависть, питаемая к Франции гордою императрицею, так велика, что уже больше быть не может».
Беранже дал знать о том же самом Пралэну и получил от него такой ответ: «Размышления, которые вы делаете по поводу содержания манифеста о смерти принца Ивана, показались нам очень справедливыми; я прибавлю только, что русская государыня сделала бы лучше, если бы это событие было пройдено молчанием в публичных бумагах или было бы возвещено потише. Вы хорошо поступаете, действуя с крайнею осторожностию; однако вы должны употребить всю свою деятельность, чтоб проникнуть чувства и намерения нации; но вы должны ободрять людей, поверяющих вам свои тайны единственно для того, чтоб извещать нас о ходе дела, никак не рискуя подавать советы в таком деликатном деле. Неудивительно, что от времени до времени проходят облака между королем прусским и русскою императрицею; оба они крайне честолюбивы, оба имеют политические виды и интересы, часто сталкивающиеся; их союз неестествен сам по себе; он произошел вследствие случайных обстоятельств, а не вследствие хорошо обдуманной с той и другой стороны системы. Может даже случиться, что польские дела заставят их поссориться. Я приму господина Одара, когда он ко мне явится. Но то, каким образом он оставил Россию, и ничтожная польза, какую он извлек из важных обстоятельств, в которых находился, не говорят нисколько в его пользу, и я не думаю, чтоб его величество был расположен дать ему титул, на который можно смотреть как на награду за услугу, тогда как этой услуги никогда не было оказано, на которую только надеялись и которая не доставила нам ничего очень полезного».
Таким образом Англия поквиталась с Россиею. Россия постоянно стращала ее усилением Франции; Англия передает известия, что французское правительство покровительствует враждебным движениям против императрицы в самой России. Но это не имело влияния на дальнейшие переговоры России с Англиею.
В конце декабря Гросс передал Сандвичу проект торгового договора между Россиею и Англиею, жалуясь на графа Бекингама, что он не захотел принять этого проекта. Сандвич отвечал, что удовлетворение императорскому двору уже сделано отозванием Бекингама (об искусстве которого он. Сандвич, сам невысокого мнения), причем надеется, что преемник Бекингама Макартней будет иметь больший успех. В разговоре о торговом договоре Сандвич спросил, получил ли Гросс какое-нибудь наставление относительно оборонительного союза. Гросс отвечал вопросом: действительно ли английский двор непременно намерен тесно соединиться с Россиею? «Ничего так горячо не желаем и ничего не признаем согласнее с своими естественными интересами», – ответил Сандвич. «Всего удивительнее, – сказал на это Гросс, – что граф Бекингам всегда настаивал на простом возобновлении старого союзного договора, который был заключен для подкрепления австрийских интересов, несмотря на то что теперь европейские отношения совершенно изменились. Императрица надеется, что при возобновлении переговоров о союзе английский двор захочет независимо и прямо быть ее союзником и этим способом утвердить равновесие европейских сил в своих руках. Вот почему в проект нового оборонительного договора, переданного вам в прошлом году, были включены два секретных параграфа о Польше и Швеции, имеющие связь с тою северною системою, по которой северные державы соединяются между собою союзами и составляют твердое равновесие в Европе мимо бурбонского и австрийского домов». Выслушав это с приметным удовольствием, Сандвич спросил: «В новой системе упоминается ли король прусский, потому что мы боимся Обширных замыслов этого государя?» «Мне не предписано ничего особенного в рассуждении короля прусского», – сказал Гросс. «Конечно, – заметил на это Сандвич, – это предложение будет охотно принято его великобританским величеством; но каким образом будут устранены затруднения, оказавшиеся в прежнем проекте договора?» И на слова Гросса, что Россия желает получить от Англии 500000 рублей как часть вознаграждения за издержки, употребленные Россиею при избрании нового польского короля, Сандвич подтвердил, что не смеет и предложить этого королевскому совету, зная взгляды его членов и скудость казны. Впрочем, Сандвичу понравилось предложение, что в случае войны с Турциею Россия получает от Англии 500000 рублей и платит такую же сумму Англии в случае ее войны с Испаниею.
Но чрез несколько дней Сандвич объявил Гроссу, что секретный параграф о даче 500000 рублей в случае турецкой войны не может быть принят, потому что министерство должно сообщить его парламенту, который выдает деньги; а в таком случае Порта и Франция об этом узнают и английская торговля в Леванте потерпит, войны же испанской в Англии мало боятся. (Тут Панин заметил: «Купеческая отговорка! Нужды нет никакой открывать, покамест казус не настоит, а когда настоять будет, тогда за 500000 рублей нация не взбунтует против правительства. Все сие состоит только в том, чтоб как лавочникам торговаться, покамест время есть, и сколько возможно выторговать».) Гораздо лучше было бы, продолжал Сандвич, если б прежний трактат просто возобновился с внесением общего параграфа о защите благополучно последовавшего выбора короля польского и сохранения правительственной формы и вольностей Польской республики. (Панин заметил: «Еще лавочная торговля. Когда по польским делам нам была в них (т.е. англичанах) вправду нужда, тогда они от них отговаривались и, чтоб их от себя отклонить, представляли свою готовность к шведским делам, а теперь говорят навыворот».) Гросс отвечал с удивлением: «Я не могу льстить себя надеждою, что у нас согласятся на простое возобновление прежнего договора, потому что обстоятельства совершенно изменились: при подписании прежнего договора венский двор был главный союзник России, Англия принимала оборонительные обязательства для подкрепления венского союза; а теперь императрица желает соединиться с Англиею непосредственно, почему и следует, чтоб Англия помогала России некоторою суммою денег против Порты, как Мария-Терезия обязывалась прежде помогать войском; представленный с нашей стороны еквивалент поданием помощи против Испании очень достаточен, ибо вероятно, что в течение осьми лет турки, с которыми у нас никакого спору нет, ничего не предпримут против России, а, напротив, более чем вероятно, что в это время и по личному характеру короля испанского, и по различию интересов, и по фамильному договору с Франциею между Испаниею и Англиею откроется война. Если бы, несмотря на все это, в Англии решили исключить взаимно войну турецкую и войну испанскую, то я должен настоять на уплату 500000 рублей за издержки, употребленные по первому моему предложению». На это Сандвич возразил, что если совет королевский не мог обещать участия в польских издержках прежде избрания короля, то после счастливого решения этого дела еще меньше на это согласится. В заключение Сандвич заметил, что осьмилетний срок договора им не нравится и что нации и парламенту странно показалось бы, если б в настоящем союзном договоре России предоставлены были большие выгоды, чем в прежнем. (Панин заметил на это: «Не меньше б и Российской империи дико показалось, если б при таком об общей пользе и славе попечительном царствовании российской двор не с лучшими и справедливейшими для нее выгодами свои союзы заключил. Заключительно сказать, англичане считают военный случай еще отдаленным и потому настоящее время в свою пользу хотят выиграть и нас своими затруднениями к тому привесть, к чему равновесие взаимства склонить не может. Напротив чего, надежнейший в нашу сторону успех должен зависеть от нашей собственной твердости и терпения, средством чего дождаться можно ближайшей англичанам нужды в нашем союзе».)
Краткость срока для нового союзного договора не нравилась в Англии; но Панин в письме своем к Гроссу от 12 ноября изъясняет причины такого решения: «Известное дело, что генеральные дела не могут долго оставаться в одинаком положении и что случающиеся в той или другой части Европы хотя частые, но тем не меньше нечаянные и чрезвычайные происшествия причиняют, однако, в интересах, в правилах и мерах держав великие и наперед отнюдь не постигаемые перемены, кои обыкновенно всю их систему, буде не совершенно уничтожают, по крайней мере много развращают. Сея ради причины, полагая восемь лет таким сроком, в который по течению дел обыкновенно нечто переменное случается, изволила ее императорское величество не в рассуждении одного английского двора, но в рассуждении всех своих настоящих и будущих союзников положить за основание, чтоб не определять своих обязательств больше, как на восемь лет, не для того, чтоб тем избегать подаяния помочи, полагая, будто в толь короткое время не будет настоять случай союза, но для того, чтоб как при действительном оного настоянии тем охотнее и усерднее оную подавать, так и в случае перемены обстоятельств иметь всю свободу соображать и распространять по оным обязательства свои и таким образом сугубо быть союзникам своим полезною».
Относительно приведенных известий об интригах Бретейля и Беранже Панин так успокаивал Гросса: «Для вашего собственного успокоения я за нужное нахожу вам сообщить, что совершенно мы здесь ни малейшей причины не имеем опасаться прямого действа намерений и дел наших злодеев, но паче надеяться должны, что они своим явным беззаконием сами себя наконец посрамят. Беранже с малым умишком самый фанатик в политических тонкостях, а Бретейль острый, но дерзкий в делах петиметр. Теперь он в Швеции в рассуждении чрезвычайного сейма и тамошнего расстроенного положения видит отворенный себе карьер дел подверженным противным переменам, наипаче от нашего в них участия с освобожденными руками от стороны польских конъюнктур и, по-видимому, яко запрометчивый молодой человек, вздумал к тому времени завести у нас какие ни есть внутренние движения, чем бы мы могли быть упражнены; а к возбуждению на то своего двора пользуется как персональною к себе преданностию того Беранже, так и его натуральною слепою тонкостию, приводя его к увеличиванию его собственных фантомов».
Обширность России заставляла правительство в одно время вести переговоры о союзе с крайнею державою на западе Европы и принимать меры предосторожности относительно китайских границ. Генерал-поручик Шпрингер донес в июле из Усть-Каменогорской крепости, что по разведыванию оказывается на границах множество китайского войска. Вследствие этого собралась конференция из Вильбоа, Панина, графа Захара Чернышева, графа Эрнста Миниха, кн. Александра Голицына, Веймарна и Олсуфьева и донесла императрице, что она решила: 1) предписать виды и к исполнению их общие меры сибирским губернаторам и другим управителям для приведения в лучшее состояние этой отдаленной области; 2) постановить правила о китайской торговле и таможенных делах; 3) сделать новые распоряжения относительно защиты границ, чтоб не подвергались они внезапным нападениям; 4) ближайшими и пристойнейшими средствами начать с китайцами переговоры для прекращения настоящих замешательств хотя до того времени, пока здешние границы будут достаточно укреплены, чтоб здешние требования можно было подкреплять с оружием в руках. Конференция полагала: 1) что необходимо разделить Сибирь на две губернии и учредить губернаторов в двух местах, Тобольске и Иркутске, и притом переменить правила относительно распространения там звериной ловли, правила, благодаря которым в этой обширной и очень малолюдной стране значительная часть народа остается без всякого попечения, будучи рассыпана в отдаленных северных пределах, провождая жизнь почти скотскую и наконец совершенно погибая. Надобно предписать тамошним губернаторам и другим начальникам, чтоб они выгодами и ласками привлекали людей к выходу из тех холодных пределов и, сводя их ближе друг к другу, заводили селения к южной стороне; этими поселениями и границы будут приведены в лучшее состояние, и польза, получаемая от земледелия и других сельских промыслов, несравненно превзойдет ту, которая теперь получается от одной звериной ловли в бесплодных северных землях; 2) китайцы перевели торговлю из Кяхты в Ургу с целию заставить русских купцов ездить в свой китайский город, и хотя теперь китайцы немножко сбавили своей спеси и начинают опять ездить в Кяхту с товарами, однако конференция рассуждала, нельзя ли в пользу русских купцов учредить особую вольную компанию, ибо в таком случае не будет перебивки в ценах и компания будет для собственной пользы стараться, чтоб не было тайного провозу товаров, почему в сборе пошлин не будет происходить ущерба. Но пока учредится компания, конференция полагает нужным: 1) позволить по-прежнему всякому русскому купцу иметь участие в этом торге; 2) но, вместо того чтоб ехать прямо в Кяхту, купцы должны останавливаться в Селенгинске и здесь выбирать маклеров, которые и разменивают в Кяхте товары по установленной цене, чтоб купцы перестали друг другу делать подрыв. Для безопасности Сибири содержать в ней 11 полков; отправить в Омск и Селенгинск полевую артиллерию; увеличить генералитет еще одним генерал-майором, так чтобы генерал-поручик жил в Омске или где обстоятельства потребуют, один генерал-майор – в Петропавловской крепости, другой – в Усть-Каменогорске, третий – в Бийске, четвертый – в Селенгинске. Держать полки в соединении, готовыми к отпору неприятеля, а не по форпостам.
Глава вторая
Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1765 год
Винные откупа. – Содержание войска. – Недовольство императрицы флотом и работами в Балтийском порте. – Ревельская гавань. – Путешествие Екатерины по Ладожскому каналу. – Канал от Сяси до Волхова. – Деятельность Сената по вопросу о малолетных преступниках и укрывательстве злодеев. – Твердость императрицы в ограничении пыток. – Записка Екатерины по поводу дела Волынского. – Новости в Сенате. – Беспорядки в коллегиях. – Печальное известие о русской торговле в Константинополе. – Введение картофеля. – Деятельность новгородского губернатора Сиверса. – Комиссия о государственном межевании. – Вопрос об устройстве казарм. – События в областном управлении. – Медленность ревизии. – Комиссия о заводских крестьянах. – Крепостные люди у купцов. – Почта. – Отмена сборов за поставление духовных лиц. – Определение платы за требы. – Раскол. – Дело пыскорского архимандрита Иуста. – Столкновение воронежского епископа с донскими козаками. – Деятельность Румянцева в Малороссии. – Столкновение иностранных колонистов с прежними русскими поселенцами. – Самозванцы. – Общий взгляд на отношения России к Польше. – Диссидентское дело и столкновение Польши с Пруссиею. – Сношения России с другими европейскими государствами в 1765 году.
Год начался решением важного финансового вопроса. Мы видели, что относительно продажи соли и вина правительство находилось в большом затруднении: сильно хотелось облегчить народ уменьшением цены на соль, но нельзя было удешевить соль, как бы желалось, потому что нельзя было отыскать новых источников дохода для покрытия необходимых государственных издержек. Легче соглашались на увеличение цены вина; но тут усиливалось корчемство, которое требовало для своего искоренения много хлопот и, что хуже всего, увеличивало страшно число уголовных дел; в некоторых местах винная продажа предоставлена была магистратам и ратушам, причем происходили «превеликие подлоги и утайки, вражды, доносительства, тяжбы и пресечение купеческого промысла».
В большей части мест винная продажа состояла на откупе; но откупщик должен был вперед заплатить в казну более 2 рублей за ведро при покупке у нее вина и после, при продаже вина в народ, должен был получить себе около 40 копеек для уплаты известной откупной суммы; для правительства было ясно, что откупщики продавали тайком подвозное вино вместо казенного. 26 января императрица приехала в Сенат в начале 9-го часа и, возвращая поднесенный ей доклад комиссии о соли и вине, объявила свою волю, чтоб Сенат немедленно приступил к рассуждению о средствах, как согласить пользу государственную с пользою всего общества, нимало не упуская при этом из виду, чтоб собираемый теперь с вина доход если не умножить, то по крайней мере никак не умалить. После этого прочтен был доклад с собственными примечаниями императрицы, которая объявила, что эти примечания не должны быть приняты за указ, ибо приложены только для объяснения, кроме отмены в наказаниях за корчемство. В 12-м часу Екатерина удалилась; сенаторы стали рассуждать, как бы точнее исполнить ее повеление, и пришли к следующим решениям: 1) Признать полезным и необходимым отдачу винной продажи на откуп. 2) Чтобы притом избежать всех излишних расчетов и удостовериться, что откупная сумма сполна будет доходить в казну, положить основанием откупной сумме расход вина по трехлетней сложности за последние три года. 3) Для большей надежности казне на случай неисправности платежа откупной суммы вино иметь казенное и отдавать его откупщикам по их требованию за наличные деньги по расчету всей откупной суммы. 4) Откупщики должны продавать вино ведрами и бочками по 2 р. 64 коп. ведро, а продажа кружками и чарками оставляется на их волю. Манифест об откупах издан 1 августа; они должны были начаться с 1767 года; доход от продажи вина показан более чем на четыре миллиона рублей. На другой день после публикования этого манифеста князь Вяземский предъявил Сенату именной указ, в котором говорилось, что императрица, будучи обременена другими государственными делами, дозволяет Сенату решить большинством голосов и публиковать корчемный устав. Сенат при этом решении не мог не принять к сведению решения Екатерины по одному корчемному делу: смоленская шляхтянка полковница Ирина Потемкина (вдова Владимира Денисовича) попалась в корчемстве и подала императрице просьбу, в которой повинилась, что велела служанке из своего дома продавать вино и такой проступок учинила как женщина по незнанию строгости законов. Императрица простила ее и приказала возвратить отписанное у нее имение, если только дело действительно происходило так, как показано в челобитной. Третий год в Сенате тянулось неприятное дело о вознаграждении виноторговцам, у которых было разграблено вино 28 июня 1762 года. В 1763 году Сенат признал справедливым вознаградить за расхищенное из кабаков простое вино зачетом откупщикам в откупную сумму; на этом основании теперь он решил подать императрице доклад, что справедливость требует зачесть продавцам виноградного вина их убыток в пошлинный сбор, и убыток этот простирался на 24331 рубль.
Количество подушных денег определено было в 5212685 рублей. Вся эта сумма по распоряжению еще Петра Великого шла на содержание войска; но, кроме того, на это содержание получались деньги из винных, соляных, таможенных и других сборов, так что вся сумма, назначенная на содержание войска, простиралась до 8116601 рубля. Флотом императрица была очень недовольна, что видно из письма ее к Н. И. Панину от 8 июня, после смотра: «У нас в излишестве кораблей и людей, но у нас нет ни флота, ни моряков. В ту минуту, когда я подняла штандарт и корабли стали проходить и салютовать, два из них погибли было по оплошности их капитанов, из которых один попал кормою в оснастку другого, и это во сте, быть может, туазах от моей яхты; добрый час они возились, чтоб высвободить свои борта, что наконец им и удалось, к великому ущербу их мачт и оснастки. Потом адмиралу хотелось, чтоб они выровнялись в линию; но ни один корабль не мог этого исполнить, хотя погода была превосходная. Наконец, в 5 часов после обеда приблизились к берегу для бомбардирования так называемого города. Впереди поместили одну бомбардирскую лодку и когда хотели поставить около нее другую, то с трудом успели такую найти, потому что никто не держался в линию. До 9 часов вечера стреляли бомбами и ядрами, которые не попадали в цель. Сам адмирал был чрезвычайно огорчен таким ничтожеством и признается, что все выставленное на смотр было из рук вон плохо. Надобно сознаться, что корабли походили на флот, выходящий каждый год из Голландии для ловли сельдей, а не на военный».
Мы видели, что Екатерина была также недовольна работами в Балтийском порте; а между тем Сенат докладывал, что надобен новый налог для продолжения работ по его укреплению. Екатерина написала собственноручно: «Усмотрела я из сенатского доклада о Балтийском порте, что без нового налога оной работы никак продолжить неможно; мои же намерения со дня восшествия моего никогда не склонялись к отягощению подданных, но единственно к облегчению и благополучию оных; всякий же без крайней надобности налог есть отягощение; того для необходимая надобность ныне состоит, дабы единожды сделать твердые положения порту Балтийскому, из чего родится первый вопрос, нужной ли сей порт для государства, и потом, как и сколько в нем иждивения для способности и безопасности употребить; причем еще и то вспомнить должно, что полезность преимущество имела пред пышностью». Императрица велела фельдмаршалу Миниху, генералам Панину (Петру Ив.), Муравьеву, Чернышеву и адмиралу Мордвинову иметь конференцию по этому предмету, представить свое мнение вместе с планом работ, «дабы единожды все сумнительства о сей материи решены были». Конференция пришла к тому, что надобно устроить при Ревеле морскую военную каменную гавань для помещения 25 военных кораблей и фрегатов, на что нужно денег 4 миллиона рублей, а работников 3000 человек; надобно употребить все усилия для устройства Ревельской гавани, постройки при Балтийском порте остановить, а сделанный уже там мол обратить в убежище для судов от штормов; для окончания здешних работ довольно 2000 каторжных и 500 гарнизонных солдат с небольшим казенным расходом. Ревельская гавань может быть отстроена в 12 лет, если будет ежегодно выдаваться по 400000 рублей. Екатерина написала на докладе конференции: «Сенат имеет означить, откуда ежегодно сию сумму брать без отягощения народного», а на плане написала: «С Богом, быть по сему». Сенат представил, что на строение при Ревеле каменной гавани «яко на благоугодное и преполезное для общества всех верноподданных дело» он полагает употреблять по 200000 рублей из суммы коллегии Экономии, оставшейся за употреблением в определенные расходы, а другие 200000 рублей отчислять из прежде наложенных на вино сборов.
В августе императрица была в Ладоге, проехалась по каналу. «Канал прекрасен, но заброшен; путешествие по нем очень удобно – во всю дорогу ни малейшего потрясения», – писала она Панину. Екатерина осмотрела начало работ по новому каналу от Сяси до Волхова. На этот канал отпущено было 70000 рублей. Предполагался канал из Переяславского озера в Волгу; но Сенат подал доклад, что надобно повременить проведением этого канала до более точных сведений. Провести его легко, все будет стоить не более 8000 рублей; но переяславские купцы объявили, что им на судах отправлять нечего да около Переяславля годного для постройки судов леса мало и волжские пристани не далее 80 верст. 70000 рублей на канал из Сяси в Волхов назначены были из процентных денег Коммерческого банка; для усиления деятельности обоих государственных банков позволено было всякому вносить в них деньги для приращения процентами, только не менее ста рублей.
В марте и апреле месяцах было несколько чрезвычайных заседаний Сената вместе с коллегиями и в присутствии императрицы. Первое заседание, 10 марта, происходило по делу о малолетных преступниках за неимением точного закона о наказаниях им. Мы видели, что в начале царствования Елисаветы было по тому же предмету чрезвычайное заседание Сената и было постановлено считать по уголовным делам совершеннолетие в 17 лет. Отсутствие точного закона, вероятно, произошло вследствие возражения Синода, что совершеннолетие можно считать и с 12 лет, потому что и в брак позволено вступать ранее 17 лет, и к присяге велено приводить с 12 лет, и вообще «человеку меньше 17 лет довольный смысл иметь можно». Императрица пришла в заседание, выслушала экстракт из дела и подачу голосов и удалилась. После ее ухода продолжалось рассуждение и постановили: по уголовным делам совершенный возраст считать 17 лет; ранее этого возраста пыток не производить, а по исследовании представлять Сенату, которые преступники будут менее 17 лет и смертной казни не заслуживают, а только телесное наказание, тех без представления в Сенат наказывать от 15 до 17 лет плетьми, от 10 до 15 – розгами, десяти же лет и меньше отдавать для наказания отцам, матерям или помещикам. Императрица утвердила это постановление.
Через неделю, 17 марта, другое такое же заседание Сената в присутствии императрицы: слушано было дело о вытях за пристань и укрывательство воров и разбойников, каким образом взыскивать эти выти, со всех ли жителей или только с одних пристанодержателей. Сенат постановил: взыскивать с одних пристанодержателей, ибо истцы ввиду больших вытей большею частию стараются увеличивать свои иски; а чтоб всех жителей опоручить круговою порукою в искоренении злодеев, чтоб не было с их стороны слабого смотрения и даже понаровки, то взыскивать с них штраф по 10 копеек с каждой ревизской души, а с десятских, сотских, прикащиков и старост – с каждого по 5 рублей и штрафные деньги отдавать истцам в иск, а за удовлетворением истцов остальные деньги могут быть употреблены на бедных. В конце апреля в присутствии Екатерины читался в Сенате доклад 2-го департамента и письмо на имя императрицы находящегося в тарском магистрате под караулом купца Зинкова о притеснениях и взятках с него. Екатерина велела сибирскому губернатору исследовать дело и с виновными поступить по законам, только не ставить в вину Зинкову письмо его на высочайшее имя.
Борьба против пытки продолжалась. Мы видели, что в 1763 году запрещено было производить пытки в приписных городах, велено отсылать преступников в провинциальные и губернские канцелярии и тут поступать с крайнею осторожностию. Но в 1765 году Иркутская канцелярия прислала в Сенат доношение, что приписные к ней города находятся от Иркутска в расстоянии от 400 до 3000 верст, и если из них посылать для розыску преступников в Иркутск, то они едва в год могут туда дойти, и на пропитание их с караулом на таком пути по безлюдным местам нужна значительная сумма, которой взять негде. Сенат согласился с этим доношением и просил у императрицы указа. Екатерина написала: «Из сих мест колодников в губернии не возить, а стараться дела окончать без пыток в указанный срок». Эта твердость в данном случае была тем благодетельнее, что в таких отдаленных местах начальствующие лица и так позволяли себе страшные злоупотребления. К этому же году относится собственноручная записка Екатерины по поводу дела Волынского: «Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю читать сие Волынского дело от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера в производстве дел. Императрица Анна своему кабинетному министру Артемию Волынскому приказывала сочинить проект о поправлении внутренних государственных дел, который он и сочинил, и ей подал. Осталось ей полезное употребить, неполезное оставить из его представления. Но напротив того, его злодеи и кому его проект не понравился из того сочинения вытянули за волосы, так сказать, и взвели на Волынского изменнический умысл, и будто он себе присвоивать хотел власть государя, что отнюдь на деле не доказано. Еще из сего дела видно, сколь мало положиться можно на пыточные речи, ибо до пыток все сии несчастные утверждали невинность Волынского, а при пытке говорили все, что злодеи их хотели. Странно, как роду человеческому пришло на ум лучше утвердительнее верить речи в горячке бывшего человека, нежели с холодною кровию; всякий пытанный в горячке и сам уже не знает, что говорит. Итак, отдаю на рассуждение всякому имеющему чуть разум, можно ли верить пыточным речам и на то с доброю совестию полагаться? Волынский был горд и дерзостен в своих поступках, однако не изменил; но, напротив того, добрый и усердный патриот и ревнителен к полезным поправлениям своего отечества и так смертную казнь терпел, быв невинен, и хотя б он и заподлинно произносил те слова в нарекание особы императрицы Анны, о которых в деле упомянуто, то б она, быв государыня целомудрая, имела случай показать, сколь должно уничтожить подобные малости, которые у ней не отнимали ни на вершка величества и не убавили ни в чем ее персональные качества. Всякий государь имеет неисчисленные кроткие способы к удержанию в почтении своих подданных; если б Волынский при мне был и я б усмотрела его способность в делах государственных и некоторое непочтение ко мне, я бы старалась всякими для него неогорчительными способами его привести на путь истинный. А если б я увидела, что он не способен к делам, я б ему сказала или дала разуметь, не огорчая же его: будь счастлив и доволен, а мне ты не надобен! Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены, – изволь мериться на сей аршин; а если кто из вас, мои дражайшие потомки, сии наставления прочтет с уничтожением, так ему более в свете, и особливо в российском, счастья желать, нежели пророчествовать можно».
В Сенате особенною пылкостию отличался по-прежнему князь Яков Шаховской, несмотря на преклонные годы. Во время комиссии над Хорватом последний в своих доношениях в эту комиссию позволил себе выходки против Шаховского; теперь, когда Хорват был уже осужден вместо смерти на лишение всех чинов, Шаховской потребовал, чтоб Хорват дал ему удовлетворение за нанесенную обиду. На докладе Сената об этом Екатерина написала собственноручно: «Может ли для общества мертвый человек сатисфакцию дать? Если сей вопрос решен будет, то резолюцию дам».
Из молодых сенаторов особенною ретивостию отличался Петр Иванович Панин, что, как видно, не очень нравилось его товарищам. Однажды он стал читать свое мнение о вотчинных делах, кого и при каких случаях надобно почитать настоящими вотчинниками. По выслушании мнения девять человек сенаторов объявили, что они об этом мнении ничего сказать не могут, потому что мнение подано ни по какому делу, на будущий случай и потому еще, что предлагать обо всем с объяснением законов принадлежит генерал-прокурору. Графы Фермор и Бутурлин объявили, что мнение очень пространно и потому, не получа копии, войти в рассуждение нельзя. Олсуфьев объявил, что подаст свое мнение. Этим дело и кончилось.
Мы видели, что императрица позволила Сенату провести корчемный устав решением большинства голосов; в конце года такое же позволение дано было относительно частного тяжебного дела. В описываемом году Сенат в первый раз получил вакацию от 15 до 30 июня; но для входящих дел, которые бы требовали немедленного решения, должно было оставлять для присутствия по одному сенатору из каждого департамента с их согласия.
Беспорядки в новой коллегии Экономии подали повод Сенату принять такое решение: приказали во все присутственные места послать указы следующего содержания: по случаю собственного ее императорского величества рассмотрения о происшедшем в некотором присутственном месте непорядке, из последовавшего за собственноручным подписанием тому месту с материнским от ее величества исправлением высочайшего указа Сенат, приняв все в том указе к исправлению оного места изображенное за общее и всем прочим местам наставление, для того, стараясь о исполнении оного, предписывает нижеследующие пункты, содержащие в себе высочайшую волю и повеление: 1) Дабы вместо возложенных на присутственные места трудов не поставляли они прямой своей должности в приказных только обрядах и не обращали б упражнений своих в единственные споры и дела не приходили бы чрез то в совершенный упадок. 2) Не выступать из пределов своего звания, не наносить одному против другого раздражений и партикулярных неудовольствий, не заходить друг против друга в недельные письменные голоса, а потом и в персональные протесты. Довольствуются только по канцелярскому порядку репортами, что указы посланы; но никто о том не печется и не взыскивает, чтоб оные самим делом исполнены были. 3) Лихоимственные дела не неважными, а разрушающими правосудие и повреждающими государственное положение почитать. 4) Членам не избегать от заседаний отговорками ни старостию лет, ни болезненными припадками и тем не терять времени чрез развоз канцелярскими служителями дел для подписки по домам, ибо не может быть там общего рассуждения, где за таковыми членов извинениями нет частого общего собрания. 5) Не причинять делам остановки неимением полных собраний. 6) Прокурорам помнить свою инструкцию. 7) Чтоб, досадуя на персону, никто не мстил пренебрежением в делах должности своей, но старались бы порученные дела почитать за предмет чести и обязательства своего к ее императорскому величеству и отечеству, следовательно, и труды свои нести так, чтобы архивы наполнять документами прямых дел, а не пустыми бумагами
Мы видели, что знаменитый Волков, ставши президентом Мануфактур-коллегии, жаловался, что эта коллегия без его ведома позволила кн. Долгорукову завести хрустальную фабрику; коллегия оправдывалась тем, что дело еще не приведено к окончанию; несмотря на то, Сенат предписал коллегии без согласия президента никому не давать позволения заводить фабрики.
Что в Европе была Польша, то в Азии была Кабарда, слабая страна, находившаяся между двумя сильными влияниями – русским и турецко-крымским. Хан, стремясь привести Кабарду в свою зависимость, с одной стороны, заподозривал пред ее владельцами намерения России, ставя на вид, что охраняет их от грозящей им беды; а с другой – жаловался на них русскому правительству и требовал удовлетворения, чтоб раздражить их еще более против России. И относительно польских дел хан вел себя враждебно, пересылая в Константинополь неприязненные России внушения, а перед консулом толковал о своей силе, о средствах вредить или быть полезным России, которая поэтому должна была его уважать. По этому поводу Никифоров получал повеления из Иностранной коллегии осаживать хана. Хан потребовал себе в подарок кречета; Никифоров получил приказание внушить, что императрице известно, что он, хан, вместо старания укреплять дружбу между Россиею и Турциею всячески, напротив того, хлопочет о том, как бы повредить ей: сам верит всем клеветам на Россию и желает, чтоб и Порта им верила. Этими поступками сам себя лишает большой награды, а потому не прежде может надеяться получить от России какие-нибудь благодеяния, как после совершенной перемены своего поведения.
Первый выбор консула в Крыме оказался неудачен. Никифоров делал большие ошибки: начал уговаривать хана, чтоб тот не мешался в польские дела, прежде чем тот промолвил о них одно слово; этим со стороны консула было внушено, что Россия нуждается в хане, заискивает в нем; вместо того чтоб представить подарки хану от имени киевского генерал-губернатора, представил их прямо от имени императрицы; Никифоров был заподозрен и в нечистых поступках относительно казны. Наконец, неосторожное поведение консула в самом щекотливом деле, в деле религиозном, послужило поводом к его отозванию. В октябре крепостной человек Никифорова Михайло Авдеев, 15 лет от роду, ушел и принял магометанство, а консул с своими людьми взял его силою опять к себе и подал жалобу на нарушение народных прав; татары, напротив, требовали выдачи Авдеева как уже магометанина, причем один из чиновных татар сказал: «Хотя бы и консул пришел, то мы по своим книгам и суду могли бы его обусурманить», и когда переводчик консула жаловался на эти слова каймакаму, или наместнику ханскому, то сидевший тут муфтий сказал: «Хотя бы ваша и кралица сюда пришла, то бы мы и ее побусурманили». В ответ на донесение об этом Никифоров получил сильный выговор от Иностранной коллегии; поступок его назван горячим и непростительным, ибо он должен был знать, что ренегаты почитаются погибшими и о возвращении их никто не старается; грубые выражения муфтия насчет императрицы суть следствия его же консульской неосторожности.
Французские хлопоты остались на этот раз без последствий в Турции; Польшу Франция предоставила ее судьбе; но тем с большею настойчивостью действовала она в Швеции. Система действия была изменена: до сих пор Франция поддерживала противников усиления королевской власти, следуя общему тогда правилу, что слабость королевской власти дает другим державам более возможности вмешиваться в дела страны и проводить в ней свое влияние. Но теперь родился вопрос: что выгоднее для Франции: делить ли постоянно в Швеции влияние с Россиею, поддерживая большими деньгами свою партию, или, усилив королевскую власть, противопоставить России опасного уже по самой близости врага, который будет всегда готов сдержать Россию в ее неприятных для Франции стремлениях? Пример Польши заставлял Францию спешить переменою политики относительно Швеции. Французский посланник в Варшаве Поми писал своему двору: «Все поляки говорят прекрасно, но немногие осмеливаются что-нибудь делать, и, что делают, выходит дурно. Теперь поддерживать свободу Польши – значит защищать открытое место без гарнизона, без офицеров, без военных запасов, без хлеба, без укреплений». В Версали не хотели сделать и из Швеции такого же удобного для защиты места. В инструкциях Шуазеля Бретейлю говорилось: «Франция была введена обстоятельствами в заблуждение, слишком благоприятствовала ослаблению королевской власти в Швеции, из чего возникло метафизическое, невозможное правление. Растрачивали деньги на слабые партии, а Швеция становилась все. слабее и незначительнее. Поэтому надобно доставить королю более власти».
В начале года Остерман уведомил императрицу, что генерал граф Ферзен тесно сблизился с недавно приехавшим в Стокгольм французским послом бароном Бретейлем и объявил королеве, что старается склонить Бретейля содействовать уничтожению на будущем сейме вкоренившихся в Швеции беспорядков, что ему Бретейль и обещал; и датский двор также склоняется этому содействовать. Королева поэтому продолжает быть очень ласкова к Ферзену и даже усилила наружные знаки своей милости к Бретейлю; удостоивает своим разговором и датского посланника, чего прежде никогда не бывало. Панин заметил на донесении Остермана: «Знать, что жребий шведской королеве быть обманутою французскими послами: в мое время перед сеймом, на котором графу Браге отсекли голову, маркиз дАвренкур, обещав ей свое вспоможение и выведав из нее на одном маскерате все ее тогдашние намерения и предприятия противу сенаторей его креатур, предал ее им, Бретель же гораздо вороватее Давренкура». Ферзен уверял, что французскому послу в инструкциях предписано не подражать поведению своего предшественника Давренкура, который действовал против короля и королевы. Панин заметил: «По-видимому, Бретейль очень хорошо завел свои машины, налагая все прошедшее на счет своего предместника, и королева, конечно, будет обманута. Ее величество тут не припамятует, что Бретейль не прислан ее мирить с Давренкуром, но исправлять дела оставшихся в Швеции французских креатур, а что граф Ферзен – тот самый, который был первым жрецом Брагевой головы в поражении их шведских величеств».
Когда Остерман стал внушать надежным людям, что напрасно королева верит Ферзену и французскому двору, то ему отвечали, что королева, по ее решительному уверению, отнюдь никогда не согласится приступить к французской системе; не верит она ни Ферзену, а еще менее сенатору Шеферу; но по причине господства французской партии она принуждена пользоваться их ласканиями, ибо если ни в чем другом нельзя успеть то по крайней мере она избавится от гонения, тем более что королева не имеет никакого подлинного обнадеживания ни с русской, ни с английской стороны, в чем будет состоять их помощь, а французский посол обещает на будущий сейм миллион ливров, и если сейм не будет чрезвычайный, отложится до обыкновенного срока, то французский двор пришлет еще три миллиона ливров. Панин заметил на донесении об этом: «Все сие пустые затеи и больше показывают десимюлацию ее величества перед благонамеренными, нежели истинность ее сентиментов, ибо как возможно согласить теперь оказываемое сю порабощение духа противу французской партии с тою характера ее гордостию и презрением всех очевидных тогда опасностей, которые она оказывала, когда ни снаружи, ни внутри Швеции не только подкрепления, ниже малейшей к тому надежды не имела».
Остерману было предписано иметь дружественные сношения с приверженцами двора и с благонамеренными патриотами, причем он не должен был никого поощрять к созыванию чрезвычайного сейма. Благонамеренные, по обычаю, неотступно просили Остермана узнать точнее, в чем будет состоять помощь со стороны России, дабы они заблаговременно могли бодрствовать против французских быстрых уловлений и содержать королеву в добром к себе расположении. Они высказывали желание чрезвычайного сейма, выставляя на вид, что без него своевольство так укоренится, что рано или поздно самодержавие само собою введено будет, и если это не сделается при жизни короля, то непременно последует вдруг по кончине его. Панин заметил по этому поводу: «Разумный домоводец когда что торгует, он соображает прежде всего цену с надобностию, с своим достатком и с пользою, которую из того получает; то же правило служит аксиомом и в политике. Неоспоримый интерес вашего величества принять участие, чтоб развращением не воспоследовало в Швеции генеральное опровержение всему правительству; но определить меру сего участия рассудительным образом невозможно прежде, покамест совершенно о том не уверимся, какой точно конец получат польские дела; без крайней же нужды, которой еще в Швеции не предусматривается, благоразумие не дозволяет совсем полагаться на одну надежду и потому брать решительные меры».
Между тем Панин, сначала думавший, как мы видели, что Бретейль обманывает королеву, стал приходить к мысли, что французский посланник может хлопотать об установлении самодержавия в Швеции, в чем заключается настоящий интерес Франции. На реляции Остермана от 19 марта Панин заметил: «Не то страшно, что Бретейль уверяет о нехотении своем мешаться во внутренние дела: после в них во время сейма вмешается и тем обманет дворовую партию, но того вправду бояться надобно, чтоб Франция, усыпляя всех своим защищением правительства против короля, он, Бретейль, вдруг не соединился с дворскими партизанами своей системы и не подал бы нечувствительно способа им схватить самодержавство, что в существе есть и будет истинный интерес Франции, лишь бы только достоверно можно было ей его достигнуть».
В начале мая Остерману послан был указ стараться отвращать королеву от впадения в сети французских партизанов, а с другой стороны, удерживать благонамеренных (колпаков) от несвоевременного отделения от придворной партии. Остерман отвечал, что из придворной партии он получает уверения о преданности короля и королевы императрице; если и происходят сношения с французскими партизанами, то они наружные, без всякой твердости. Королева довольно испытала, как мало она может верить их обольщениям, и потому уверения со стороны императрицы предпочитает всему и на них одних полагает прямую свою надежду, как бы с французской стороны ни старались переменить ее мысли. Благонамеренные же патриоты полагают все свое спасение в защите императрицы и с неописанною благодарностию принимают обнадеживания в русской помощи, обещаясь следовать великодушным советам императрицы и не только не подавать вида об отделении себя от придворной партии, но еще сильнее искать королевской милости. В начале июля Остерман донес о разговоре своем с королевою, которая уверяла его в самых сильных выражениях в своей особенной и беспредельной преданности императрице и желании заслужить ее всевысочайшую дружбу. Остерман просил ее принять уверения в добром расположении императрицы к ней и королю и не верить никаким другим внушениям, приходящим с противной стороны, выдуманным людьми, завидующими доброму согласию между Россиею и Швециею. Королева сказала на это: «Вы не ошибаетесь, говоря о зависти; прошу вас верить, что я никаким внушениям веры не даю, и в доказательство моего усердия к императрице и доверия к вам не могу от вас скрыть, как мне прискорбно слышать о враждебных замыслах датского и венского дворов против императрицы». «Эти вредные замыслы мне неизвестны, – отвечал Остерман, – и я могу удостоверить ваше величество, что опасности тут нет никакой и все действует одна зависть». «И я имею такую же надежду, – сказала королева, – но по искреннему своему к вам усердию не могу скрыть своего беспокойства». Остерман настаивал, чтоб королева не верила никаким внушениям, потому что перед этим она дала ему знать, как ей прискорбно было уведомиться, что императрице донесено, будто бы она, королева, недружелюбно к ней относится, а потому и императрица с своей стороны к ней неблагосклонна и хорошо расположена к одному королю.
24 августа Остерман писал о разговоре своем с прусским посланником бароном Кокцеем, который все твердил, что уполномочен своим государем сообразовать свои поступки с поступками русского министра. Кокцей дал знать Остерману, что введение самодержавия в Швеции одинаково противно интересам России и Пруссии, но согласно с интересами обоих дворов восстановление на будущем сейме прав и преимуществ королевских, как-то: права объявлять войну, заключать мир, установлять новые с иностранными дворами обязательства по примеру преимуществ английского короля. Остерман имел наивность заключить из этих слов, что Кокцей, должно быть, не получил инструкции по внутренним шведским делам и рассуждает о правах короля по словам членов придворной партии. В том же донесении Остерман уведомил о состоявшемся определении о созвании чрезвычайного сейма. «От этого определения, – писал Остерман, – все благонамеренные патриоты ожидают большой пользы, если получат от вашего императорского величества обещанное вспоможение; если теперь при самом начале случай упущен будет, то после нельзя будет поправить дела и двойным иждивением». По мнению благонамеренных патриотов, вспоможение должно было состоять из 300000 рублей, из которых 100000 должно было выдать немедленно, а на остальные дать ассигнации и выплатить их в течение двух лет. Благонамеренный сенатор граф Левенгельм объявил Остерману, что он сильно уговаривал королеву наблюдать строгий нейтралитет как в выборе ландмаршала, так и при всех других выборах; но не мог в этом успеть и довольно приметил, что она имеет доверие к советам графа Ферзена и надеется по его обещанию получить в свое распоряжение французские деньги. 24 сентября Остерман сообщил о любопытном разговоре Левенгельма с французским послом Бретейлем. Левенгельм старался убедить посла, чтоб он не употреблял подкупа: все бедствия Швеции, говорил он, проистекали от того, что нация, будучи подкупами раздроблена на разные части, не могла никогда содействовать истинной пользе своего отечества, и теперь, если подкупы будут продолжаться, то надобно ожидать тех же самых бедствий, и посол приобретет для своего двора больше вреда, чем пользы. Бретейль, выслушав все это, отвечал, что он нимало не намерен следовать примерам своих предместников, но если соперники его будут употреблять подкупы, то и он, естественно, принужден будет обороняться тем же самым оружием. «Кого вы признаете здесь своими соперниками?» – спросил Левенгельм. «Английского посланника Гудрика и русского Остермана», – отвечал Бретейль. Гудрик действительно предложил Остерману 40000 фунтов стерлингов для действий сообща.
Из России Остерману прислано было 50000 рублей и наставление: «Мы постоянным и ненарушимым интересом поставляем в Швеции непоколебимое соблюдение узаконенного в 1720 году вольного образа правления и сопротивление введению самодержавства. На таком основании мы признаем благонамеренными патриотами всех тех, которые стараются только о восстановлении должного равновесия между тремя властями и уничтожении беспорядков, происшедших от своевольного и превратного толкования формы правления. Это восстановление и уничтожение беспорядков мы почитаем совершенно исполненным, если уничтожатся все без изъятия сенатские толкования и сеймовые определения, особливо акты, обнародованные на сейме 1756 года, а в самой форме правления переправится оговорка, находящаяся в заглавии, именно что „государственные чины предоставляют себе на генеральном сейме право толкования и исправления установленной формы правления, если это впредь понадобится“. Вместо этого должно быть внесено следующее: „Если впредь понадобится толкование или исправление правительственной формы, то государственные чины предоставляют себе на генеральном сейме право составить проект для обнародования всей нации, которая на следующем сейме в данных депутатам полномочиях и инструкциях должна этот проект одобрить, и тогда только он может получить силу закона“. Повелеваем вам истинным и благонамеренным патриотам подавать всякое вспоможение не только советами, но и деньгами; вы должны стараться составить из этих патриотов действующий корпус, чего иначе достигнуть нельзя как избранием для них одной главы, к чему мы удостоиваем сенатора графа Левенгельма как самого разумного и искусного в делах из всех благонамеренных патриотов, присоединяя к нему в помощь сенатора графа Горна, полковника Рудбека и статс-секретаря барона Дюбена как людей, исстари расположенных к нашему двору. Вы должны им объявить: 1) что наше вспоможение не назначается на личное преследование членов противной партии, равно как не на доставление частных выгод тому или другому из благонамеренных патриотов, но единственно на поправление государственных дел и на поправление всей благонамеренной партии в надлежащую силу и кредит у народа, и потому они не должны позволять друзьям своим вмешиваться в частные предприятия; 2) чтоб они всеми мерами старались обуздывать высокомыслие придворной партии, особенно начальника ее полковника Синклера, причем, однако, должны избегать явного разрыва с этою партиею, а старались склонить ее к своим благонамеренным видам; 3) приложили бы старание привлечь на свою сторону сенатора графа Гепкена и уговорили бы его потом возвратиться в Сенат, а, напротив того, сенатора Шефера принудили бы оттуда добровольно выйти; 4) в Секретную комиссию посадить сколько можно более честных и искусных людей, дабы, наконец, 5) воспользоваться склонностию и самих сенатских приверженцев к независимости от чужих держав и положить начало низвержения французской системы предписанием своему министерству, чтоб оно не вмешивалось ни в какие обязательства с чужестранными дворами, могущие вывести Швецию из нейтрального состояния в случае военных замешательств в Европе». Екатерина хотела составить в Швеции свою независимую партию или поднять старую партию колпаков, которая бы, с одной стороны, противодействовала французскому влиянию, с другой – сдерживала королеву и придворную партию от стремления к перемене конституции 1720 года. Разумеется, придворная партия не могла смотреть на это равнодушно. В конце октября один из главных членов этой партии имел разговор с Остерманом, из которого тот заключил, что приверженцы двора желают, чтоб русские и английские деньги были отданы в руки королевы для составления одной партии под именем придворной, от которой колпаки вполне бы зависели. Упомянутый член придворной партии толковал Остерману, что особенная партия, независимая от Сената или короля, никогда ничего с пользою сделать не может, и приводил в пример события на сейме 1747 года. Остерман уверял его, что у него вовсе нет намерения отделить колпаков от придворной партии; а так как печальные события на сейме 1747 года произошли от тогдашних французских обольщений, то это самое и побуждает его теперь просить короля и королеву предостеречь себя от них, ибо когда их величества по своей дружбе к императрице будут иметь неизменное внимание к ее советам, то не только не будет особенной партии, но и союз между Россиею и Швециею станет так крепок, что все французские стремления не будут в состоянии ему повредить. Между тем один из благонамеренных (должно быть, тот же Левенгельм) дал знать Остерману о своем разговоре с королевою: Луиза-Ульрика требовала от него, чтоб он старался поправить в народе кредит Ферзена и Синклера, причем выставляла на вид честность их намерений; но благонамеренный не согласился на ее желания и отвечал, что если бы он взялся исполнить ее волю, то пользы никакой ей не принесет, а собственный кредит в народе потеряет. При этом благонамеренный упрашивал королеву, чтоб она не верила французским обнадеживаниям, передаваемым ей чрез Ферзена и Синклера, а предпочитала уверения, идущие с русской и английской стороны, как больше согласные с национальным интересом. Королева отвечала: «Я еще не знаю, в чем будет состоять русская поддержка: если, как я думаю, только в том, чтоб восстановить правительственную форму 1720 года, то я большой выгоды в этом не вижу и потому, естественно, предпочитаю тех, которые обещаются больше содействовать в мою пользу».
12 ноября приехал к Остерману известный важный член придворной партии (Синклер?) и объявил, что король и королева на будущем сейме не начнут никакого самого малого дела, не узнав прежде от него, Остермана, мнения об этом деле императрицы, и все свои поступки будут согласовать с ее волею. Остерман в ответ пропел свою обычную песню, что их величества прежде всего не должны верить внушениям, делаемым со стороны французских приверженцев – графа Ферзена с товарищами. Гость начал с божбою уверять, что король и королева не только не верят внушениям французских приверженцев, но скоро произойдет и явный разрыв двора с ними. Наконец, посланный объявил, что с французской стороны немедленно начнется закупка дворянских полномочий, следовательно, со стороны их величеств очень нужно было бы употребить такие же способы, чтоб не быть предупрежденными. Остерман понял, к чему все это клонится, и отвечал, что надеется очень скоро получить высочайшие инструкции, без которых не может быть никакого ответа; но, чтобы показать королю и королеве свое усердие к их пользам, Остерман выдал посланному 20000 талеров (купфермюнце) с обещанием по согласию с английским посланником выдать такую же сумму в начале будущей недели; деньги должны были идти на закупку полномочий. Панин заметил на донесении: «Сумма гораздо невелика, и потому недурно, что приманку сделал, больше же давать уже не станет».
Но, получив русские деньги, посланный отправился к английскому посланнику Гудрику с вопросом, какая сумма назначена из Англии в пользу их величеств, и с требованием, чтоб сумма была выдана. Гудрик отговорился, что он не может ничего дать без согласия с русским посланником, к которому и надобно адресоваться. Посланный явился к Остерману с объяснением, что если императрица намерена употребить денежные издержки в пользу короля, то никаких других распоряжений не нужно, довольно того, чтоб требуемые 200000 рублей были готовы, без получения которых королю было бы неприлично самому вмешиваться и поощрять других к деятельности. Остерман отвечал, что если императрица помогает деньгами, то, естественно, должна знать, на что будут употреблены ее деньги, чтобы по прежним примерам они понапрасну не были истрачены; английский двор тем более любопытствует знать, куда употребляются деньги, что его вступление в здешние дела большею частию зависит от доброго начала относительно избрания ландмаршала и членов Секретной комиссии из числа благонамеренных. Тогда посланный объявил, что он того же дня снесется с тремя главными членами благонамеренной партии и, определивши с ними, сколько нужно денег, будет их требовать от Остермана и английского посланника, причем назвал имена этих благонамеренных, чтоб Остерман мог от них узнать, правду ли он говорит. Остерман, увидав его на такой доброй дороге, дал ему еще 4000 плотов вместо 15000, которых он требовал, и Гудрик обещал выдать такую же сумму. «Кроме сего доброго успеха, – доносил Остерман, – и та польза приобретена, что, собственно, их величества зачинают больше полагаться на подаваемые им мною с вашей всевысочайшей стороны уверения и к моему поведению свое высокое удовольствие оказывать изволят. Единая только вредительность еще остается, что оный дворовый партизан с своим сообщником обер-камергером графом Гиленстолпом предуспели такой полный кредит у их величеств иметь, что никто с ним не сравнивается. Его величество при оказании своей к вашему императорскому величеству истинной благодарности за ваше обещанное ему вспоможение и высокого удовольствия ко мне, всенижайшему, мне объявить соизволил, чтоб я в случае какого ему сообщения адресовался для того к упомянутому графу Гиленстолпу яко его величеству верному слуге. Такое со стороны его величества нечаянное повеление меня немало удивило. Вашему императорскому величеству известна та персона, которую я с самого начала моей здешней бытности всегда продолжительно для такого внушения употреблял; его к вашему всевысочайшему двору и персонально к его величеству преданность довольно мне знаема. Уважая, с одной стороны, повиновение королевскому повелению, а с другой – необходимую надобность мне оного для вышеозначенного внушения удержать, понудило меня с глубочайшим респектом у его величества испросить милостивое позволение употреблять в случае надобности ту ж персону, которую я доднесь употреблял, показав в резон, что хотя по причине имеющейся к нему доверенности, которая мне главнейшим всегда правилом служить имеет, оного Гиленстолпа употреблять не премину, однако ж в рассуждении вручения мне тою персоною королевского отправленного к вашему императорскому величеству изъяснения употреблением к тому при случае получения вашего всевысочайшего ответствия Гиленстолпа натурально оная персона будет иметь причину думать о имеющейся к оной какой недоверенности, которую она толь меньше заслуживает, что, сколько мне известно, никто больше оной его величеству не предан. Король, приняв милостиво мое изъяснение, ответствовал, что он сам в преданности той персоны не сумневается и, следовательно, мне дает позволение по-прежнему и оную употреблять, но как оная в делах обретается, так Гиленстолп к взаимному сношению несколько способнее. Я, настоя в прежнем моем всенижайшем прошении, принял смелость к тому присовокупить, чтоб его величество милостиво склонился употребить для лучшего сохранения секрета ту же персону, доказывая, что может случиться такое дело, которое подлежит его единственному знанию, на что его величество милостиво и согласиться изволил и, приняв от меня уверение о вашем всевысочайшем намерении в угодность его на будущем сейме содействовать, когда вашим советам последовано будет, изъяснился, что он, будучи о том уверен, надеется, что и его совету иногда следовано будет, еже я покрыл тем, что то само разумеется, ибо инако общее с обеих сторон согласие состояться не может. Ее величество королева, оказав равную благодарность, много распространялась похвалами к именитому дворовому партизану, доказывая его великий разум и искусство, чему я и комплиментами ответствовал; и, как дошла материя дискурса до известных французских партизанов, она требовала моего мнения; не приличнее ли я признаваю продолжение наружной к ним учтивости на куртагах, нежели явного разрыва, которого будто некоторые из благонамеренных желают. Так, я принял смелость представить, что не токмо от такой наружной учтивости отвращать, но более к оной согласовать причину имею: довольно того, что я ее величества слово имею, что она к ним никакой доверенности иметь не изволит».
Но вслед за этим Остерман должен был донести, что расхваленный королевою «дворовый партизан» обманывает: он действительно начал советоваться с «бонетами» (колпаками), но скоро перестал давать им отчет в употреблении русских и английских денег, начал представлять необходимость выбора в Секретную комиссию некоторых членов французской партии; не соглашался, чтоб часть этих денег шла на устройство столов для бедных депутатов и чтоб эти столы учреждались колпаками, стал избегать свидания с последними. И король начал с ними изъясняться сдержаннее, стал повторять, что не сомневается в преданности графа Ферзена и другого вождя французской партии, статс-секретаря барона Германсона.
Дания не подавала ни малейшего повода к беспокойству. Датский двор вполне соглашался со всем тем, что делалось в Польше со стороны России. В конце июня Корф уведомил императрицу о разговоре своем с министром иностранных дел бароном Бернсторфом, который, расхваливая поведение Чарторыйских и Понятовских, удивлялся необыкновенно разумным действиям Екатерины: в короткое время царствования своего она совершила великие и полезные дела как внутри, так и вне своей империи почти непонятным и для других дворов примерным образом; умела привести в согласие поляков, собравшихся на созывательный сейм, так что даже отважились поправить известные ошибки в польских фундаментальных законах, на что в продолжение веков не осмеливались покуситься и почитали за невозможное дело. «Но, – прибавил Бернсторф, – не будет ли Польша опасна своим соседям, когда придет в совершенный порядок?» Корф, поблагодаря его за откровенный отзыв, сказал, что выражение совершенный порядок уже показывает, как еще много недостает для того, чтоб Польша стала опасною своим соседям, на чем надобно и успокоиться. Императрица очень желает заслужить имя установительницы мира, однако притом хорошо знает связь своих интересов с положением других держав. Исправление польских законов коснулось преимущественно экономического штата польского короля и гражданских законов, a liberum veto едва ли может быть уничтожено и всегда будет служить средством препятствовать намерениям короля и республики, если эти намерения покажутся опасными соседям.
Барон Корф занимался в Копенгагене не одними датскими отношениями. 25 февраля он просил у императрицы всемилостивейшего позволения открыть собственную свою систему, о которой он больше двух лет думал и которая состояла в следующем: «Нельзя ли на севере составить знатный и сильный союз держав против бурбонского союза, который, кажется, чрез австрийский дом получает себе приращение; если венский двор и до сих пор находится в союзе с Франциею, то Англия перестанет по-прежнему поддерживать равновесие между Австриею и Франциею, следовательно, принуждена будет принять чью-нибудь сторону. В таком случае что же ей другое остается делать, как пристать к северным державам? Но при этом какое множество различных интересов надобно принять в соображение! Если в моем мнении найдется что-нибудь полезное, то я уверен, что такое дело предоставлено совершить вашему императорскому величеству».
Это была знаменитая система «Северного союза, северного концерта, или аккорта», которая так понравилась Панину и которую он усыновил себе по смерти Корфа. Систему эту привести в исполнение было трудно именно потому, что нельзя было убедить в ее пользе двух главных предполагавшихся членов после России – Пруссию и Англию. Фридрих II, зная страшную вражду к себе Австрии и Франции и не имея возможности сблизиться по-прежнему с Англиею, искал для себя обеспечения в союзе с Россиею, добился его благодаря польским делам и не желал ничего более, вовсе не хотел связывать себя никакою системою, никакими обязательствами со второстепенными, ничтожными в его глазах державами. Англия, отрезанный ломоть относительно общей политической жизни континента, была еще более чужда какой-нибудь системы, которая не представляла ей непосредственных торговых выгод, которая предполагала обязательства, расходы для каких-то отдаленных целей, причем хорошего барыша нельзя было министерству расчесть по пальцам пред парламентом.
Мы видели, что Россия желала получить денежную помощь от Англии в шведских и польских делах. В первых, хотя с великим трудом, еще можно было от нее что-нибудь вытянуть, ибо деньги шли на противодействия враждебной ей Франции; но уже никак нельзя было от нее требовать, чтоб она истратила хотя фунт стерлингов по польским делам, к которым была совершенно равнодушна. Мы видели вследствие этого затруднительное положение русского министра в Лондоне графа Александра Ром. Воронцова. Невозможность уладить дело с настоящим министерством, естественно, сближала Воронцова с оппозициею. Это, разумеется, не нравилось настоящему министерству, и отсюда возникал вопрос об отозвании Воронцова, что было очень приятно Панину, не любившему Воронцовых.
5 января английский посланник граф Бекингам на конференции с вице-канцлером объявил, что его правительство никак не может дать России 500000 рублей субсидии на текущие польские дела. Настоящее положение его не позволяет ему этого сделать. Что касается отозвания графа Воронцова, то оно может быть приятно лондонскому двору, ибо он, Бекингам, имеет приказ внушить русскому министерству, чтоб оно не совсем верило несправедливым донесениям Воронцова о настоящем положении внутренних дел Англии, тем более что примечена связь Воронцова с вождями противной двору партии и можно без ошибки сказать, что эти вожди диктуют ему его депеши. Вице-канцлер отвечал, что Воронцов будет отозван в угодность лондонскому двору; а, впрочем, доношения этого министра всегда были сходны с настоящим положением дел в Англии; по ним не видно, чтоб он имел какую-нибудь связь с противною двору партиею в предосуждение настоящего министерства, и должно думать, что знакомство его с вождями оппозиции состояло в одних ничего не значащих учтивостях. После этого Бекингам начал просить о заключении договоров без проволочки времени и получил ответ, что с русской стороны охотно желают совершения такого полезного обеим державам дела, но трудно ожидать в нем успеха, когда английское министерство так неподатливо на удовлетворение русских требований, когда оно так равнодушно смотрит на все внешние дела европейского континента, которые могут принять очень вредный для английской короны оборот, ибо Франция строит свою политическую систему на крепком основании, умножая свои морские силы вместе с Испаниею, утверждая свои союзы с разными дворами, особенно с венским и сардинским. Панин в своем разговоре с Бекингамом дал ему понять, что договор между Россиею и Англиею не будет заключен, если Англия не согласится помочь России деньгами в польских и шведских делах; что русский двор уже выслал в Польшу два миллиона рублей и, несмотря на то, русские приверженцы требуют новой помощи, потому что Франция расточает там большие суммы.
Преемником Воронцову назначен был известный Гросс. Относительно его Бекингам в конференции 3 февраля выразил мнение, будто он сильно предан Франции и потому не может быть приятен в Англии. Вице-канцлер отвечал, что Гросс – человек изведанной верности и везде, где ни был, умел приобресть себе похвалу и одобрение двора своего; во время последней войны имел он действительно, как и все другие русские министры, более тесное согласие с французскими, чем с английскими, посланниками, но это происходило Не от личного его мнения, а от тогдашней системы. Бекингам, ничего не отвечая на это, опять стал жаловаться на медленность в заключении договоров, представляя, что двор его предпочитает дружбу России всякой другой и не принимает ничьих предложений, но должен будет принять их, если с русской стороны ничего не будет сделано. 12 февраля Бекингам опять жаловался на медленность в заключении договоров. Голицын отвечал, что эта медленность происходит оттого, что дело рассматривается особливою коммерческою комиссиею. 1 марта Бекингам объявил, что его двор считает заключение союзного и коммерческого договоров с Россиею делом неудавшимся и потому намерен отозвать его и приписывает неудачу дела преимущественно бывшему в Лондоне русскому министру графу Воронцову, тогда как торговый договор более полезен России, чем Англии, которая может обойтись без русских произведений, имея довольное число таких же в своих новых американских владениях. Вице-канцлер отвечал прежнее, что вина неуспеха в заключении договоров на стороне Англии, которая не только не приняла русских предложений, но и не представила ни малейшего средства к соглашению. В России вполне уверены в пользе торговли для обоих народов: доказательством служит то, что англичане продолжают пользоваться выгодами старого трактата, хотя срок его и кончился.
Эти требования Бекингама и ответы Голицына продолжали повторяться до самой осени. 4 октября Бекингам объявил вице-канцлеру о получении им от своего двора указа сообщить русскому министерству, что английский министр в Стокгольме, который отправлен в Швецию в угоду и по требованию русского двора, описывая настоящее состояние дел в Швеции, признает необходимым на первый случай издержать 40000 рублей; посредством этих денег он надеется положить хорошее основание системе русского и английского дворов в Швеции, до значительной степени уменьшить французское там влияние и на сейме определить форму шведского правления согласно с желаниями обоих дворов, русского и английского; но для приведения к желанному концу всего дела он считает нужным истратить не меньше 120000 рублей. Поэтому, продолжал Бекингам, английский двор надеется, что императрица охотно согласится принять половину этой суммы на себя. Вице-канцлер отвечал, что шведские дела могут побудить русский двор принять предложения английского; впрочем, эти дела не менее должны возбуждать внимание и Англии, которой следует заботиться как об исправлении формы правления в Швеции, так и об уничтожении господствующей там французской партии, об отнятии у Сената похищенной им королевской власти и установлении равновесия между королем и Сенатом, чтоб один без другого не могли объявлять войны, заключать договоры и союзы, налагать подати и проч. Кроме того, у Англии есть еще особенный интерес в уничтожении вредного намерения французского двора постановить с шведским союзный морской трактат, по которому Швеция обязывалась бы давать Франции в случае морской войны десять военных кораблей, а уничтожить это намерение иначе нельзя как субсидиями Швеции с английской стороны.
Гросс приехал в Лондон 16 февраля и 19-го имел разговор с лордом Сандвичем, заведовавшим иностранными делами по северному департаменту. Сандвич начал разговор о сильном желании короля, чтоб наконец союзный и коммерческий договоры между Россиею и Англиею приведены были к окончанию, и приезд Гросса подает ему некоторую надежду относительно успеха переговоров по известному искусству нового министра в делах. Гросс отвечал то же самое, что Панин и Голицын обыкновенно отвечали Бекингаму в Петербурге, именно что виною медленности неподатливость с английской стороны. Сандвич объяснял дело тем, что в русском проекте есть два пункта, которых Англия никак не может принять: один пункт о Польше, другой – о Турции. Англия не может обязаться помогать России в случае войны последней с Турциею по своим существенным торговым интересам; не может также обязаться субсидиями для польских дел, потому что казна истощена последнею войною, и таким обязательством нынешние министры возбудили бы против себя всенародный крик; а на все другие предложения императрицы в Англии охотно согласятся. К лорду Бекингаму отправлен указ, чтоб всячески старался окончить оба трактата – союзный и коммерческий; если же увидит совершенную невозможность успеть в этом, то ожидал бы отзывной грамоты. Гросс спросил: в случае отозвания Бекингама будет ли на его место отправлен кто-нибудь другой? Назначится министр второго ранга, отвечал Сандвич и прибавил, что по всем известиям он не сомневается, что в Польше все произойдет по желанию императрицы и что умеренное поведение Англии в делах польских удержит Францию от глубокого в них вмешательства. Но Панин заметил на донесении: «Уведомляя английский двор о производимых в Польше французско-венских возмущении и интриге, надлежит дать приметить, что английская в тех делах умеренность худо Францию удерживает, но паче может ободрять ее в севере инфлюенцию». Англия никак не хотела отказаться от своего умеренного поведения , и, когда Гросс спросил Сандвича, какого рода инструкцию получил английский резидент в Варшаве Ратон, Сандвич отвечал, что Ратон имеет указ поступать согласно с русскими министрами до некоторой степени и в разговорах отзываться, что его государю будет очень приятно при будущем избрании польского короля поступать во всем согласно с намерениями русской императрицы, если притом будет сохранена вольность, и вперед английский резидент должен поступать по этому наставлению. Указывая на разность последних слов, Гросс писал: «Из этого ваше императорское величество собою заключить можете, что отсюда никакого существительного вспомоществования в польских делах ожидать не надлежит».
В мае по поводу заключенного между Россиею и Пруссиею союзного договора Сандвич заметил Гроссу, что если бы Англию пригласили приступить к этому союзу, то она предпочла бы заключить с Россиею особый договор, ибо ее обязательства как морской державы другие, чем обязательства короля прусского. Донося об этом, Гросс писал, что не должно ли приписать слов Сандвича зависти к королю прусскому. Панин заметил на донесении: «И начинающемуся беспокойству, что по сю пору никакой решительно системы не имеют, а покориться еще не хотят; но когда вернее уведомятся о новой негоциации между бурбонских домов, то, конечно, с нами не будут столько торговаться».
Донесение Гросса от 1 июня было очень приятно Панину. Гросс писал о своем разговоре с Сандвичем, происходившем накануне, 31 мая. Гросс спросил, получено ли английским министерством известие об окончании переговоров между Франциею, Австриею и Испаниею, вследствие чего Испания приступает к Версальскому договору, а венский двор – к договору фамильному между государями бурбонского дома. Сандвич отвечал, что имеет причину думать о заключении такого договора, и прибавил, что это обстоятельство, естественно, должно еще сильнее побудить английского короля желать заключения союзного договора с Россиею; что с английской стороны готовы принять все приличные обязательства, только бы можно было их оправдать перед нациею как взаимно полезные. Если бы потребовалось, чтоб и прусский король был включен в договор, то с английской стороны препятствия этому не будет, потому что противная двору партия рассевает слухи, будто настоящее министерство недовольно заключением союза между Россиею и Пруссиею, тогда как он, лорд Сандвич, смотрит на этот союз как на хорошее основание обязательствам, принимаемым по желанию английского министерства. «Однако, – прибавил Сандвич, – мне было бы очень прискорбно, если б с русской стороны было возобновлено прежнее предложение о принятии участия в польских делах с уплатою субсидий, потому что министры королевские никак не могли бы оправдать эту меру пред парламентом». «Очень могли бы, – заметил Гросс, – если б представили, как вредно было бы для Англии влияние Франции в Польше, когда б она его приобрела там, осилив Россию». «Я хорошо знаю, – отвечал Сандвич, – что такое представление не имело бы желанного действия; но я с вами согласен в том, что в обязательствах между Россиею и Англиею надобно соблюдать совершенное равенство и что в таких случаях союза, где помощь войском или флотом будет невозможна, надобно платить деньги». Панин заметил на донесении Гросса: «Разумным производством и твердостию, конечно, довести можно, что Англия заплатит часть убытков по польским делам: ваше императорское величество сами всевысочайше усмотреть соизволите, что медленность с нашей стороны в сей негоциации не произвела ничего дурного, а вперед можно надеяться много лучшего. И может быть, тут то же будет, что ваше величество видеть изволили с королем прусским, когда он сам того домогался, в чем состоял главный предмет нашей политики».
С этих пор разговоры между Гроссом и английскими министрами стали отличаться тем же однообразием, каким отличались разговоры между Бекингамом, Паниным и князем Голицыным в Петербурге. Английские министры спрашивали, нет ли надежды на заключение союза без двух пунктов – турецкого и польского; Гросс отвечал, что в этих двух пунктах вся сущность. Когда в июле английские министры начали говорить, что если нельзя заключить союза с Россиею, то Англия принуждена будет стараться подкрепить себя другими союзами, то Панин написал: «Не найдут нигде такова».
В сентябре английское министерство объявило Гроссу, что хотя король постоянно намерен избегать тягостных военных обязательств с державами твердой земли, однако в рассуждении того, что Франция старается впредь получить от Швеции помощь военными кораблями, английский народ находит непосредственный свой интерес в уничтожении подобных французских видов и не пожалеет денег на этот важный предмет; но так как Россия еще более в этом заинтересована, да и первое предложение шло с ее стороны, то справедливость требует, чтоб половину иждивения она приняла на себя. Панин заметил: «C'est се qu'on dit negocier en vrai marchand (это значит вести дело по-торгашески)».
Сандвич сообщил Гроссу под величайшим секретом две добытые английским правительством французские бумаги. Первая была письмо французского посланника в Стокгольме Бретейля к герцогу Пралэну от 31 августа 1764 года. Французский поверенный в делах в Петербурге Беранже писал, что Екатерина намерена в будущем году устроить лагерь в Финляндии. По мнению Бретейля, это делалось с целию произвести давление на шведский сейм. «Если, – писал Бретейль, – ничто не помешает исполнению этого намерения русской государыни, то нельзя не предвидеть пагубных затруднений, которые последуют отсюда для Швеции. Я уверен, что найду должную твердость между шведскими патриотами, но боюсь, что те получат плохую помощь при печальном состоянии всех частей управления. Все известия, приходящие из России, согласно говорят, что неудовольствие и дух возмущения там со дня на день увеличивается. Правда, эти известия прибавляют, что Екатерина удвоивает заботы и предосторожности, но меры тиранства скорее служат признаком волнения, чем средством для его укрощения, и в рабской стране важное предприятие не бывает следствием обдуманного соглашения; недоверие и близорукость каждого препятствуют этому. Я знаю это по опыту; я был свидетелем быстроты, с какою головы и души без чувства и мужества воспламенялись и стремились к самым опасным крайностям. Минута сводит несколько людей, которых надежда на лучшую будущность заставляет принимать немедленное решение, а деньги быстро производят то же самое действие на солдат. Из писем Беранже я вижу, что лица, заслуживающие внимания и мне известные, делали ему предложения и уверяли в своей преданности, если будут обеспечены покровительством в случае несчастия и получат теперь денежную помощь. Я не сомневаюсь, что он вам донес об этом обстоятельстве, и я ручаюсь, что он принял предложение с мудростию и, однако, так, что головы адресовавшихся к нему людей остались разгоряченными. Я уверен, что он очень способен вести их далее с благоразумием, если вы это ему поручите и если королю угодно будет пожертвовать четырьмя– или пятьюстами тысяч ливров, чтоб попытаться низвергнуть Екатерину со всеми взгроможденными сю планами. Это малый, исполненный усердия и самой строгой честности. Мне кажется также, что искусный поверенный в делах будет способнее к такому делу, чем министр или посланник; а притом, чем бы ни кончилось это предприятие, ненависть, питаемая к Франции гордою императрицею, так велика, что уже больше быть не может».
Беранже дал знать о том же самом Пралэну и получил от него такой ответ: «Размышления, которые вы делаете по поводу содержания манифеста о смерти принца Ивана, показались нам очень справедливыми; я прибавлю только, что русская государыня сделала бы лучше, если бы это событие было пройдено молчанием в публичных бумагах или было бы возвещено потише. Вы хорошо поступаете, действуя с крайнею осторожностию; однако вы должны употребить всю свою деятельность, чтоб проникнуть чувства и намерения нации; но вы должны ободрять людей, поверяющих вам свои тайны единственно для того, чтоб извещать нас о ходе дела, никак не рискуя подавать советы в таком деликатном деле. Неудивительно, что от времени до времени проходят облака между королем прусским и русскою императрицею; оба они крайне честолюбивы, оба имеют политические виды и интересы, часто сталкивающиеся; их союз неестествен сам по себе; он произошел вследствие случайных обстоятельств, а не вследствие хорошо обдуманной с той и другой стороны системы. Может даже случиться, что польские дела заставят их поссориться. Я приму господина Одара, когда он ко мне явится. Но то, каким образом он оставил Россию, и ничтожная польза, какую он извлек из важных обстоятельств, в которых находился, не говорят нисколько в его пользу, и я не думаю, чтоб его величество был расположен дать ему титул, на который можно смотреть как на награду за услугу, тогда как этой услуги никогда не было оказано, на которую только надеялись и которая не доставила нам ничего очень полезного».
Таким образом Англия поквиталась с Россиею. Россия постоянно стращала ее усилением Франции; Англия передает известия, что французское правительство покровительствует враждебным движениям против императрицы в самой России. Но это не имело влияния на дальнейшие переговоры России с Англиею.
В конце декабря Гросс передал Сандвичу проект торгового договора между Россиею и Англиею, жалуясь на графа Бекингама, что он не захотел принять этого проекта. Сандвич отвечал, что удовлетворение императорскому двору уже сделано отозванием Бекингама (об искусстве которого он. Сандвич, сам невысокого мнения), причем надеется, что преемник Бекингама Макартней будет иметь больший успех. В разговоре о торговом договоре Сандвич спросил, получил ли Гросс какое-нибудь наставление относительно оборонительного союза. Гросс отвечал вопросом: действительно ли английский двор непременно намерен тесно соединиться с Россиею? «Ничего так горячо не желаем и ничего не признаем согласнее с своими естественными интересами», – ответил Сандвич. «Всего удивительнее, – сказал на это Гросс, – что граф Бекингам всегда настаивал на простом возобновлении старого союзного договора, который был заключен для подкрепления австрийских интересов, несмотря на то что теперь европейские отношения совершенно изменились. Императрица надеется, что при возобновлении переговоров о союзе английский двор захочет независимо и прямо быть ее союзником и этим способом утвердить равновесие европейских сил в своих руках. Вот почему в проект нового оборонительного договора, переданного вам в прошлом году, были включены два секретных параграфа о Польше и Швеции, имеющие связь с тою северною системою, по которой северные державы соединяются между собою союзами и составляют твердое равновесие в Европе мимо бурбонского и австрийского домов». Выслушав это с приметным удовольствием, Сандвич спросил: «В новой системе упоминается ли король прусский, потому что мы боимся Обширных замыслов этого государя?» «Мне не предписано ничего особенного в рассуждении короля прусского», – сказал Гросс. «Конечно, – заметил на это Сандвич, – это предложение будет охотно принято его великобританским величеством; но каким образом будут устранены затруднения, оказавшиеся в прежнем проекте договора?» И на слова Гросса, что Россия желает получить от Англии 500000 рублей как часть вознаграждения за издержки, употребленные Россиею при избрании нового польского короля, Сандвич подтвердил, что не смеет и предложить этого королевскому совету, зная взгляды его членов и скудость казны. Впрочем, Сандвичу понравилось предложение, что в случае войны с Турциею Россия получает от Англии 500000 рублей и платит такую же сумму Англии в случае ее войны с Испаниею.
Но чрез несколько дней Сандвич объявил Гроссу, что секретный параграф о даче 500000 рублей в случае турецкой войны не может быть принят, потому что министерство должно сообщить его парламенту, который выдает деньги; а в таком случае Порта и Франция об этом узнают и английская торговля в Леванте потерпит, войны же испанской в Англии мало боятся. (Тут Панин заметил: «Купеческая отговорка! Нужды нет никакой открывать, покамест казус не настоит, а когда настоять будет, тогда за 500000 рублей нация не взбунтует против правительства. Все сие состоит только в том, чтоб как лавочникам торговаться, покамест время есть, и сколько возможно выторговать».) Гораздо лучше было бы, продолжал Сандвич, если б прежний трактат просто возобновился с внесением общего параграфа о защите благополучно последовавшего выбора короля польского и сохранения правительственной формы и вольностей Польской республики. (Панин заметил: «Еще лавочная торговля. Когда по польским делам нам была в них (т.е. англичанах) вправду нужда, тогда они от них отговаривались и, чтоб их от себя отклонить, представляли свою готовность к шведским делам, а теперь говорят навыворот».) Гросс отвечал с удивлением: «Я не могу льстить себя надеждою, что у нас согласятся на простое возобновление прежнего договора, потому что обстоятельства совершенно изменились: при подписании прежнего договора венский двор был главный союзник России, Англия принимала оборонительные обязательства для подкрепления венского союза; а теперь императрица желает соединиться с Англиею непосредственно, почему и следует, чтоб Англия помогала России некоторою суммою денег против Порты, как Мария-Терезия обязывалась прежде помогать войском; представленный с нашей стороны еквивалент поданием помощи против Испании очень достаточен, ибо вероятно, что в течение осьми лет турки, с которыми у нас никакого спору нет, ничего не предпримут против России, а, напротив, более чем вероятно, что в это время и по личному характеру короля испанского, и по различию интересов, и по фамильному договору с Франциею между Испаниею и Англиею откроется война. Если бы, несмотря на все это, в Англии решили исключить взаимно войну турецкую и войну испанскую, то я должен настоять на уплату 500000 рублей за издержки, употребленные по первому моему предложению». На это Сандвич возразил, что если совет королевский не мог обещать участия в польских издержках прежде избрания короля, то после счастливого решения этого дела еще меньше на это согласится. В заключение Сандвич заметил, что осьмилетний срок договора им не нравится и что нации и парламенту странно показалось бы, если б в настоящем союзном договоре России предоставлены были большие выгоды, чем в прежнем. (Панин заметил на это: «Не меньше б и Российской империи дико показалось, если б при таком об общей пользе и славе попечительном царствовании российской двор не с лучшими и справедливейшими для нее выгодами свои союзы заключил. Заключительно сказать, англичане считают военный случай еще отдаленным и потому настоящее время в свою пользу хотят выиграть и нас своими затруднениями к тому привесть, к чему равновесие взаимства склонить не может. Напротив чего, надежнейший в нашу сторону успех должен зависеть от нашей собственной твердости и терпения, средством чего дождаться можно ближайшей англичанам нужды в нашем союзе».)
Краткость срока для нового союзного договора не нравилась в Англии; но Панин в письме своем к Гроссу от 12 ноября изъясняет причины такого решения: «Известное дело, что генеральные дела не могут долго оставаться в одинаком положении и что случающиеся в той или другой части Европы хотя частые, но тем не меньше нечаянные и чрезвычайные происшествия причиняют, однако, в интересах, в правилах и мерах держав великие и наперед отнюдь не постигаемые перемены, кои обыкновенно всю их систему, буде не совершенно уничтожают, по крайней мере много развращают. Сея ради причины, полагая восемь лет таким сроком, в который по течению дел обыкновенно нечто переменное случается, изволила ее императорское величество не в рассуждении одного английского двора, но в рассуждении всех своих настоящих и будущих союзников положить за основание, чтоб не определять своих обязательств больше, как на восемь лет, не для того, чтоб тем избегать подаяния помочи, полагая, будто в толь короткое время не будет настоять случай союза, но для того, чтоб как при действительном оного настоянии тем охотнее и усерднее оную подавать, так и в случае перемены обстоятельств иметь всю свободу соображать и распространять по оным обязательства свои и таким образом сугубо быть союзникам своим полезною».
Относительно приведенных известий об интригах Бретейля и Беранже Панин так успокаивал Гросса: «Для вашего собственного успокоения я за нужное нахожу вам сообщить, что совершенно мы здесь ни малейшей причины не имеем опасаться прямого действа намерений и дел наших злодеев, но паче надеяться должны, что они своим явным беззаконием сами себя наконец посрамят. Беранже с малым умишком самый фанатик в политических тонкостях, а Бретейль острый, но дерзкий в делах петиметр. Теперь он в Швеции в рассуждении чрезвычайного сейма и тамошнего расстроенного положения видит отворенный себе карьер дел подверженным противным переменам, наипаче от нашего в них участия с освобожденными руками от стороны польских конъюнктур и, по-видимому, яко запрометчивый молодой человек, вздумал к тому времени завести у нас какие ни есть внутренние движения, чем бы мы могли быть упражнены; а к возбуждению на то своего двора пользуется как персональною к себе преданностию того Беранже, так и его натуральною слепою тонкостию, приводя его к увеличиванию его собственных фантомов».
Обширность России заставляла правительство в одно время вести переговоры о союзе с крайнею державою на западе Европы и принимать меры предосторожности относительно китайских границ. Генерал-поручик Шпрингер донес в июле из Усть-Каменогорской крепости, что по разведыванию оказывается на границах множество китайского войска. Вследствие этого собралась конференция из Вильбоа, Панина, графа Захара Чернышева, графа Эрнста Миниха, кн. Александра Голицына, Веймарна и Олсуфьева и донесла императрице, что она решила: 1) предписать виды и к исполнению их общие меры сибирским губернаторам и другим управителям для приведения в лучшее состояние этой отдаленной области; 2) постановить правила о китайской торговле и таможенных делах; 3) сделать новые распоряжения относительно защиты границ, чтоб не подвергались они внезапным нападениям; 4) ближайшими и пристойнейшими средствами начать с китайцами переговоры для прекращения настоящих замешательств хотя до того времени, пока здешние границы будут достаточно укреплены, чтоб здешние требования можно было подкреплять с оружием в руках. Конференция полагала: 1) что необходимо разделить Сибирь на две губернии и учредить губернаторов в двух местах, Тобольске и Иркутске, и притом переменить правила относительно распространения там звериной ловли, правила, благодаря которым в этой обширной и очень малолюдной стране значительная часть народа остается без всякого попечения, будучи рассыпана в отдаленных северных пределах, провождая жизнь почти скотскую и наконец совершенно погибая. Надобно предписать тамошним губернаторам и другим начальникам, чтоб они выгодами и ласками привлекали людей к выходу из тех холодных пределов и, сводя их ближе друг к другу, заводили селения к южной стороне; этими поселениями и границы будут приведены в лучшее состояние, и польза, получаемая от земледелия и других сельских промыслов, несравненно превзойдет ту, которая теперь получается от одной звериной ловли в бесплодных северных землях; 2) китайцы перевели торговлю из Кяхты в Ургу с целию заставить русских купцов ездить в свой китайский город, и хотя теперь китайцы немножко сбавили своей спеси и начинают опять ездить в Кяхту с товарами, однако конференция рассуждала, нельзя ли в пользу русских купцов учредить особую вольную компанию, ибо в таком случае не будет перебивки в ценах и компания будет для собственной пользы стараться, чтоб не было тайного провозу товаров, почему в сборе пошлин не будет происходить ущерба. Но пока учредится компания, конференция полагает нужным: 1) позволить по-прежнему всякому русскому купцу иметь участие в этом торге; 2) но, вместо того чтоб ехать прямо в Кяхту, купцы должны останавливаться в Селенгинске и здесь выбирать маклеров, которые и разменивают в Кяхте товары по установленной цене, чтоб купцы перестали друг другу делать подрыв. Для безопасности Сибири содержать в ней 11 полков; отправить в Омск и Селенгинск полевую артиллерию; увеличить генералитет еще одним генерал-майором, так чтобы генерал-поручик жил в Омске или где обстоятельства потребуют, один генерал-майор – в Петропавловской крепости, другой – в Усть-Каменогорске, третий – в Бийске, четвертый – в Селенгинске. Держать полки в соединении, готовыми к отпору неприятеля, а не по форпостам.
Глава вторая
Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1765 год
Винные откупа. – Содержание войска. – Недовольство императрицы флотом и работами в Балтийском порте. – Ревельская гавань. – Путешествие Екатерины по Ладожскому каналу. – Канал от Сяси до Волхова. – Деятельность Сената по вопросу о малолетных преступниках и укрывательстве злодеев. – Твердость императрицы в ограничении пыток. – Записка Екатерины по поводу дела Волынского. – Новости в Сенате. – Беспорядки в коллегиях. – Печальное известие о русской торговле в Константинополе. – Введение картофеля. – Деятельность новгородского губернатора Сиверса. – Комиссия о государственном межевании. – Вопрос об устройстве казарм. – События в областном управлении. – Медленность ревизии. – Комиссия о заводских крестьянах. – Крепостные люди у купцов. – Почта. – Отмена сборов за поставление духовных лиц. – Определение платы за требы. – Раскол. – Дело пыскорского архимандрита Иуста. – Столкновение воронежского епископа с донскими козаками. – Деятельность Румянцева в Малороссии. – Столкновение иностранных колонистов с прежними русскими поселенцами. – Самозванцы. – Общий взгляд на отношения России к Польше. – Диссидентское дело и столкновение Польши с Пруссиею. – Сношения России с другими европейскими государствами в 1765 году.
Год начался решением важного финансового вопроса. Мы видели, что относительно продажи соли и вина правительство находилось в большом затруднении: сильно хотелось облегчить народ уменьшением цены на соль, но нельзя было удешевить соль, как бы желалось, потому что нельзя было отыскать новых источников дохода для покрытия необходимых государственных издержек. Легче соглашались на увеличение цены вина; но тут усиливалось корчемство, которое требовало для своего искоренения много хлопот и, что хуже всего, увеличивало страшно число уголовных дел; в некоторых местах винная продажа предоставлена была магистратам и ратушам, причем происходили «превеликие подлоги и утайки, вражды, доносительства, тяжбы и пресечение купеческого промысла».
В большей части мест винная продажа состояла на откупе; но откупщик должен был вперед заплатить в казну более 2 рублей за ведро при покупке у нее вина и после, при продаже вина в народ, должен был получить себе около 40 копеек для уплаты известной откупной суммы; для правительства было ясно, что откупщики продавали тайком подвозное вино вместо казенного. 26 января императрица приехала в Сенат в начале 9-го часа и, возвращая поднесенный ей доклад комиссии о соли и вине, объявила свою волю, чтоб Сенат немедленно приступил к рассуждению о средствах, как согласить пользу государственную с пользою всего общества, нимало не упуская при этом из виду, чтоб собираемый теперь с вина доход если не умножить, то по крайней мере никак не умалить. После этого прочтен был доклад с собственными примечаниями императрицы, которая объявила, что эти примечания не должны быть приняты за указ, ибо приложены только для объяснения, кроме отмены в наказаниях за корчемство. В 12-м часу Екатерина удалилась; сенаторы стали рассуждать, как бы точнее исполнить ее повеление, и пришли к следующим решениям: 1) Признать полезным и необходимым отдачу винной продажи на откуп. 2) Чтобы притом избежать всех излишних расчетов и удостовериться, что откупная сумма сполна будет доходить в казну, положить основанием откупной сумме расход вина по трехлетней сложности за последние три года. 3) Для большей надежности казне на случай неисправности платежа откупной суммы вино иметь казенное и отдавать его откупщикам по их требованию за наличные деньги по расчету всей откупной суммы. 4) Откупщики должны продавать вино ведрами и бочками по 2 р. 64 коп. ведро, а продажа кружками и чарками оставляется на их волю. Манифест об откупах издан 1 августа; они должны были начаться с 1767 года; доход от продажи вина показан более чем на четыре миллиона рублей. На другой день после публикования этого манифеста князь Вяземский предъявил Сенату именной указ, в котором говорилось, что императрица, будучи обременена другими государственными делами, дозволяет Сенату решить большинством голосов и публиковать корчемный устав. Сенат при этом решении не мог не принять к сведению решения Екатерины по одному корчемному делу: смоленская шляхтянка полковница Ирина Потемкина (вдова Владимира Денисовича) попалась в корчемстве и подала императрице просьбу, в которой повинилась, что велела служанке из своего дома продавать вино и такой проступок учинила как женщина по незнанию строгости законов. Императрица простила ее и приказала возвратить отписанное у нее имение, если только дело действительно происходило так, как показано в челобитной. Третий год в Сенате тянулось неприятное дело о вознаграждении виноторговцам, у которых было разграблено вино 28 июня 1762 года. В 1763 году Сенат признал справедливым вознаградить за расхищенное из кабаков простое вино зачетом откупщикам в откупную сумму; на этом основании теперь он решил подать императрице доклад, что справедливость требует зачесть продавцам виноградного вина их убыток в пошлинный сбор, и убыток этот простирался на 24331 рубль.
Количество подушных денег определено было в 5212685 рублей. Вся эта сумма по распоряжению еще Петра Великого шла на содержание войска; но, кроме того, на это содержание получались деньги из винных, соляных, таможенных и других сборов, так что вся сумма, назначенная на содержание войска, простиралась до 8116601 рубля. Флотом императрица была очень недовольна, что видно из письма ее к Н. И. Панину от 8 июня, после смотра: «У нас в излишестве кораблей и людей, но у нас нет ни флота, ни моряков. В ту минуту, когда я подняла штандарт и корабли стали проходить и салютовать, два из них погибли было по оплошности их капитанов, из которых один попал кормою в оснастку другого, и это во сте, быть может, туазах от моей яхты; добрый час они возились, чтоб высвободить свои борта, что наконец им и удалось, к великому ущербу их мачт и оснастки. Потом адмиралу хотелось, чтоб они выровнялись в линию; но ни один корабль не мог этого исполнить, хотя погода была превосходная. Наконец, в 5 часов после обеда приблизились к берегу для бомбардирования так называемого города. Впереди поместили одну бомбардирскую лодку и когда хотели поставить около нее другую, то с трудом успели такую найти, потому что никто не держался в линию. До 9 часов вечера стреляли бомбами и ядрами, которые не попадали в цель. Сам адмирал был чрезвычайно огорчен таким ничтожеством и признается, что все выставленное на смотр было из рук вон плохо. Надобно сознаться, что корабли походили на флот, выходящий каждый год из Голландии для ловли сельдей, а не на военный».
Мы видели, что Екатерина была также недовольна работами в Балтийском порте; а между тем Сенат докладывал, что надобен новый налог для продолжения работ по его укреплению. Екатерина написала собственноручно: «Усмотрела я из сенатского доклада о Балтийском порте, что без нового налога оной работы никак продолжить неможно; мои же намерения со дня восшествия моего никогда не склонялись к отягощению подданных, но единственно к облегчению и благополучию оных; всякий же без крайней надобности налог есть отягощение; того для необходимая надобность ныне состоит, дабы единожды сделать твердые положения порту Балтийскому, из чего родится первый вопрос, нужной ли сей порт для государства, и потом, как и сколько в нем иждивения для способности и безопасности употребить; причем еще и то вспомнить должно, что полезность преимущество имела пред пышностью». Императрица велела фельдмаршалу Миниху, генералам Панину (Петру Ив.), Муравьеву, Чернышеву и адмиралу Мордвинову иметь конференцию по этому предмету, представить свое мнение вместе с планом работ, «дабы единожды все сумнительства о сей материи решены были». Конференция пришла к тому, что надобно устроить при Ревеле морскую военную каменную гавань для помещения 25 военных кораблей и фрегатов, на что нужно денег 4 миллиона рублей, а работников 3000 человек; надобно употребить все усилия для устройства Ревельской гавани, постройки при Балтийском порте остановить, а сделанный уже там мол обратить в убежище для судов от штормов; для окончания здешних работ довольно 2000 каторжных и 500 гарнизонных солдат с небольшим казенным расходом. Ревельская гавань может быть отстроена в 12 лет, если будет ежегодно выдаваться по 400000 рублей. Екатерина написала на докладе конференции: «Сенат имеет означить, откуда ежегодно сию сумму брать без отягощения народного», а на плане написала: «С Богом, быть по сему». Сенат представил, что на строение при Ревеле каменной гавани «яко на благоугодное и преполезное для общества всех верноподданных дело» он полагает употреблять по 200000 рублей из суммы коллегии Экономии, оставшейся за употреблением в определенные расходы, а другие 200000 рублей отчислять из прежде наложенных на вино сборов.
В августе императрица была в Ладоге, проехалась по каналу. «Канал прекрасен, но заброшен; путешествие по нем очень удобно – во всю дорогу ни малейшего потрясения», – писала она Панину. Екатерина осмотрела начало работ по новому каналу от Сяси до Волхова. На этот канал отпущено было 70000 рублей. Предполагался канал из Переяславского озера в Волгу; но Сенат подал доклад, что надобно повременить проведением этого канала до более точных сведений. Провести его легко, все будет стоить не более 8000 рублей; но переяславские купцы объявили, что им на судах отправлять нечего да около Переяславля годного для постройки судов леса мало и волжские пристани не далее 80 верст. 70000 рублей на канал из Сяси в Волхов назначены были из процентных денег Коммерческого банка; для усиления деятельности обоих государственных банков позволено было всякому вносить в них деньги для приращения процентами, только не менее ста рублей.
В марте и апреле месяцах было несколько чрезвычайных заседаний Сената вместе с коллегиями и в присутствии императрицы. Первое заседание, 10 марта, происходило по делу о малолетных преступниках за неимением точного закона о наказаниях им. Мы видели, что в начале царствования Елисаветы было по тому же предмету чрезвычайное заседание Сената и было постановлено считать по уголовным делам совершеннолетие в 17 лет. Отсутствие точного закона, вероятно, произошло вследствие возражения Синода, что совершеннолетие можно считать и с 12 лет, потому что и в брак позволено вступать ранее 17 лет, и к присяге велено приводить с 12 лет, и вообще «человеку меньше 17 лет довольный смысл иметь можно». Императрица пришла в заседание, выслушала экстракт из дела и подачу голосов и удалилась. После ее ухода продолжалось рассуждение и постановили: по уголовным делам совершенный возраст считать 17 лет; ранее этого возраста пыток не производить, а по исследовании представлять Сенату, которые преступники будут менее 17 лет и смертной казни не заслуживают, а только телесное наказание, тех без представления в Сенат наказывать от 15 до 17 лет плетьми, от 10 до 15 – розгами, десяти же лет и меньше отдавать для наказания отцам, матерям или помещикам. Императрица утвердила это постановление.
Через неделю, 17 марта, другое такое же заседание Сената в присутствии императрицы: слушано было дело о вытях за пристань и укрывательство воров и разбойников, каким образом взыскивать эти выти, со всех ли жителей или только с одних пристанодержателей. Сенат постановил: взыскивать с одних пристанодержателей, ибо истцы ввиду больших вытей большею частию стараются увеличивать свои иски; а чтоб всех жителей опоручить круговою порукою в искоренении злодеев, чтоб не было с их стороны слабого смотрения и даже понаровки, то взыскивать с них штраф по 10 копеек с каждой ревизской души, а с десятских, сотских, прикащиков и старост – с каждого по 5 рублей и штрафные деньги отдавать истцам в иск, а за удовлетворением истцов остальные деньги могут быть употреблены на бедных. В конце апреля в присутствии Екатерины читался в Сенате доклад 2-го департамента и письмо на имя императрицы находящегося в тарском магистрате под караулом купца Зинкова о притеснениях и взятках с него. Екатерина велела сибирскому губернатору исследовать дело и с виновными поступить по законам, только не ставить в вину Зинкову письмо его на высочайшее имя.
Борьба против пытки продолжалась. Мы видели, что в 1763 году запрещено было производить пытки в приписных городах, велено отсылать преступников в провинциальные и губернские канцелярии и тут поступать с крайнею осторожностию. Но в 1765 году Иркутская канцелярия прислала в Сенат доношение, что приписные к ней города находятся от Иркутска в расстоянии от 400 до 3000 верст, и если из них посылать для розыску преступников в Иркутск, то они едва в год могут туда дойти, и на пропитание их с караулом на таком пути по безлюдным местам нужна значительная сумма, которой взять негде. Сенат согласился с этим доношением и просил у императрицы указа. Екатерина написала: «Из сих мест колодников в губернии не возить, а стараться дела окончать без пыток в указанный срок». Эта твердость в данном случае была тем благодетельнее, что в таких отдаленных местах начальствующие лица и так позволяли себе страшные злоупотребления. К этому же году относится собственноручная записка Екатерины по поводу дела Волынского: «Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю читать сие Волынского дело от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера в производстве дел. Императрица Анна своему кабинетному министру Артемию Волынскому приказывала сочинить проект о поправлении внутренних государственных дел, который он и сочинил, и ей подал. Осталось ей полезное употребить, неполезное оставить из его представления. Но напротив того, его злодеи и кому его проект не понравился из того сочинения вытянули за волосы, так сказать, и взвели на Волынского изменнический умысл, и будто он себе присвоивать хотел власть государя, что отнюдь на деле не доказано. Еще из сего дела видно, сколь мало положиться можно на пыточные речи, ибо до пыток все сии несчастные утверждали невинность Волынского, а при пытке говорили все, что злодеи их хотели. Странно, как роду человеческому пришло на ум лучше утвердительнее верить речи в горячке бывшего человека, нежели с холодною кровию; всякий пытанный в горячке и сам уже не знает, что говорит. Итак, отдаю на рассуждение всякому имеющему чуть разум, можно ли верить пыточным речам и на то с доброю совестию полагаться? Волынский был горд и дерзостен в своих поступках, однако не изменил; но, напротив того, добрый и усердный патриот и ревнителен к полезным поправлениям своего отечества и так смертную казнь терпел, быв невинен, и хотя б он и заподлинно произносил те слова в нарекание особы императрицы Анны, о которых в деле упомянуто, то б она, быв государыня целомудрая, имела случай показать, сколь должно уничтожить подобные малости, которые у ней не отнимали ни на вершка величества и не убавили ни в чем ее персональные качества. Всякий государь имеет неисчисленные кроткие способы к удержанию в почтении своих подданных; если б Волынский при мне был и я б усмотрела его способность в делах государственных и некоторое непочтение ко мне, я бы старалась всякими для него неогорчительными способами его привести на путь истинный. А если б я увидела, что он не способен к делам, я б ему сказала или дала разуметь, не огорчая же его: будь счастлив и доволен, а мне ты не надобен! Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены, – изволь мериться на сей аршин; а если кто из вас, мои дражайшие потомки, сии наставления прочтет с уничтожением, так ему более в свете, и особливо в российском, счастья желать, нежели пророчествовать можно».
В Сенате особенною пылкостию отличался по-прежнему князь Яков Шаховской, несмотря на преклонные годы. Во время комиссии над Хорватом последний в своих доношениях в эту комиссию позволил себе выходки против Шаховского; теперь, когда Хорват был уже осужден вместо смерти на лишение всех чинов, Шаховской потребовал, чтоб Хорват дал ему удовлетворение за нанесенную обиду. На докладе Сената об этом Екатерина написала собственноручно: «Может ли для общества мертвый человек сатисфакцию дать? Если сей вопрос решен будет, то резолюцию дам».
Из молодых сенаторов особенною ретивостию отличался Петр Иванович Панин, что, как видно, не очень нравилось его товарищам. Однажды он стал читать свое мнение о вотчинных делах, кого и при каких случаях надобно почитать настоящими вотчинниками. По выслушании мнения девять человек сенаторов объявили, что они об этом мнении ничего сказать не могут, потому что мнение подано ни по какому делу, на будущий случай и потому еще, что предлагать обо всем с объяснением законов принадлежит генерал-прокурору. Графы Фермор и Бутурлин объявили, что мнение очень пространно и потому, не получа копии, войти в рассуждение нельзя. Олсуфьев объявил, что подаст свое мнение. Этим дело и кончилось.
Мы видели, что императрица позволила Сенату провести корчемный устав решением большинства голосов; в конце года такое же позволение дано было относительно частного тяжебного дела. В описываемом году Сенат в первый раз получил вакацию от 15 до 30 июня; но для входящих дел, которые бы требовали немедленного решения, должно было оставлять для присутствия по одному сенатору из каждого департамента с их согласия.
Беспорядки в новой коллегии Экономии подали повод Сенату принять такое решение: приказали во все присутственные места послать указы следующего содержания: по случаю собственного ее императорского величества рассмотрения о происшедшем в некотором присутственном месте непорядке, из последовавшего за собственноручным подписанием тому месту с материнским от ее величества исправлением высочайшего указа Сенат, приняв все в том указе к исправлению оного места изображенное за общее и всем прочим местам наставление, для того, стараясь о исполнении оного, предписывает нижеследующие пункты, содержащие в себе высочайшую волю и повеление: 1) Дабы вместо возложенных на присутственные места трудов не поставляли они прямой своей должности в приказных только обрядах и не обращали б упражнений своих в единственные споры и дела не приходили бы чрез то в совершенный упадок. 2) Не выступать из пределов своего звания, не наносить одному против другого раздражений и партикулярных неудовольствий, не заходить друг против друга в недельные письменные голоса, а потом и в персональные протесты. Довольствуются только по канцелярскому порядку репортами, что указы посланы; но никто о том не печется и не взыскивает, чтоб оные самим делом исполнены были. 3) Лихоимственные дела не неважными, а разрушающими правосудие и повреждающими государственное положение почитать. 4) Членам не избегать от заседаний отговорками ни старостию лет, ни болезненными припадками и тем не терять времени чрез развоз канцелярскими служителями дел для подписки по домам, ибо не может быть там общего рассуждения, где за таковыми членов извинениями нет частого общего собрания. 5) Не причинять делам остановки неимением полных собраний. 6) Прокурорам помнить свою инструкцию. 7) Чтоб, досадуя на персону, никто не мстил пренебрежением в делах должности своей, но старались бы порученные дела почитать за предмет чести и обязательства своего к ее императорскому величеству и отечеству, следовательно, и труды свои нести так, чтобы архивы наполнять документами прямых дел, а не пустыми бумагами
Мы видели, что знаменитый Волков, ставши президентом Мануфактур-коллегии, жаловался, что эта коллегия без его ведома позволила кн. Долгорукову завести хрустальную фабрику; коллегия оправдывалась тем, что дело еще не приведено к окончанию; несмотря на то, Сенат предписал коллегии без согласия президента никому не давать позволения заводить фабрики.