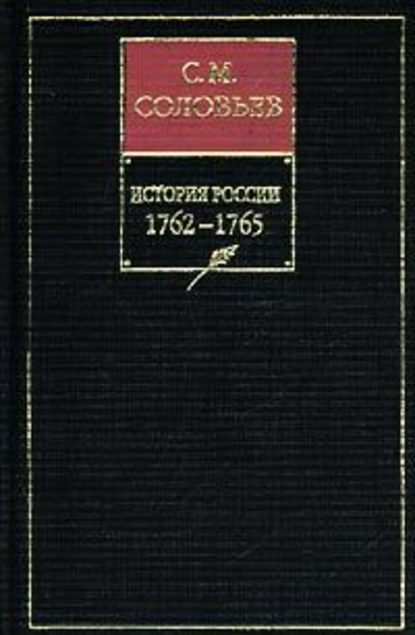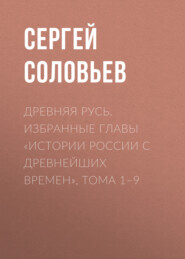По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России с древнейших времен. Книга ХIII. 1762–1765
Жанр
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сенат должен был остановить попытку возобновить старое допетровское распоряжение с ремесленниками. Летом описываемого года императрица велела устроить карусель, и обер-шталмейстер князь Репнин отправил в Главный магистрат требование, чтоб выслал портных немцев и русских для работы к каруселю. Главный магистрат отвечал, что по своему регламенту он не может этого сделать без Сената, а Сенат приказал: послать указ кн. Репнину, что Главный магистрат отвечал согласно с законами о непринуждении цеховых портных к работе, поэтому и Сенат иначе определить не может, а может он, г. обер-шталмейстер, публиковать о свободной явке портных за настоящую плату и этими свободно явившимися, а не принужденными исправляться.
В юном русском мануфактурном мире произошло крупное явление, которое показывало, как недолго обширные заведения остаются в одной фамилии: статский советник Алексей Затрапезнов свою полотняную ярославскую фабрику со всеми принадлежностями продал коллежскому асессору Савве Яковлеву за 600000 рублей. Что касается внешней торговли, то мы имеем от описываемого времени печальное известие русского посланника в Константинополе Обрезкова, который доносил императрице, что вольное кораблеплавание по Черному морю не может привести русскую торговлю в желаемое состояние по причине чрезвычайного невежества и неразумия русских купцов. Купцы эти с заключения последнего мира не только не разбогатели, но многие беднее стали; кредит их подорван до такой степени, что не могут получить денег иначе как за 20 и по меньшей мере за 15 процентов, да и то отдавши под залог товары. Панин написал на этом донесении: «Выражения не мягки, но, к несчастию, верны».
В промышленности земледельческой произошла в описываемое время важная новость: введен в употребление картофель. Новгородский губернатор Сиверс прислал в Сенат доношение, не угодно ли будет для завода земляных яблок выписать их прямо из Ирландии. Сенат приказал выписку этих яблок поручить Медицинской коллегии, но с тем, чтоб она поручила это кому-нибудь из купцов частным образом. Императрица приказала на выписку картофеля употребить до 500 рублей. Медицинская коллегия издала наставление, как разводить и употреблять картофель; наставление это оканчивается так: «По толь великой пользе сих яблок и что они при разводе весьма мало труда требуют, а оный непомерно награждают и не токмо людям к приятной и здоровой пище, но и к корму всякой домашней животине служат, должно их почесть за лучший в домостройстве овощь и к разводу его приложить всемерное старание, особливо для того, что оному большого неурожая не бывает и тем в недостатке и дороговизне прочего хлеба великую замену делать может».
В продолжение нашего рассказа о царствовании Екатерины мы нередко будем встречаться с этим новгородским губернатором Сиверсом, который предлагал выписать картофель из Ирландии. Выбор Сиверса в губернаторы принадлежал к числу самых удачных выборов Екатерины. Сиверс имел то, что так редко можно было тогда найти между областными правителями: приготовление к деятельности, образование, бывалость за границею не по-пустому, но с обращением внимания на тамошние явления. Разумеется, мы не должны требовать от Сиверса, чтоб он при тогдашних условиях, при отсутствии пустивших глубоко корень исторических учреждений очень сдерживался в своих бюрократических стремлениях, не предпочитал искусственных средств для достижения своих целей. Сын эстляндского дворянина, Яков Сиверс начал свое поприще в одной из тогдашних практических школ, где молодые люди учились и служили вместе; мы видим его в начале царствования Елисаветы юнкером в Иностранной коллегии. В Старости при воспоминании об этом времени у Сиверса вырывались слова: «Где ты, блестящее время бессмертной Елисаветы, когда восемь послов иностранных так же сильно добивались твоего союза, как и удивлялись твоей красоте». Будущность молодого Сиверса была обеспечена покровительством дяди, барона Карла Сиверса. Семнадцати лет Яков Сиверс поехал чиновником посольства в Копенгаген, откуда потом переехал в Лондон. По возвращении из Англии, к которой сильно пристрастился, он переменил дипломатическую службу на военную, из чиновников посольства сделался премьер-майором, участвовал в Семилетней войне, во время которой вел с Ив. Ив. Шуваловым секретную переписку о ходе военных дел. Расстроившееся во время войны здоровье заставило его ехать в Италию, где он узнал о вступлении на престол Екатерины; вскоре после того он возвратился в Россию и в 1764 году был назначен новгородским губернатором. Перед отъездом в свою губернию Сиверс провел месяц в Петербурге и в это время имел по крайней мере 20 аудиенций у императрицы, и каждая продолжалась по нескольку часов: обсуждались статьи общей и тайной губернаторской инструкции, рассматривались карты и планы. Сиверс получил приказание писать прямо императрице и приезжать в Петербург, когда сочтет это нужным.
Тогдашняя Новгородская губерния простиралась на 1700 верст в длину и 800 в ширину, через нее шло сообщение между двумя столицами, она граничила с одной стороны с Литвою, с другой – с Швециею и Белым морем. По прибытии в Новгород Сиверс нашел губернский архив, погребенный под развалинами упавшего свода в цейхгаузе, где архив хранился; по двум– или тремстам просьбам к губернатору по гражданским делам в год решалось по два или по три дела. Во всей губернии не было, собственно, никакой полиции. Приказания воеводы или губернатора передавались сотским, и так как сотские были обыкновенно безграмотные, то читал им их и писал донесения церковный дьячок. Со времени указа Петра III о вольности дворянской губернатор не имел права поручить ни одного дела жившим в его губернии дворянам, как это делалось до 1762 года; теперь если дворяне принимали какое-нибудь поручение от губернатора, то только выгодное. Более тысячи преступников содержалось в тюрьмах, и более тысячи других было отпущено на поруки. В числе уголовных преступников было человек 20 дворян, и в каждой из пяти провинций до 50 человек подлежали пытке. Сиверс доносил, что в кратковременное его пребывание в Новгороде не проходило дня, в который бы он не слыхал о буйстве, насилии и даже смертоубийстве в спорах между соседями, вследствие чего он просил о возобновлении генерального межевания. «Новгородская область, – писал Сиверс императрице, – достойна носить прозвище Нормандии. Думаю, что ни одна другая область в целой империи так не нуждается в новом Уложении, которое бы сократило судопроизводство. Ябеднические увертки достигли здесь такой степени, что нет средств к окончанию процессов. В течение 1764 года начато 53 процесса и ни один не окончен, равно как и процессы прошлых годов. При размышлении о средствах создать и ободрить промышленность первым бросившимся мне в глаза препятствием была обязанность горожан беречь вино и соль и продавать соль как казенный товар. Что касается крестьянина, то здесь главным препятствием служит неограниченная власть дворян налагать на своих крепостных какой угодно оброк или, лучше сказать, поступать с ними по внушению алчности и по отсутствию сознания собственного интереса. Несчастные существа большею частию находятся под властию таких господ, которые не знают, что богатство крепостного составляет богатство господина. Неограниченная власть требовать с крестьянина какой угодно работы и брать какой угодно оброк, часто решительно выше всякого вероятия, есть, без сомнения, главная причина, почему тысячи русских беглецов наполняют Литву и Польшу. Где зло еще не дошло до такой крайности, там крестьянин, видя, что земледельческие занятия не дают ему столько, сколько требует господин, принужден идти за 1000 верст искать больших заработков. Кроме происходящей отсюда очевидной невыгоды для земледелия, этого нерва государственного, произведения земли продаются слишком дорого, работник требует слишком высокой платы, что служит неодолимым препятствием для фабрик. Увеличению народонаселения полагается не меньшее препятствие в том, что крестьянин должен покидать свою семью». Сиверс в своей похвальной ревности к облегчению участи земледельческого народонаселения заговаривается: если б крестьянин, не чувствуя тягости от помещика, оставался на родной земле и возделывал ее, то для фабрик еще менее было бы рук и заработная плата была бы еще выше. Главное зло происходило именно от малолюдности, от недостатка рабочих рук, что удерживало так долго и крепостное состояние. Но если уничтожение этого печального явления было так трудно для правительства, то возможно было вмешательство правительства для положения границ произволу, и Сиверс требовал правительственного определения количества оброка и количества рабочих дней. «Я, – пишет Сиверс, – сам нашел, что один помещик брал по пяти рублей оброка с крестьян, живущих на песке и не имеющих пашни». Сиверс требовал также определения денежной суммы, взносом которой крестьянин имел бы право выкупаться. Сиверс обратил внимание на то, что расширение Петербурга и надобность для него все в большем и большем количестве строевого и дровяного леса отзовется вредно на Новгородской губернии, обезлесит ее и воспрепятствует заведению фабрик; он предлагал учреждение особой камеры, которая бы собирала сведения о лесах и определяла бы количество леса, которое можно было вырубить. В одной из новгородских провинций находились лесничие, подведомственные Адмиралтейс-коллегии: они занимались одним – продажею позволений на рубку леса – и тем обогащались. Для предупреждения недостатка или дороговизны топлива Сиверс предлагал вводить в употребление торф и особенно каменный уголь: ему подана была надежда, что последний можно найти на берегах Ильменя. Сиверс находил недостаточным управление прежними монастырскими крестьянами, находившимися теперь в ведении коллегии Экономии: один человек с двумя помощниками и писцом заведовал 20000 душ; крестьяне управляются сами, и их бурное самоуправление вредно для благосостояния отдельных лиц. Для улучшения быта жителей Новгорода Сиверс предлагал освободить их от военных постоев и с этою целию построить казармы как для гарнизонного баталиона, так и для двух стоящих там пехотных полков; казармы должны быть построены на счет города, дворянства и окрестных имений; предлагал основать публичную школу или гимназию для детей дворян и горожан, а в других городах губернии низшие школы и преобразовать духовные семинарии. Для улучшения земледелия вообще в России Сиверс указывал на необходимость учреждения земледельческого или сельскохозяйственного общества, которое было бы тем полезнее, чем невежественнее русское дворянство относительно средств удобрения полей и лугов, осушения болот, лесоводства, сельских построек и проч. Сиверс говорил насчет учреждения общества с кн. Вяземским и Олсуфьевым, и они согласились с ним; главное занятие общества должно было состоять в знакомстве с сочинениями по сельскому хозяйству, выходившими в Англии, Германии, Швейцарии и Швеции. Члены общества отмечают в этих сочинениях то, что с пользою может быть применено в России, и дают переводить отмеченные статьи, которые составят содержание периодического издания. Сиверс был свидетелем в Англии начала подобного общества, капитал которого в первое время не превышал и 50 гиней, а потом в короткое время это общество стало раздавать многие тысячи фунтов стерлингов и снаряжать корабли для своих целей.
Для поднятия торговли и промышленности в Новгороде Сиверс предлагал следующие средства: Новгородскому магистрату выдать 10000 рублей на 10 лет из казны для раздачи новгородскому купечеству; купцу Власову выдать 5000 рублей для усиления кожевенного завода; позволить тому же Власову купить до 20 душ мужеского и женского пола, которые были бы ему крепки (!). Из других местностей Новгородской губернии Старая Русса сначала привлекла особенное внимание Сиверса: мы видели, что этот город недавно потерпел от страшного пожара, надобно было его восстановить; кроме того, Сиверс очень ценил соляные варницы старорусские. Любопытно донесение Сиверса в Сенат о том, в каком состоянии нашел он Старую Руссу: воеводская канцелярия помещалась в таком маленьком и плохом доме, что можно сравнить его только с двойною крестьянскою избою; судьи и канцелярские служители с трудом помещались в верхнем этаже; в нижнем в средине находилась казна, по одну сторону которой содержались колодники, а по другую – архив; вследствие такого соседства казны с колодниками из нее уже было выкрадено около 300 рублей. Архив находился еще в худшем состоянии, чем новгородский: бумаги погнили, очень многих дел разобрать было уже нельзя, потому что листы рассыпались лоскутьями; неоконченных счетов Ревизион-коллегия считала на Старорусской канцелярии более 230. Сиверс представлял, что необходимо построить каменный дом для воеводы и канцелярии.
К двум из общих мер, предложенных Сиверсом, было немедленно приступлено. 5 марта издан был указ об учреждении «Комиссии о государственном межевании» из генералов Панина, Мельгунова, Муравьева, президента Вотчинной коллегии Лунина и князя Вяземского. Восстановлялось дело Елисаветы, приводилась в исполнение мысль Петра Ив. Шувалова, и потому в указе говорилось: «Ее императорскому величеству подлинно известно, что межеванье к государственному и народному спокойствию весьма нужно; но теперь только то неизвестно, полезно ли его на таком основании производить, как доныне установлено, и не нашлось ли во время течения оного на самой практике каких-либо неудобств и затруднений, сначала иногда непредвиденных». Другой проект Сиверса, о казармах, был переслан в воинскую комиссию и встретил здесь сильные возражения. «Если рассуждать о сем деле по поверхности одной, не вникая в самую внутренность вещей, то покажется тотчас великая польза и помещику, и мещанину, и солдату, и казне, ибо помещик за самую малую, так называемую добровольную дачу избавлен будучи вечно от постоя, спокойнее и земледельство свое, и экономию продолжать может; мещанин, не утесняем от постояльца, в торгах своих и промыслах помешательства иметь не будет; солдат спокоен останется, получа себе дом, ему принадлежащий, где он как хозяин жить спокойно станет, а при всем оном и казна ничего не теряет. Но коль скоро прилежнее и беспристрастнее важность сего разобрать, то встречаются следующие неудобности, службе и воинским порядкам вредные, да и мещанству и крестьянам весьма не полезные: 1) Солдат, получа собственный свой дом, сделается неминуемо хозяином, и должен он будет тогда за домом смотреть, снабдевать его всем нужным, что, занимая большую часть время у солдата, нечувствительно выведет его из его должности, и вдруг из исправного солдата сделается сперва мещанин, а потом, умножа хозяйство свое и приуча себя к корысти, начнет торговать и будет дурной солдат, дурной мещанин и дурной купец. 2) Теперешнее непременных квартир учреждение неописанную пользу имеет и ту, что солдат и его хозяин, будучи в беспрестанном друг с другом обхождении, так между собою свыкаться начинают, что нетокмо за злодея себе хозяин постояльца не считает, но, пользу друг от друга видя, согласно и живут, что все теперь ясно оказывается; а чрез отлучение солдата от мещанина они сделаются паки чужды, согласие кончится, и старинное страшное о солдате мнение опять возобновится, которое теперь так счастливо из мыслей подлых людей выходить начинает». Указав потом на огромные издержки, каких потребуют постройка и содержание казарм, воинская комиссия, однако, принимала за полезное построить казармы для гарнизонов, относительно же других войск построить квартиры только для одного штаба, ибо действительно от квартирования полкового хозяйства и лазарета происходит городским жителям утеснение; построение же казарм для гарнизонов, уменьшая излишнюю тесноту в городе, не делает никакого вреда гарнизонной службе затем, что гарнизонные солдаты не подвержены такой строгости и ежеминутному выступлению в поход, как полевые войска. Императрица написала на докладе комиссии: «С удовольствием прочитав сей доклад, полезным его нахожу, и исполнять по нем».
Мы не можем покинуть деятельности Сиверса в этом году, не упомянув о переписке его с Екатериною по поводу следующего случая. Двое крестьян, родные братья, рубили дрова в лесу; приезжает третий, чужой, и заводит ссору; от слов дело доходит до драки; один из братьев ударил чужого топором, и тот падает мертвым. Обоих братьев приводят на суд. «Кто из вас убийца?» – спрашивает судья. «Я!» – отвечает старший. «Нет, я!» – перебивает младший. «Не верьте ему, – говорит старший. – Он нарочно себя клеплет, потому что у меня жена и дети». Младший продолжает утверждать, что он убийца. Сиверс донес Екатерине, и та решила спор прощением преступника, который бы из братьев им ни был. Уведомляя императрицу, что помилование объявлено братьям, Сиверс писал: «Их слезы служили самою красноречивою благодарностию за жизнь, возвращенную им человеколюбием их государыни». Екатерина отвечала: «С удовольствием увидела я доброту вашего сердца из радости, с какою вы объявили прощение двоим братьям, из которых каждый объявлял себя преступником, чтоб спасти другого. Все это дело заслуживает быть публиковано в газетах для чести сердца человеческого, и тут одна природа: нет ни науки, ни воспитания».
Из истории областного управления в других частях России заметим два известия с юга и севера. Белгородский губернский прокурор Брянчанинов жаловался Сенату на губернскую канцелярию и самого губернатора генерал-поручика Нарышкина, выставляя упущения в делах; а губернатор жаловался на прокурора, что тот затрудняет производство дел. Сенат приказал: к губернатору и в губернскую канцелярию послать указ, что главною причиною несогласия должна быть какая-нибудь скрытная ссора, и потому Сенат, не входя в подробное рассмотрение дела, что могло бы повести для обеих сторон к неприятным последствиям, желает его в самом начале потушить в надежде, что и сами они, видя такое к ним снисхождение, будут стараться ему соответствовать и не только оставят все прежнее между собою несогласие, но, помогая друг другу в делах, будут единодушно стараться о прямом исполнении своей должности.
С самого далекого севера пришло донесение правящего воеводскую и комендантскую должность в Кольском остроге майора Абатурова с жалобою на Архангельскую губернскую канцелярию, которая наложила на него взыскание за нескорую доставку ведомостей: указ из губернской канцелярии прислан 11 августа, по которому обстоятельный репорт сочинен и послан 15 августа по неимению оказии чрез Окиян-море, почт же там нет, и учредить их в летнее время за великими болотами никак нельзя, затем и прочие ведомости и репорты хотя в указный термин учинены и бывают, однако, запечатанные, лежат по месяцу и больше и посылаются чрез Окиян-море, где за великими штормами бывают в пути немалое время. Притом же дел сочинять и писать некому, ибо при воеводской канцелярии находятся только два писца, из которых первый почти ничего при огне писать не может и летами так престарел, что с нуждою ходит, а последний едва только писать умеет, и притом оба весьма худого состояния и беспонятны; от губернской же канцелярии приказных служителей требовал он двукратно, но в резолюции на то получил, чтоб ему в доброе состояние привесть имеющихся служителей, на что он репортовал, что их как в непорядках закоснелых людей поправить и в состояние привесть никак невозможно, почему принужден он всякие текущие дела начерно писать. Все те воеводской канцелярии прошедших лет дела без переплету брошены в холодной подле канцелярии каморе и по большей части погнили и передраны, так что и разобрать неможно, зачем требуемых Ревизион-коллегиею с 730 по 763 год счетов едва и отыскать можно ль, и ему не только означенный архив разбирать и текущих дел исправлять некем, и от того б его защитить, ибо он более склонность и охоту имеет к воинской службе.
Срок для окончания ревизии давно уже прошел, а между тем оказывалось, что по разным губерниям большое число душ еще не обревизовано, а именно по второй ревизии показано было в Московской губернии 2062907; из этого числа теперь было обревизовано 1916859, тогда как оказалось 2099709, затем в числе по прошедшей ревизии осталось не обревизовано 115100 душ. В Новгородской губернии 736613, обревизовано 698953; против того оказалось 800146, необревизованных 41676 душ. В Белгородской 655382, обревизовано 631659, против того оказалось 693368, затем не обревизовано 31358. В Воронежской 679676, обревизовано 674258, против того оказалось 809184, не обревизовано 21461. В Казанской 1085104, обревизовано 1071176, против того оказалось 1207648, не обревизовано 49077. В Смоленской 246262, обревизовано 217077, против того оказалось 246501, не обревизовано 29185. В Сибирской 224167, обревизовано 228862, против того оказалось 279000, не обревизовано 19874. Сенат заметил, что хотя во многих провинциях и уездах обревизованное число душ превосходит число душ прежней ревизии, однако нигде не упоминается, чтоб подача сказок совершенно была окончена, и потому нельзя узнать, сколько еще осталось в тех местах необревизованных душ; губернаторы пишут, что сказки не все еще поданы.
Известия о волнениях заводских крестьян не прекращались. В Воронежской губернии мастеровые и рабочие на Липском и других заводах князя Репнина жаловались на обиды от поверенного княжеского и прикащиков; губернатор отправил в город Романов для исследования подпоручика Рагозина. Поверенный и прикащики заперлись, что никаких обид не делали; тогда рабочие, человек до 300, явились к Рагозину и единогласно закричали, что они работать и в послушании у князя Репнина и прикащиков его не будут, также не будут ничего отвечать и подписываться, а желают исправлять казенные работы, как они состояли до отдачи заводов князю Репнину. Губернатор (Лачинов) писал в Сенат, что он почитает ненужным входить в дальнейшее следствие, ибо все дело в том, что этим людям не хочется называться помещичьими крестьянами. Сенат отвечал, что, как он хочет, только чтоб привел крестьян в повиновение по указам. Скоро после этого императрица нарядила комиссию из Петра Панина, Муравьева, князя Вяземского, Шлаттера и Аполлона Пушкина относительно заводов и приписных к ним крестьян. Комиссия должна была рассмотреть прежние положения и представить императрице с мнением, в чем прежнее устройство требует исправления, как к тому приступать, сообразуя народное облегчение и спокойствие с государственною прибылью, приводя каждого в правосудные границы, благодаря которым, не опасаясь праведного наказания, могли бы пользоваться справедливо приобретенным подземным сокровищем к обогащению государственному. Комиссия должна была решить следующие вопросы: 1) полезно ли, чтоб заводы были в партикулярных руках, или лучше им 2) быть в казенном содержании; 3) если в партикулярных руках заводам быть, 4) за дворянами или за недворянами; 5) какие меры брать, дабы впредь крестьяне не бунтовались; 6) рассмотреть, от чего сей вред происходил; 7) положить на мере, каким образом казенных по заводам должников приводить к заплате долгов; 8) полезно ли умножать заводы; из чего последует 9) рассмотрение о сбережении лесов.
В конце года явилась жалоба казанских чернопахотных крестьян, приписных в Оренбургской губернии к Авзянопетровским заводам дворянина Евдокима Демидова, жалоба была подана поверенным крестьянином Дехтеревым. Демидов представил в Берг-коллегию 4 человек, в том числе и Дехтерева, которые все и были отправлены к следствию в Екатеринбург в Канцелярию главного правления заводов; но один из них, Тунгусов, бежал и подал челобитную императрице. Тунгусова приговорили к плетям и к отсылке на Монетный двор в работу на два месяца, ибо недавно учрежденная комиссия о горных заводах в мнении своем заявила, что, по ее наблюдению, во многих подобных крестьянских жалобах главными виновниками бывают те дерзновеннейшие и ухищреннейшие крестьяне, которые, желая получить от товарищей своих награждение, нарочно уговаривают их к принесению жалоб от всего общества и вызываются быть поверенными, будучи готовы за полученные деньги сносить иногда и некоторое страдание.
Но незадолго перед тем Сенат указал на любопытное отношение заводчиков к работникам. Другой Демидов, Прокофий, просил об увольнении его от казенной поставки железа. Наведена была справка, и оказалось, что в 1702 году по желанию и прошению комиссара Никиты Демидова дозволено ему ставить в казну всякие военные снаряды по представленным от него ценам и для того отданы ему во владение казенные Верхотурские железные заводы. На этом основании Сенат решил, что наследников Демидова от казенной поставки освободить нельзя и ставить они должны по прежним ценам, потому что в 1703 году в Верхотурском уезде приписаны к заводам Демидова Аяцкая и Краснопольская слободы да село Петровское с деревнями, и если б Демидовы от поставки уволились, то и слободы с деревнями надобно у них взять; и хотя с того времени как на работников, так и на всякие припасы цены несколько возвысились, однако Демидовы дают приписным рабочим прежнюю плату.
Мценский купец Коняев подал любопытное доношение в Сенат, что по нападкам, не дождавшись срока платежа взятых им из Медного банка денег, засадили его в тюрьму и стали продавать имение; продали крепостных людей дешевою ценою: пять душ, в том числе три женщины, проданы за 20 рублей; кроме того, 8 душ продано за 150 рублей, 4 мужеского и 4 женского пола, в том числе прикащик его, аккредитованный магистратом для купечества и подрядов. Через несколько месяцев после этого Сенат в своем указе 25 октября указал на один из источников крепостного отношения крестьян к купцам, источник, который мы встречаем повсюду в неразвитых, бедных обществах, именно закладничество вольное и невольное: многие крестьяне, говорит Сенат, отлучаются от домов своих в разные города, но, будучи у купцов в работах и услужениях, обязываются векселями, и в случае неуплаты купцы протестуют эти векселя в отдаленных городах и по протесте долго держат у себя умышленно, для накопления процентов, и чрез то бедных крестьян доводят до ссылки в каторжную работу, откуда по указу 1736 года те же самые заимодавцы этих крестьян скупают за положенную плату и тем удерживают их вечно в своих услугах; а некоторые из крестьян, отбывая от платежа положенных податей и поборов, чтоб вечно себя в услуги купцу укрепить и добровольно с ним согласясь, дают в немалой сумме векселя. Сенат велел послать ко всем губернаторам указы, как наивозможно такие беспорядки отвратить и искоренить. Помещики получили право людей своих в наказание за «продерзостное состояние» отдавать в каторжную работу Адмиралтейс-коллегии на желаемое самими помещиками время.
Обратили внимание на почту, которая находилась в очень незавидном положении; должны были обратить внимание и на положение ямщиков. Генерал-поручик Овцын представил, что в 1705 году по указу Петра Великого во всем государстве ямщики были расположены в выти: выть имела по семи дворов, во дворе по четыре души ревизских. С каждой выти велено было содержать для ямской и почтовой гоньбы по три лошади, и хотя многими указами запрещено брать лошадей сверх вытного числа и за разгоном не принуждать ямщиков к найму, но, сколько в котором яму вытей и указных лошадей, о том никогда не было публиковано в народе, и проезжие по незнанию этого принуждают ямщиков жестокими побоями и силою нанимать лошадей с убытком, прибавляя к прогонам по рублю и по два на лошадь, а иногда случается и больше. От таких бесчеловечных побоев и наглостей ямщики несут великую тягость, а особливо на почтовых станах (как и теперь случилось у штат-фурьера Петрищева с яжелбицким ямщиком Григорием Серым). За неимением в тех местах управителей защитить ямщиков некому, потому что почтовые станы во всем государстве состоят по большей части в монастырских деревнях, а управители от этих станов живут на большом расстоянии. В запряжках ямщики несут великую тягость и обиды оттого, что многие проезжие требуют подорожные на весьма малое число лошадей и запрягают под четвероместную карету лошади по 4 и по 3, в карете садятся пассажиров человека по 4 и 2 человека назади, да еще несколько вещей кладут, и за такою великою тягостию ямщики принуждены бывают припрягать лишних лошадей. 25 ноября отправлены были всем губернаторам указы: по всей губернии сделать расписание и станции («и где потребно, и новые назначить станции», – приписала Екатерина собственноручно), назнача, сколько на каждую должно поставить лошадей и где именно этим станциям, а в городах почтовым конторам быть надлежит и не найдутся ли охотники к определению в комиссары и почтмейстеры из отставных («проворных», – приписала Екатерина собственноручно) субалтерн-офицеров доброго поведения и в письменных делах знающих. Губернаторы обязаны были изыскать везде сколько можно кратчайший почтовый путь и представить удобнейшие средства к поправлению больших дорог и всегдашнему их содержанию в добром состоянии.
Мы видели, что Сиверс указывал на недостаточное управление прежними монастырскими крестьянами, отчего и доходов с имений получалось менее, чем сколько можно было получить. А увеличение доходов коллегии Экономии было нужно: соединенные комиссии Духовная и Воинская потребовали от этой коллегии еще 12000 рублей в год на инвалидов, которых сверх штата оказалось 150 унтер-офицеров и 1000 рядовых; сделано также распоряжение и о заштатных богаделенных. Сбор со свадеб за венечные пошлины был отменен; но так как этот сбор шел на лазареты, то коллегия Экономии должна была отпускать ежегодно на лазареты сумму, которая равнялась сумме сбора за венечные пошлины в лучший год. Еще в манифесте 1764 года об окончании комиссии о церковных имениях было сказано: «Избавили мы все белое священство от сбору им разорительного данных (от „дань“) денег с церквей, который прежними патриархами был установлен и по сие время в отягощение священству продолжался, и оный вовсе сложили, так как и собираемую часть хлеба, с монастырей двадцатую, а с церквей тридцатую, на семинарии, к немалому оскудению того же священства до сего бывшие оставили». На том основании, что теперь на содержание архиереев и служителей их положены определенные оклады из коллегии Экономии, отменены были все прежние сборы с поставления в архимандриты, игумены, протопопы и иеромонахи, также с благословенных грамот о строении и освящении церквей, вдовым священникам и дьяконам с епитрахильных, постихарных и перехожих грамот; епитрахильных и постихарных грамот вообще не давать; архиереям, переведенным на новые епархии, старых грамот в них священно– и церковнослужителям не подписывать; во время объезда епархий архиереям на подводы и ни на что от духовенства денег не требовать; удержан только один сбор с поставления священно– и церковнослужителей: с первых – по 2 рубли и со вторых – по рублю. Для прекращения жалоб на вымогательства духовенством больших денег за требы определен был minimum платы за требы сельскому духовенству с запрещением домогаться большего, которое могло быть получено только по доброй воле дающего: за молитву родильнице 2, за крещение младенца 3, за свадьбу, за погребение возрастных 10, за погребение младенцев 3 копейки; за исповедь и причастие запрещено было брать.
Относительно раскола заметим следующие явления. Синод прислал в Сенат ведение: раскольники в числе 30 человек из села Буборина Новгородской епархии прошли в Зеленецкий монастырь, выгнали братию и грабят церковное и монастырское имущество. В Олонецком уезде раскольники собрались и заперлись в избе у одного из своих, Иванова, вместе с неведомыми людьми. Староста, десятские и мирские люди подошли к избе с вопросом об этих неведомых людях; вместо ответа вышел из избы неведомый человек стопором в руках, ударил десятского и отсек ему руку; изумленная толпа не шевельнулась, неведомый человек спокойно возвратился в избу, но вслед за тем пламя вспыхнуло внутри ее, и раскольники сгорели в числе 15 человек.
В описываемое время кончилось долго тянувшееся соблазнительное дело архимандрита Иуста и монахов Пыскорского (Пермского) монастыря, богатого своими соловарнями; в Сенат представлено было 54 экстракта о винах означенных лиц, между прочим о перепилении Спасителева Образа, о наступании на Образ, служение на 4 просвирах, о бое пономаря и о сечении иеромонаха в церкви до крови, о спилении с колоколов подписи и отобрании от церквей колоколов, о снятии с икон окладов и сделании дорогой шапки, о покупке кареты в 500 рублей; о имении ложного с привесною печатью указа, о непомерных поборах с крестьян и о битье на правеже, о смертоубийстве и мужеложстве архимандрита Иуста с келейником, которого наградил 10000 рублей, о дачах из монастырских сумм во взятки духовным и духовного ведомства лицам. На юго-восточной украйне церковь сталкивалась с донскими козаками, с которыми давно уже не сталкивалось государство. Св. Тихон, епископ воронежский, жаловался Синоду, что Донское войско вступает в духовные дела, в дьячки и пономари определяет и грамоты дает, а других само собою отрешает и в козаки записывает; священника Терновской станицы, доносившего о раскольниках, атаман забил в колодку и отослал в войсковую канцелярию неизвестно за что; а наказной атаман Иловайский прислал письмо, в котором с немалым нареканием требовал, чтоб архиерей не касался детей священно– и церковнослужителей, потому что они отправляют козачью службу, а церковные причетники по рассмотрению и определению Донского войска производятся из козаков же.
Воронежский губернатор Лачинов также донес о любопытном явлении в земле Донского войска. В Луганской станице на ярмарке произошел пожар от зажигателя: погорело купеческого и козачьего товара более чем на 127000 рублей. Зажигатели – двое малороссиян, Золотаренко и Чернов, – были пойманы и показали, что, приехав на ярмарку, Золотаренко объявил о себе базарному старшине Волошенинову, что он человек, имеющий у себя тихую руку и быстрый глаз, т.е. просто мошенник, и Волошенинов позволил ему заниматься на ярмарке своим промыслом и, когда его приводили с поличным, отпускал на свободу. Чернов находился в услужении у Волошенинова и мимо настоящих Козаков определен был на ярмарке есаулом. Волошенинов приказал Золотаренку и Чернову зажечь ярмарку с условием, чтоб они отдали ему половину пограбленного на пожаре. По справке оказалось, что атаман Ефремов определил Волошенинова старшиною вопреки сенатской грамоте 1757 года, которою приказывалось отрешить его от команды как человека неблагонадежного.
Относительно Малороссии граф Румянцев в мае месяце подал доклад, что многие города розданы во владение частным людям большею частию последним гетманом – Разумовским, хотя в гетманских статьях нигде не сказано о праве раздавать города, а только деревни и мельницы. По мнению Румянцева, города, особенно обведенные валами, нужно было отобрать от частных владельцев; Екатерина написала: «Все города, не государевыми указами пожалованные, следует отобрать; а о тех городах, если государями пожалованы, о тех войтить с помещиками в негоцияции, дабы добровольно за удовлетворением оные пока уступили; а прежде всего нужно узнать, сколько таких городов и за кем и кем пожалованы». Городские жители, писал Румянцев, от разных притеснений разошлись, записались в козаки, продолжают торговать, но гражданской повинности не отбывают; города опустели, и некоторые только имя городов носят, а вид имеют пустырей; по мнению Румянцева, надобно было запретить торговлю и промыслы тем, кто не записан в городское общество, т.е. сделать то же самое, что в подобных обстоятельствах сделано было в Великой России в XVII веке. Екатерина написала: «Как из сего пункта усматривается, что города почти пусты, того ради сделать рассмотрение, не лучше ли в политическом и коммерческом виде заводить в пристойных и удобных местах новые города полезнее старых, а впрочем, я согласна с его (Румянцева) мнением». Императрица согласилась на просьбу Румянцева выписать искусных людей для улучшения земледелия и скотоводства и для сохранения лесов; устроить почты; но под статьею об улучшении местной артиллерии написала: «Оставляется до времени». В Малой России церковные имения еще не были отобраны, число в них дворов простиралось до 14111; Румянцев жаловался на дурное управление этими имениями; писал о надобности завести первоначальные школы, также военную школу и госпитали. Относительно этих пунктов сохранилось отдельное письмо Екатерины к Румянцеву: «Желаю, чтоб вы тамошних несколько называемых панов склонили к подаче челобитной, в которой бы они просили о лучшем у них учреждении школ и семинарий, и, если можно, о положении духовенства в штатное состояние от духовных или светских такую же челобитну иметь; то б мы уже знали, как починать. Мне Николай Чичерин сказал, что митрополит киевский сам не прочь от сего учреждения будет, понеже он менее дохода с деревень имеет, нежели последний великороссийский архиерей, а мы б ему, преосвященному, если б склонился о штатном положении просить, сделали б весьма выгодные для него кондиции».
Поселение иностранных колонистов на юго-восточной украйне повело к столкновениям с старыми русскими жителями в этой считавшейся пустою земле. Оказалось, что живущие в городе Саратове и в прочих тамошних местах дворяне, купцы и прочие разночинцы имеют зимовья и при них пашню и крестьян по большей части на таких землях, на которые не только никаких крепостей у них нет, но и дач совсем не сделано; город же Саратов наполнен не принадлежащими к нему жителями, между которыми находятся неведомо какие малолетки и так называемые саратовские дворяне. Поселившимся на землях, лежащих междуреками Волгою и Медведицею, собственным ее величества и дворцовым села Золотого крестьянам земель не отведено и дач несделано, а крестьяне этих волостей, несмотря на то что всех около лежащих земель обработать не в силах, иностранцев селиться не пускали; так и прочие старые жители, поселившиеся без указу по рекам Медведице, Хопру и Дону и по притокам их, захватя все лучшие земли, называют их принадлежащими к их имениям. Ниже города Дмитриевска (Камышина) к Царицыну поселены волжские козаки, которые, по сказкам саратовских обывателей, сильно размножились, а между тем здесь было назначено селить иностранцев. Крестьяне Нарышкиных села Никольского и Покровского по реке Медведице указывали на свои владения по этой реке с лишком на 300 верст, захватывая в том числе город Петровск и больше ста селений. Президент Канцелярии опекунства иностранных колонистов граф Гр. Гр. Орлов выставил в своем донесении Сенату все эти явления, очень естественные на степной украйне, как явления, которых терпеть нельзя. Надобно было потеснить слишком просторно живших русских поселенцев, чтоб поместить поселенцев иностранных. Сенат приказал: всем владельцам, которые без дач и крепостей поселились в определенной для иностранцев окружности, отмерить наравне с иностранцами на каждую семью по 30 десятин и сделать дачу, а которые имеют указные дачи и крепости, тем по ним и владеть; если же по числу поселившихся крестьян этой дачи недостаточно, то домеривать по числу душ; а хотя по межевой инструкции надобно бы с тех владельцев взять в казну по 10 копеек с десятины, но так как в манифесте о вызове иностранцев даны им земли без всякого платежа, то подать ее императорскому величеству доклад с таким мнением, что несогласно было бы с ее милосердием, когда выходящие иностранцы станут селиться на пространных и изобильных землях без всякого за них платежа, а подданные ее императорского величества будут платить, умалчивая о том, каковая от этого у тамошних старых жителей может вкорениться зависть к иностранцам.
Так решил Сенат 8 марта. В этом решении он руководился тем взглядом, что заселялась страна пустая сначала русскими колонистами, которые своим поселением взяли землю во владение, завоевали ее для государства если не у чужих народов, то у дикой природы, что было гораздо человечнее; теперь государство из-за очень спорных выгод искусственного увеличения народонаселения чуждым элементом решило среди русских колонистов поместить иностранных, давши им, как обыкновенно бывает в подобном случае, льготы, давши землю даром; рождался естественный вопрос: за что же русские колонисты будут платить за занятую ими землю? На 1 июня Сенат переменил свое решение, велел в докладе вычеркнуть статью, чтоб с русских землевладельцев не брать по 10 копеек за десятину. Сенат был смущен мнением князя Якова Петровича Шаховского, который объявил, что «согласиться не может, ибо инаковое имеет мнение о помещиках, которые, государственные узаконения вместо должного сохранения пренебрегши, своевольством казенные земли присвоили (?), заселили и многие с оных надобные для польз Государственных леса, чрез долгие времена береженные (кем?), истребляли, также и, прочими с тех мест угодьями пользуясь, богатились, и впредь они и наследники их по такой дешевой покупке богатиться будут, к немалому не только соблазну, но и огорчению тех, которые и с лучшими монархам и отечеству заслугами только для того, что, не смея до не позволенного им прикасаться, не только богатств, но и нужного к содержанию своему не имеют; так как учреждена комиссия для рассмотрения, как удобнее межеванье производить, по инструкции ли 1754 года или что из того отменить или прибавить следует, то о всем том ныне, по его мнению, представлять приличности нет, а надобно ожидать конфирмации доклада этой комиссии». В этом деле любопытна также медленность, с какою велось оно: первое решение оставалось неисполненным почти три месяца и потом изменено! Вскоре после этого граф Орлов донес по тому же делу: «От некоторых селений по р. Хопру предъявлены данные им на земли купчия и записи от таких людей, которым те земли нимало не принадлежат, а отведены продавцами из свободных государственных земель, присутственные же места совершают купчия без всяких справок, а некоторым и вновь производят из диких земель дачи. Живущие за помещиками малороссияне по причине отягощения от помещиков просят об отмежевании им особо земли».
В этом году на украйнах, где обыкновенно не бывает недостатка в горючих материалах, начало обнаруживаться явление, которое чрез несколько лет потом повело к большому пожару, явление самозванства. Солдат Гаврила Кремнев из однодворцев бежал из полку, прослужив в нем больше 14 лет. В бегах подговорил двоих крестьян помещика Кологривова и, ездя по разным селам и деревням Воронежской губернии, разглашал сначала, что он капитан, послан с указом, будто курение вина запрещено, сбора подушных денег и рекрутчины не будет на 12 лет, а наконец назвался государем Петром III. Главным помощником его был поп Лев Евдокимов, который сначала возражал ему, что Петр III скончался, и Кремнев отвечал: «Тогда умер солдат». Из неверующего Евдокимов стал горячим приверженцем самозванца и утверждал, что, будучи дворцовым певчим, видел Петра Федоровича и маленького на руках нашивал. Кроме Евдокимова Кремневу помогали: отставной сержант Петров, капрал Григоров, дьячок Антон Попов; они согласились приводить однодворцев все больше и больше в согласие, потом привести их к присяге и ехать в Воронеж, откуда послать в Москву и Петербург с известием, будто проявился государь, а затем самим ехать в обе столицы. Беглых крестьян Кремнев называл генералами: одного – Румянцевым, а другого – Пушкиным. Императрица увидала из дела, что «преступление Кремнева произошло без всякого с разумом и смыслом соображения, а единственно от пьянства, буйства и невежества, что дальнейших и опасных видов и намерений не крылось». На этом основании Кремнев был освобожден от смертной казни; его секли кнутом во всех тех селах, где он о себе разглашал, привязавши на груди доску с надписью: «Беглец и самозванец», потом выжгли на лбу начальные буквы этих слов и сослали в Нерчинск на вечную работу. Били плетьми и сослали в Нерчинск армянина Асланбекова, схваченного с фальшивым паспортом и объявившего себя также Петром III. Самозванство уже соединяется с раскольничеством: беглый солдат Иев Евдокимов, назвавшийся Петром II, проживал у раскольников. Брянского полка беглый солдат Петр Федоров Чернышев в слободе Купенке Изюмской провинции стал разглашать о себе, что он бывший государь Петр Федорович; ему поверил поп слободы Купенки Семен Иванецкий, по желанию Чернышева служил всенощную и молебен, поминая его на ектениях императором. На допросе Чернышев показал, что он однодворец, женат, имеет маленького сына Павла, важное название выговорил без всякого намерения, а единственно потому, что в разные времена, будучи в кабаках и шинках, между незнакомыми людьми слыхал в разговорах о бывшем императоре; говорили разное: иной, что он действительно преставился, а иной, что еще жив. Обоих их высекли кнутом и сослали в Нерчинск: Иванецкого – на житье, а Чернышева – в работу. Главный командир Нерчинских заводов генерал-майор Суворов прислал донесение, что Чернышев и там разглашает о себе то же самое, чему некоторые из тамошних жителей поверили и давали ему много подарков.
Но эти случаи были слишком мелки; на них не обращали большого внимания как происходившие «без всякого с разумом и смыслом соображения». Сильнейшее внимание было обращено на Польшу, хотя и здесь не предугадывали, что присутствуют при начале конца.
После того как южные славянские государства полегли перед турками, а Чехия потеряла свою независимость в борьбе с Габсбургами, славянский мир представлялся двумя обширными независимыми государствами – Россиею на востоке и Польшею на западе, и между этими государствами в XVI и XVII веках шла сильная борьба, иногда не на живот, а на смерть. Оба государства образовались при одинаких условиях; оба явились изначала с обширною государственною областию и с малым сравнительно народонаселением, оба были по преимуществу континентальные, что условливало земледельческий характер, тугое развитие города, промышленности, торговли, господство сельской формы, господство земли, землевладельческого интереса, не умеряемого интересом горожанина, владельца движимого имущества, и при господстве землевладельческого интереса пренебрежение интересом земледельца. В Польше рано землевладельческое сословие берет силу и при благоприятных обстоятельствах стремится к одностороннему развитию, порабощая сельское народонаселение, отстраняя городское от представительства и все более и более ограничивая королевскую власть. Польша представила республику с избранным президентом, хотя и носившим королевский титул; но вся власть находилась в руках известного ряда богатейших землевладельдев, от которых беднейшие находились в зависимости без западноевропейского формального закладничества или вассальства, ибо на сеймах польские магнаты нуждались в толпе приверженцев, которые бы имели, по-видимому, совершенно вольные голоса, пользовались бы вполне одинаковыми правами с самыми знатными и богатыми людьми. Крайность свободы или своеволия, крайнее развитие личности, дошедши до неумения подчиняться ничему, установило обычай, вынесенный из первоначальных обществ, обычай единогласного решения дел (liberum veto). Liberum veto поражало бездействием власть законодательную; крайняя слабость исполнительной власти порождала страшный внутренний беспорядок; отсутствие большого постоянного войска, происшедшее сначала из боязни усилить королевскую власть и поддерживаемое нежеланием давать деньги на содержание армии, – это отсутствие военной силы делало Польшу беззащитною извне, делало ее легкою добычею сильных соседей. Сознание печального состояния государства, сознание возможности близкой гибели явилось, и явились попытки предупредить беду уничтожением сеймовых беспорядков, усилением королевской власти, созданием войска; но попытки эти не могли увенчаться успехом, и не потому, чтоб завистливые соседи этому препятствовали. В других государствах, в Дании, Швеции, где также землевладельческое сословие стремилось к крайнему развитию своей власти за счет других элементов, равновесие было восстановляемо, королевская власть усиливалась вследствие движения других сословий, получивших также значительное развитие. Но в Польше односторонность развития была такова, что одна шляхта имела значение, ибо духовенство было слито с нею в политических интересах. Следовательно, в Польше попытка изменить конституцию могла быть только делом партии из того же шляхетства; она могла случайно иметь успех нынче, но торжество партии противной уничтожало ее завтра, причем движение не получало питания изнутри, из земли, а могло поддерживаться только внешнею силою соседних государств.
Иначе дело шло в России. Здесь долго после основания государства земля по обилию своему и при скудости населения не могла иметь важного значения, не привязывала к себе, не усаживала человека, вследствие чего между князьями долго господствуют родовые отношения, заставляющие их переходить из одной волости в другую; дружина сохраняет свой первоначальный характер, переходит вместе с князем, получает от него содержание движимостию; а чрезвычайное и быстрое распложение княжеского рода отнимает у членов дружины возможность приобресть значение в качестве областных правителей. Когда на севере все начало устанавливаться, то дружина явилась безземельна или малоземельна и могла получить землю только от князя во временное или вечное владение в виде поместий или вотчин; дружина явилась с своим правом перехода, движения, которое оказалось вовсе некстати в то время, когда все усаживалось, устанавливалось, и которое упразднилось совершенно вследствие утверждения единовластия, когда не к кому стало переходить; и так как других прав не было скоплено, то члены дружины стали холопями великого государя. В некоторых городах благодаря выгоде положения торговли и, главное, княжеским родовым отношениям и усобицам развилось самоуправление, но это явление было односторонне в отношении к местности: мы видим его преимущественно, если не исключительно, на Западе, на стороне пути «из варяг в греки», и когда прочный порядок вещей утвердился на Востоке, то города-государи не могли противиться государю московскому и должны были приравняться к городам восточным. Восточная Россия, Московское государство образовалось, таким образом, с сильною верховною властию благодаря отсутствию сильного развития в других органах государственного тела. Но кроме того, малочисленное народонаселение, разбросанное по обширнейшей стране, все более и более увеличивающееся пустынными пространствами, требовало для своего сосредоточения, для направления своих сил к общим целям сильного правительства; наконец, открытость страны, окруженной со всех сторон врагами, тяжелая многовековая борьба с варварским востоком, необходимость постоянно отбиваться от врагов для сохранения независимости требовали строгой дисциплины, постоянной диктатуры. Вот почему Россия явилась в XVIII веке среди европейских государств с отличительным признаком – крепким самодержавием.
Так порознились Россия и Польша на своем историческом пути; но не эта разница была причиною борьбы между ними, она только имела важное значение относительно исхода борьбы.
Россия и Польша получили каждая свою историческую задачу соответственно своему положению. Польша должна была сдерживать напор немцев с запада, Россия – напор варварских орд с востока. Польша не выполнила своей задачи, отступила пред напором, отдала свои области – Силезию, Померанию – на онемечение, призвала тевтонских рыцарей для онемечения Пруссии; но, отступивши на западе, она ринулась на восток, воспользовавшись ослаблением Руси от погрома татарского: она захватила Галич и посредством Литвы западные русские земли. Но в это самое время Россия, окрепнув на востоке и управившись с варварскими ордами, начала двигаться на запад для естественного сплочения всех русских земель, всего русского народа в одно государство; при этом движении в западных русских областях она нашла наезд незваных гостей, которые ополячивали русский народ посредством католицизма. Столкновение было необходимо, и столкновение страшное: Россия двигалась на запад, Польша ей навстречу двигалась на восток; местом встречи, местом столкновения была Западная Россия; с самого начала рождался вопрос: Западной России оставаться ли Россиею и, соединясь с Восточною, Великою Россиею, составить одну Россию или перестать быть Россиею, ибо в Польше очень хорошо поняли с самого начала, что Западная Русь, оставаясь Русью, не будет крепка Польше, особенно при борьбе последней с Великою Россиею; она могла быть крепка Польше только в том случае, если б потеряла русское народонаселение, т.е. если б это народонаселение, лишившись основы своей – народности, веры восточного исповедания, превратилось в народонаселение польское, католическое. Следовательно, внутренняя борьба в двусоставном польском государстве, борьба между польскою и русскою народностию, необходимо должна была принять характер борьбы религиозной при необходимом вмешательстве Великой России, которая должна была заступаться за своих.
В XVII веке эта борьба кончилась с большим ущербом для Польши, которая должна была уступить часть западнорусских областей Великой России, уступить ей Киев. Но понятно, что такой исход борьбы мог только усилить стремление поляков отнять у русского народонаселения, оставшегося за Польшею, его веру и народность. Усиление мер против православия приводило к желанным результатам в одном самом важном для Польши пункте. Польша была государство шляхетское, одна шляхта имела представительство, голос на сейме, следовательно, необходимо было, чтоб это сословие представляло полное единство, состояло из одних поляков-католиков, исключение из представительства русской православной шляхты или обращение этой шляхты чрез католицизм в поляков освобождало республику от влияния сильной России, которое проводилось бы русскими депутатами, русскими должностными лицами. Отнятие политических прав у некатолической шляхты всего более содействовало переходу ее в католицизм, так что в описываемое время православной шляхты, по крайней мере значительной, было уже очень мало. Поляки тем удобнее могли проводить свои меры против православия, что Россия была занята другими делами: Петр Великий вел войну с Швециею, причем должен был стараться держать Польшу при своей стороне. Петр, однако, никак не хотел позволить гонения в Польше на православных: видя, что дипломатические представления ни к чему не ведут, он отправил своего комиссара в Польшу наблюдать, чтоб этого гонения не было и православным дана была полная управа в обидах. Поднялся страшный крик против такого небывалого вмешательства русского государя во внутренние дела Речи Посполитой, но криком все и кончилось: с Петром ссориться было нельзя. После Петра эта мера не была возобновляема даже и в царствование его дочери, ибо отношения к Пруссии, Семилетняя война не давали возможности ссориться с Польшею; и заступничество России за единоверцев, на которое она имела и формальное право по Московскому договору, ограничивалось по-прежнему дипломатическими представлениями. Но Екатерина находилась в самом благоприятном положении сравнительно с своими предшественниками, и она решила воспользоваться этим положением, чтоб, возведя на польский престол короля, всем ей обязанного, порешить все споры с Польшею в пользу России. Дело о защите православных было, разумеется, важнее всех, в нем была особенно заинтересована слава императрицы, ибо легко понять, какое впечатление должно было произвести на народ покровительство, оказанное единоверцам, и покровительство, увенчавшееся небывалым успехом. Выигрывая необыкновенно в расположении собственного народа этим народным подвигом, получая чрез него, так сказать, вторичное, закрепляющее все права венчание русскою, православною государынею, что для Екатерины было так важно, она не могла быть равнодушна и к той славе, которую должны были протрубить вожди общественного мнения на Западе, к славе победительницы фанатизма, нетерпимости, к славе государыни, которая прекратила религиозное гонение, возвратила спокойствие и гражданские права людям, лишенным их вследствие религиозной нетерпимости народа, живущего под сильным влиянием ненавистного католицизма. Далее следовали другие расчеты: возвращением прав диссидентов вводился в польские правительственные отправления элемент, который, естественно, должен был находиться под русским влиянием и привязывать, особенно в делах внешней политики, Польшу к России. При существовании такого элемента казалось безопасным позволить Польше выйти из страшного безнарядья и чрез это приобрести некоторую силу. В Петербурге не могли вполне сочувствовать внушениям, настаиваниям, приходившим из Берлина, чтоб ни под каким видом не позволять Польше изменять свою конституцию. В Пруссии, как и в других западноевропейских государствах, выработалась верность системе, основанной на самосохранении и приобретении известных выгод, расширения государственной области и т.п. Эта национальная система проводится настойчиво, никакие другие соображения в расчет не принимаются, все должно быть принесено в жертву системе; политика чрез это является узкою, своекорыстною, но легкою по своей простоте. Россия, введенная Петром Великим в общую жизнь европейских народов, представляла в этом отношении заметное различие. Россию можно было упрекать в неимении ясно сознанной национальной политики, по крайней мере в отсутствии настойчивости в достижении целей этой политики; можно было упрекать относительно медленности в восстановлении полного господства русской народности в западном крае и т.п. Причины этого явления можно было искать в племенном и народном характере, в юности русского народа, его неразвитости, новости в общенародной жизни, недостатке просвещенного взгляда на свои внутренние и внешние отношения, в привычке, сделавши какое-нибудь дело, складывать руки, не пользоваться победою. Все эти объяснения в известной степени могут быть приняты; но не должно забывать и того обстоятельства, что Россия, войдя в XVIII веке в общую жизнь европейских народов, принесла такую обширную государственную область, которая не давала развиться в русском народе хищности, желанию чужого, наступательному движению, а могла развить качества противоположные и в своих крайностях вредные, так, нежелание чужого могло перейти в невнимание к своему и т.д. Русские государственные деятели, разумеется, не были чужды честолюбия, желания усилить значение России, но для этого они придумывали особенные средства, идиллические в глазах западных политиков; чуждые стремления приобретать что-нибудь для себя, расширять свою государственную область, они придумывали союзы с чисто охранительным значением, в которых сильные государства были вместе с слабыми и первые, разумеется, принимали на себя обязанность блюсти выгоды последних как свои собственные. Таков был знаменитый северный аккорт , который так старался осуществить Панин. В этот северный союз должны были войти Россия, Пруссия, Англия, Швеция, Дания, Саксония, Польша, и если Польша входила в союз, разумеется вечный и непоколебимый, то почему ж не дать ей возможности выйти из анархии и усилиться, этим усилением она будет только полезна союзу. Идиллия, приводившая в бешенство Фридриха II, который ждал первого удобного случая, чтоб попользоваться на счет Польши, Саксонии, Швеции, Дании, а тут заставляют его блюсти их интересы! Также наивно было предполагать, что Англия станет любить своих союзников, как сама себя.
Но все эти легкие построения сокрушились под тяжелыми стопами истории, когда диссидентский вопрос поднял в двусоставной Польше ожесточенную борьбу между двумя народностями. Мы видели, как князь Репнин, находясь на месте, предвидел страшные, неодолимые препятствия к решению диссидентского вопроса; он представлял, что католический фанатизм неодолим. Не надобно забывать причин, усиливавших этот фанатизм. Прошли целые века борьбы, в которой поляки, пользуясь своими государственными средствами, давили православное народонаселение; последнее питало сильную вражду к притеснителям, но вражда притеснителей к притесненным бывает еще сильнее (ненавижу человека, которого обидел); у православных русских отняты были права, они являлись людьми низшего разряда; католик с молоком матери всасывал к ним вражду и презрение; еще сильнее была вражда отступников и потомства отступников. И вот является требование, чтоб отношения совершенно изменились, чтоб православные не только получили полную свободу и безопасность относительно отправления своей религии, но получили бы назад равные права с католиками; человек, который нынче идет с поникшею головою, гонимый и презренный, завтра поднимет голову и явится всюду как полноправный согражданин, явится с свежею памятью об обиде и со средствами к мести; но если бы и обиженный от радости забыл об обиде, то обидчик об ней не забудет; духовные католические не могут себе представить, как архиерей, священник презренной мужицкой (хлопской) веры, трепетавшие до сих пор при виде католических духовных лиц, получат равное с ними положение. Наконец, если бы кто-нибудь из поляков был чужд религиозной нетерпимости и способен забыть установившиеся отношения, то он не хотел забыть того, что республика его, двусоставная на деле, стала путем насилия одной части народа над другой единою по праву, ибо представительство и власть принадлежали одним полякам-католикам, а теперь, если уступить требованию уравнения прав диссидентов, это единство должно рушиться. Но каковы бы ни были побуждения, знамя для всех было одно – интерес религиозный; а что означало поднятие этого знамени, как не вековую борьбу между двумя частями народонаселения, искусственно, насильственно сплоченного. Диссидентский вопрос был поднят не Екатериною II; он был поднят историею: это был окончательный расчет по сделке Ягайла и последнего из его потомков.
Избрание Станислава Понятовского произошло спокойно, но были признаки, что враги нового правительства еще не успокоились; а между тем диссидентский вопрос висел грозною тучею.
Из Молдавии пришли вести, что Порта грозит тамошнему господарю низвержением, считая его подкупленным от русского двора, и посланник нового польского короля к султану Александрович все жил на турецкой границе, не получая паспорта для продолжения своего пути в Константинополь. Репнин писал, что беспокойство Порты происходит не от одних внушений венского и французского дворов, но и от внушений, приходящих прямо из Польши. Репнин не мог указать, кто именно делал эти внушения, но подозревал обоих гетманов коронных, воеводу киевского и епископа краковского, тем более что Станкевич, креатура гетмана коронного, жил еще в Константинополе и вел интриги в пользу враждебной России партии. 12 февраля Панин поднес императрице на утверждение письмо свое к Репнину: посол уведомлялся в конфиденции, что «мы не можем и не хотим считать польские дела совершенно оконченными, пока не улучшено будет состояние диссидентов, хотя бы это дело потребовало и вооруженной негоциации, и потому, – писал Панин, – рекомендую и вам, моему другу, приготовлять себя к этому разумными средствами, не компрометируя заранее секрета, дабы противомыслящие не воспользовались для возвращения больших трудностей. Здесь удостоверены, что фамилия Чарторыйских в этом пункте более других недоброжелательна и она-то была главною виновницею вашей неудачи на последнем сейме. Е. и. в. никак не отступит от этого предмета: так вам надобно, принимая в расчет расположение и обстоятельства этой фамилии, убеждать и действовать с ними заодно; в случае же безнадежности воспользоваться настоящею холодностию между нею и королем и возбуждать его величество против нее. При таком положении дел хотя вы и можете по желанию графа Захара Григорьевича Чернышева возвратить известные кирасирские эскадроны в Россию, приказав им малыми маршами подвигаться к границе, но прочие войска должны оставаться в Польше на всякий случай. Замечу еще вам, моему другу, с равною доверенностию: мне кажется, что кроме начинающихся у вас женских сплетней и интриг между фамилиею и кроме духа господства двоих братьев Чарторыйских новый государь принимается за свои дела более горячо, чем прозорливо; надобно опасаться, чтоб, меряя все на внутренний польский аршин, он не навел на себя таких хлопот, которые могут привести в расстройство весь северный аккорд и посадить его, короля, между двух стульев. Он должен себе представить, что не только северные, но и все другие державы, привыкнув сорок лет видеть главами Польской республики иностранных государей, совершенно преданных интересам собственных областей, вследствие этого определили более или менее важную часть своей политической системы и каждому государству восстановление в Польше природных королей представляется делом новым, революциею, следовательно, пока северные и другие державы совсем не осмотрятся и не привыкнут с течением времени спокойнее смотреть на эту перемену, пока не определят каждая свою систему по соображении с новым порядком вещей в Польше, до тех пор благоразумие требует от его польского величества, чтоб он для будущих своих выгод изволил с достаточною политическою экономиею и осторожностию касаться своих внутренних дел и, сколько возможно, воздерживаться от всего того, что может получить вид новости. Гораздо вернее и надежнее будет, если он усугубит свое старание укрепить себя средствами истинной дружбы и союзов с теми державами, которые восстановление природных королей в Польше ставят частию своей политической системы. Я не хочу решать, кто более прав в настоящем споре между польским и берлинским дворами относительно учреждения таможен и провода драгунских лошадей чрез Польшу в Пруссию, но искренне сожалею, что в такое короткое время трактаты между ними уже подверглись объяснениям. Одна поспешность может повести к другой, и король польский вместо старания истребить в короле прусском следы старого против себя предубеждения, последуя своим собственным предубеждениям, может позволить уловить себя австрийскому дому, который, конечно, употребит все средства для приведения в расстройство наши общие дела. Пожалуй, мой любезный друг, стереги, сколько можно, эти консидерации и по усмотрению употребляй их с королем в разговоре, называя их хотя своими, хотя моими, как лучще сами рассудите, представляя ему, что производимые и часто повторяемые общими ненавистниками толки о делах его могут наконец нечувствительно произвесть некоторое впечатление и на людей, к нему склонных; но ему нечего будет опасаться этого, когда однажды навсегда будут приведены в совершенство его связи и политическая система союзными трактатами с дружескими державами. При таких деликатных ваших обращениях я, как ваш искренний друг, не могу обойтись, чтоб не сказать вам, как необходимо нужны пространнейшие от вас уведомления. Пожалуй, мой дорогой, отступи от образца покойного графа Кейзерлинга и описывай со всеми обстоятельствами не только одни феты (праздники) или происшествия, но и разговоры ваши с разными обращающимися в делах особами, присоединяя к тому известия об отношениях этих особ, о сходстве или разности их интересов, дабы я, зная все, мог вернее определять мои собственные взгляды и мнения; мне надобно прежде всего знать людей, которые теперь заправляют делами, их характеры, степень их влияния на короля и кредита у нации».
Польский посланник в Петербурге граф Ржевуский по расстроенному здоровью желал возвратиться в Польшу. Король по этому случаю сказал Репнину с печальным видом, что очень жалеет об отъезде Ржевуского из Петербурга в то самое время, когда он там так нужен, и прибавил, что известия, полученные от Ржевуского, его печалят. Репнину хотелось, чтоб король рассказал подробно, какие это известия; но Станислав-Август не открылся, и только из отрывочных слов Репнин мог приметить, что его оскорбляет холодность русского двора к венскому и приязнь к берлинскому, тогда как прусский король, по его мнению, никогда не допустит Польшу поправиться. Репнин отвечал на это, что король прусский, без всякого сомнения, войдет во все виды России относительно Польши и если примет на себя какие-нибудь обязательства, то станет содержать их ненарушимо. Но австрийский дом, прибавил Репнин, и прежде старался, и до сих пор все старается своими внушениями встревожить и вооружить Порту и делает это из опасения, чтоб Польша не усилилась вследствие неусыпной деятельности национального короля, который не имеет посторонних интересов. «Хоть я вижу, – писал Репнин Панину, – как сильно здесь желают сближения нашего двора с венским, однако могу почти уверить, что ни в какое с ним обязательство не войдут без согласия нашего двора и здешняя система будет всегда следовать нашей».
«Здесь удивляются, – писал Панин 29 марта, – что его польское величество не почтил знаками своей признательности наших троих генералов, которые у вас были с войском для подкрепления его дел. Да мне кажется, и по всему у вас великое заблуждение в собственных замыслах. Я истинно не желаю дурного, да и моя собственная слава тому противится, только с основанием боюсь, мой друг, что у вас спокойствие не будет продолжаться, если воды в вино лить не будут, а будут продолжать дела по началам своей самоопределенной собственной политики. То положение и обстоятельства кончились, когда внешняя политика сообразовалась с внутренними партиями и интригами; теперь нужны к делам министры, а не партизаны. При замешательстве дел фамилия и дядья мало помогут, а разве посторонние дворы, воспользовавшись их духом господства, употребят их к усилению этих замешательств. Коротко и откровенно опишу вам здесь картину настоящего положения. Вам уже известно наше неудовольствие по делу о диссидентах. Полученная о том здесь графом Ржевуским инструкция так мало соответствует нашим желаниям и откровенности, так слаба и составлена в таких общих выражениях, что я по моей ревности к сохранению тесного союза не отважился сообщить ее государыне; и без того по одним письмам королевским, как ласкательно и разумно они ни писаны, е. в. изволит заключать, будто польский двор хочет употребить все наши способы и силы для достижения всех своих целей в виде купеческого задатка за те дела, о которых только вперед показывает склонность торговаться. С другой стороны, начатые легкомысленно и безвременно споры с королем прусским, по-видимому, должны более усилиться и неблагоразумно кончиться. До вашего сведения, конечно, дошел мемориал о правах провинции польской Пруссии. Граф Сольмс мне сообщил, что так как с польской стороны в новой таможне взята пошлина с купленных для прусской кавалерии 500 лошадей, то король, его государь, установил и в своих границах новую таможню. Излишне толковать о том, что этот государь может иметь теперь в мыслях, если не остережемся. Много хлопот произойдет, когда он объявит себя защитником провинции Прусской; тут, мой друг, не много поможет и сеймовое большинство голосов, в которое у вас так сильно влюблены. Швеция с самого начала пользовалась этим большинством и едва ли не ему должна приписать свое окончательное погружение в бездну бедствий. Ко всему этому надобно прибавить бесконечные волнения и интриги сераля противных нам союзников, которых, и особенно венский двор, у вас уловить, конечно, не удастся. Из этого и предыдущего письма моего вы довольно видите, как вы должны быть деятельны для охранения наших интересов, от которых, без всякого сомнения, зависит и существенный интерес его польского величества. Чистосердечно скажу вам, что не вижу для него другого средства, кроме уступки времени и благоразумного повиновения обстоятельствам, нет государя, который бы мог безвредно не соблюдать этого правила. Граф Чернышев опасается, чтоб от неподвижного пребывания наших войск на Висле не явились из них перебежчики. Так как я не вижу никакой возможности вывести их из Польши прежде приведения в надежную форму дела о диссидентах, то и отдаю на ваше усмотрение, не найдете ли более выгодным тронуть их в мае и привести к Гродне и чрез несколько времени, смотря по обстоятельствам, перевести к Вильне».
Дела запутывались. Старики Чарторыйские отступили пред диссидентским делом; каковы бы ни были их религиозные и политические взгляды на это дело, они знали, что, поддерживая русские требования, рискуют потерять силу и значение без надежды провести дело обыкновенными средствами. Но в Петербурге на них сильно сердились, видели в их несодействии измену, ибо привыкли смотреть на них как на вождей русской партии, т.е. как на покорные орудия для достижения русских целей, тогда как Чарторыйские смотрели на Россию как на орудие для достижения своих целей. Король еще не понимал всего грозного значения диссидентского дела. Он был влюблен, по выражению Панина, в большинство голосов, т.е. был так увлечен мыслию о преобразованиях, что все другое ставил на второй план. Поэтому его гораздо более беспокоила тесная связь России с Пруссиею, ибо он очень хорошо знал, что Фридрих II настаивает и всегда будет настаивать, чтоб Екатерина не соглашалась на преобразования польской конституции; пограничные споры давали возможность Станиславу-Августу выразить свое раздражение против Пруссии, что очень не нравилось в Петербурге. А тут еще курляндские дела прибавляли затруднений.
От 20 марта Симолин писал Репнину, что Бирон потерял любовь и доверие почти всей земли. Противники его, пользуясь этим случаем, отложили частную свою к нему ненависть, взялись за общее дело, соединились с остальными, и таким образом исчезло различие партий, все стали показывать свое усердие только к защите отечественных прав. Симолин упрекал Бирона в том, что он не отличает ласками и наградами преданное ему дворянство, а с другой стороны, не обнаруживает достаточной твердости в обращении с противниками. На слова его никто не хочет полагаться, потому что они никогда не исполняются; почти вся земля разделяет неудовольствие дворянства, предъявляя, что права всех нарушены и будто нынешний герцог имеет в виду всех погубить, разорить, разогнать. Бирон с своей стороны жаловался королю на Симолина, что он с ним не в согласии и был причиною неудовольствия дворянства на него, Бирона, почему Станислав-Август просил русский двор отозвать Симолина из Митавы. Но курляндские недоразумения исчезали пред отношениями важнейшими. «С сожалением вижу, – писал Репнин, – что нет ничего легче, как возбудить здесь сомнение против прусского двора; не знаю, по какой причине король не имеет ни малейшей доверенности к прусскому королю; я из всех сил стараюсь искоренять это недоверие, но напрасно». Масло было подлито в огонь, когда пришло известие, что в Мариенвердере собраны прусским правительством работники для воздвигнутия по берегу Вислы укреплений и что везут туда артиллерию: хотят устроить тут новую таможню и принудить все проходящие польские суда платить десять процентов со всех их товаров. Король объявил об этом Репнину с страшною досадою, жалуясь, что король прусский старается всячески вредить ему и всей Польше. «Я уверен, – говорил Станислав-Август, – что прусский король старается поссорить меня с Россиею». Репнин уверял его, что это неправда, и писал Панину: «Зная, как нужно восстановить согласие между прусским и польским дворами, чтоб удержать последний в желаемой нами системе и в отдалении от венского и французского дворов, стану стараться о полюбовном соглашении по таможенным делам». Для этого Репнин обратился к прусскому резиденту, и тот обещал сделать своему двору представления об улажении спора. Но из разговора, бывшего по этому случаю с прусским резидентом, Репнин узнал, что последний час от часу становится недовольнее обхождением с ним польского министерства, особенно канцлера литовского, и что при венском дворе прусскому министру делают внушения о чрезвычайном желании польского двора быть в союзе с австрийским домом; прусский министр доносит об этом в Берлин, что и порождает холодность и сомнения с прусской стороны. Репнин уверял прусского резидента, что Польша вовсе не ищет союза с венским двором, что все внушения об этом фальшивые, злостные, чтоб поссорить Польшу с Пруссиею; а Станиславу-Августу представлял, что лучше было бы дружелюбно разобраться с прусским королем, который огорчительных требований делать не будет, как видно из слов резидента; да и с последним не худо было бы поступать благосклоннее и откровеннее, а не так, как поступает канцлер литовский, который своею гордостию портит дела.
А между тем Мариенвердерская таможня уже начала свои действия. Один берег был прусский, а другой – польский; так, пруссаки силою оттягивали суда, плывшие у польского берега, и заставляли платить пошлину, даже и с дров брали десятое полено. Никогда Репнин еще не заставал Станислава-Августа в таком горе, близком к отчаянию. Со слезами на глазах король говорил: «Если бы мне дали на выбор отказаться от престола или терпеть Мариенвердерскую таможню, которая будет держать под игом всю Польшу, то я не поколебался бы покинуть престол; я считаю теперь себя несчастнее последнего из моих подданных; по сделанному расчету, сколько польских товаров ежегодно проходит чрез Данциг, прусский король извлечет из своей таможни около 3600000 прусских гульденов, т.е. около 900000 рублей, что равняется доходу со всей бранденбургской Пруссии. Я полагаю всю свою надежду единственно на посредничество императрицы». «Признаюсь, – писал Репнин Панину, – что нахожу поступки прусского короля жестокими и оскорбительными до невозможности».
В конце апреля Репнин известил Панина, что у польского министерства была конференция с прусским резидентом, которая началась вопросом, что причиною, что его прусское величество учредил новую таможню в Мариенвердере, причем министры просили об отмене. Резидент отвечал, что Мариенвердерская таможня учреждена в возмездие за новые польские таможенные распоряжения. Действительно, еще на конвокационном сейме положено было увеличить таможенные пошлины на ввозные товары для усиления финансовых средств республики. Но министры объявили резиденту, что новое польское таможенное учреждение не вызывает такого возмездия да еще и не приведено в действие, притом обещали ему передать формальный мемориал, в котором будет доказано, что польская таможня не новая, а возобновленная и что новый тариф пошлин не в убыток прусским подданным. На этом письме Панин заметил: «Поздно, да и непристойно так допрашивать; латинский (римский) тон в политических делах ныне не годится. Государи больше на поединок друг друга не вызывают: так и нужда, чтоб бессильный сильного более почитал». Но король польский думал, что, почитая самого сильного, может рассчитывать на защиту его от притеснений менее сильного; Станислав-Август говорил Репнину: «Система императрицы будет всегда моею; я всю мою жизнь сохраню воспоминания о том, чем я ей обязан; я знаю, что она может, и сделаю поэтому все, чего она захочет. Но смею надеяться, что, сделавши меня королем, она поддержит достоинство, которое станет мне в тягость, если будет унижено. Ее великодушие и ее образ мыслей заставят ее интересоваться своим делом, которое очутилось бы в крайне бедственном положении, если б она его покинула».
Репнин писал о короле, о своих разговорах с ним, не упоминая, как относились Чарторыйские к прусскому делу. Было ясно, что посол удалился от прежних глав русской партии. Еще 23 февраля он писал Панину: «Что же касается до моего обращения с князьями Чарторыйскими, то после сейма коронации, усумнясь о их прямодушии, а особливо после как я отказал платить впредь до указу воеводе русскому месячной пенсии, брат его единственно с тех пор холоден. Учтивость основание делает нашего обхождения, о делах же я более с самим королем говорю. Братья королевские делают противную им (Чарторыйским) партию». Прусский посланник Бенуа хвалился, что Репнин удержал пенсию Чарторыйского по его совету. 13 мая Репнин писал Панину: «Я уже доносил, каким властолюбием исполнены двое братьев Чарторыйских и что кредит их очень велик в нации; он усилился еще более от того, что в последнее междуцарствие Чарторыйские были главами нашей партии и чрез их руки шли все деньги, назначенные для увеличения числа партизанов, которые и остались им преданны. Кредит их содержится в своей силе слабостию короля, который еще не может окрепнуть и бросить привычку ни в чем им не отказывать. Теперь я примечаю в воеводе русском еще новый замысел: он, кажется, желает быть коронным гетманом по смерти графа Браницкого, который недолго будет дожидаться. Хотя этот чин против прежнего и ограничен, однако все еще может усилить кредит Чарторыйских, что по упрямству, гордости и властолюбивым замыслам их было бы противно видам и интересам нашим, и было бы хорошо этому помешать, а сделать гетманом одного из королевских братьев, которые, имея мало надежды переменить воеводу русского, тем более будут нам благодарны за доставление этого достоинства, и кредит Чарторыйских будет уравновешен». Панин написал на этом письме: «Я в сем письме, кроме полезного, ничего не нахожу и потому ожидаю только высочайшего соизволения, оставляя воле вашего величества, вести ли дело гетманского места в пользу королевского брата и которого или же для Адама Чарторыйского?» Императрица написала: «Лучше первого, а другой в запас».
Чарторыйские вели себя не так, как бы желалось в Петербурге, не по одному диссидентскому делу. По совету литовского канцлера Станислав-Август написал красивое, но очень резкое письмо к Фридриху II по поводу таможенного спора. Копия с этого письма была переслана Екатерине, которая написала Панину: «Признаюсь, я была испугана жаром, с каким написан первый параграф этого письма. Оно, конечно, исполнено ума, но вовсе не прилично. О! Как бы вы меня забранили, если б я написала такое блестящее и такое вредное для моих дел письмо. Прошу вас, поставьте польского короля на ту же ногу, как вы поставили меня. Вы ему доставите этим величайшее благо, то есть спокойное и разумное царствование; умерьте его живость, не дайте ему обнаруживать столько остроумия насчет пользы его собственных дел».
Но Екатерина, желая, с одной стороны, сдержать Станислава-Августа, чтоб не раздражать Фридриха II, с другой – употребила старание сдержать и своего верного союзника короля прусского: Бенуа из Варшавы писал в Берлин, что князь Репнин умоляет его ради самого Бога смягчить своего короля относительно таможни; Репнин внушал, что, конечно, Фридрих II не захочет слишком ожесточить варшавский двор из уважения к великой дружбе, которая царствует между российскою императрицею и королем польским: противное могло бы произвести дурное влияние на императрицу. Сольмс доносил из Петербурга о настаиваниях Панина на отмену таможенных стеснений. Тщетно Сольмс внушал ему: «Не позволяйте полякам пугать себя; поверьте, что, не показавши им зубов, нельзя ничего достигнуть». Панин стоял на своем. Наконец Екатерина писала сама Фридриху; и Мариенвердерская таможня была приостановлена до окончания всего дела о пошлинах. Станислав-Август писал по этому поводу императрице (19 июня): «Приостановка Мариенвердерской таможни доказывает истинную дружбу вашего императорского величества ко мне и в то же время сильное влияние вашей воли на короля прусского. Мне было ужасно думать, что несчастие, неизвестное Польше во времена моих предшественников, постигло ее в мое царствование и со стороны государя, который рекомендовал меня нации для выбора в короли; в народе уже начали говорить, что эти таможни были вознаграждением за помощь, которую я получил от прусского короля при моем избрании».
Исполняя приказание императрицы сдерживать польского короля, направлять его на истинный путь, Панин писал Репнину от 20 июля: «Все ваши, мой любезный друг, письма я по порядку получаю с совершенным удовольствием, как равным образом они, конечно, и в вышнем месте принимаются. Поверьте без ласкательства, которое у меня к вам места иметь не может, что поведение и дела ваши сполна разумны и достаточны, сколько токмо желать возможно; продолжай, мой друг, оные по тем же правилам, пока получите новые активные наставления, которые точно определить я удерживаюсь еще в ожидании окончательной решимости турецкого двора. Я нужды не имею вам экспликовать моего о том рассуждения: вы, несумненно, сами оное себе представите, что как бы мы ни оставались надежны о турецком спокойствии и недействии, однако ж при нерешенном деле неприятелям нашим всегда останется больше способности там тревожить наши дела, а особливо по причине, когда начнем прямые негоциации новых обязательств в вашем месте, чем может еще нерешимость турецкая продолжиться и произвести общие для нас новые заботы. Другое б было дело, если б у вас сначала лучше познали свой существительный интерес и тогда б вдруг решились в сделанных от нас представлениях для политической системы. Можно по сему с надежностию сказать, чтоб тем подлинно себя избавили последующих ныне многих неприятностей, которые теперь при самовольно сделанных себе предубеждениях столь часто смущают и тревожат, а венской бы двор не водил так, как нынче, по неизвестной дороге, но давно б уже прямо и для себя одного искал возобновления беспосредственной корреспонденции. Когда я уже столько вошел в рассуждение, то не оставлю в молчании и ваше разумное примечание о скрытной политике тех людей, которые хотят содержать в своей зависимости его польское величество, отвращая его всякими ухватками от определенной политической системы. Сие подлинно ощутительно, и нельзя думать, чтоб столь просвещенный государь, как король польский, наконец сам оного не почувствовал: тогда равно он и признает, что в десять месяцев никто и ничему совершенного блаженства не достигает, следовательно, достигая оного, возможного лишаться не будет, как потом и прусского короля приязнь себе и своей республике увечною (?) поставлять не станет и по тому одному, что сей государь уже последние дни доживает, в которые ему совершенно недостанет возможности все то исполнить, что его видам приписано быть может; преемники же его, не получа его духа, не будут иметь и сил его в производстве».
Очень рано начали хоронить Фридриха II. Он после того прожил двадцать лет и успел значительно изменить карту Европы. Но Панину надобно было чем-нибудь успокоить раздражение Станислава-Августа, ибо раздражение было вполне законное. От 19 сентября Репнин писал Панину, что польское таможенное устройство оказалось вовсе не во вред подданным короля прусского, а скорее выгодно. Барон Гольц, присланный Фридрихом II в Варшаву для конференции с польским министерством по таможенному делу, признался Репнину, что и он видит только выгоды для прусских купцов и если бы он был от них послан, то, конечно, согласился бы на польские представления и уверен, что прусские купцы были бы ему благодарны; но, будучи посланником короля, а не подданных, должен предпочитать личные королевские интересы, повинуясь в точности повелениям его величества. «Из этого изволите видеть, – писал Репнин, – что не самое дело в сущности своей вредно прусскому королю и противно трактату и привязку только делают, выставляя предлог, для чего заранее взаимно не согласились». Екатерина, прочтя это письмо, написала на нем: «Il a done une autre gloire quele bien de ses sujets, ce sont de ses singularite qui ne saurait etre comprehensible pour ma caboche» (Стало быть, для прусского короля есть другая слава, кроме блага его подданных: это такие странности, которые не вмещаются в моей голове). По словам английского посланника в Петербурге Макартнея, поведение прусского короля в мариенвердерском деле значительно подорвало расположение к нему петербургского двора. Бенуа должен был предложить польскому королю пенсию в 150000 талеров с условием, чтоб он помогал Пруссии в таможенном деле. В Петербурге Фридрих II хотел достигнуть своей цели раздачею денег и уполномочил графа Сольмса употребить на это от 50 до 60000 рублей; императрица обо всем этом узнала.
Решение таможенного дела между Польшею и Пруссиею откладывалось до чрезвычайного сейма; на том же сейме должно было решиться и страшное диссидентское дело. 15 июля приехал в Варшаву Георгий Кониский и на другой же день представлен был королю, который, выслушав его речь и приняв челобитную, прочел ее, несмотря на. то что была длинная, и обещал удовлетворение во всем том, на что православные имеют права и привилегии, только велел подождать приезда в Варшаву вице-канцлера литовского Пршедзецкого. Вице-канцлер приехал и велел Конискому переделать челобитную на две: в одной должно было заключаться исчисление обид, причиненных православным внутри Могилевской экономии, а в другой – исчисление обид вне этой экономии; первую велел подать в Камеру королевскую, вторую – канцлерам коронным и ему, вице-канцлеру литовскому. Кониский исполнил все это. «С тех пор, – доносил он Синоду, – как начали водить, так и поныне водят. Расписали к некоторым в челобитной моей показанным обидчикам, чтоб прислали ответы на мои жалобы; узнав об этом от господ министров, я представлял им, что мне таким собиранием ответов новая причиняется обида, потому что и не ко всем обидчикам за такими ответами послано, да и посылать ко всем невозможное дело, потому что большая их часть уже на суд Божий позваны, и я с таких никакой сатисфакции не прошу, только возвращения отнятого или только чтоб впредь подобные обиды делать запрещено; да и которые обидчики в живых остались и пришлют ответы, то с их ответов не доведется никакой чинить резолюции, понеже сами себя виновными не признают, а в чем ложно извиняться захотят, я готов всегда опровергать, и, таким образом, собиранию ответов да доказательств конца не будет, и как им, обидчикам, таковая ответов и доказательств из домов своих без малейших убытков присылка очень понаровочна, так мне ожидать оных ответов здесь, в Варшаве, и большие убытки нести весьма тяжело и несносно, и что на остаток из моих жалоб некоторые суть таковые, которые по рассмотрении документов письменных никакому исследованию не подлежат. Таковое, однако, мое представление места у них, господ министров, не получило, еще учинили меня богатым: ты-де богат, можешь здесь проживать, а ответную сторону волочить сюда по скудости их не доводится».
Таким образом, поляки сами вызывали со стороны России решительные меры. «Сейм чрезвычайный, – писал Репнин от 21 сентября, – конечно, нужен как для решения наших дел, так и для разбора таможенного дела. Но надобно предварительно согласиться в этих делах. Наших два дела надобно будет решить на сейме: дело диссидентское и пункты нового союзного трактата. О диссидентском деле я того мнения, что вдруг его на одном сейме всего сделать будет нельзя, а надобно по последней мере на два разделить; для верности же, что чистосердечно будут поступать, думаю, надобно заранее составить план и заключить формальную тайную конвенцию с здешним двором поступать в диссидентском деле согласно с обеих сторон для достижения желаемого конца. Король мне клялся, что все на свете сделает, что только ему будет возможно, согласился и на составление заранее плана, только с оговоркою, что за точное исполнение отвечать не может, а обяжется в одном, что употребит всевозможное старание к достижению желаемого успеха. Король прибавил, что в диссидентском деле приготовляется ко всяким непристойным своевольствам и к обнажению сабель даже в самом Сенате, которой наглости еще никогда не бывало и которая, конечно, будет очень оскорбительна его достоинству, мало того, опасности и настоящей междоусобной войны, и на все это отваживается в доказательство преданности к императрице, но требует, чтоб в таких критических обстоятельствах не был оставлен и был бы достаточно подкреплен как деньгами, так и войском».
Панин в конце сентября объявил польскому поверенному в делах Псарскому, писал и Репнину, что относительно диссидентов намерение императрицы непременно, что она не только сама собою, но и по соглашению со всеми протестантскими державами будет действовать до тех пор, пока диссиденты придут в законное положение по правам и справедливости; что ее величество в своем намерении, конечно, не уступит произволу некоторых людей, но, зная вполне просвещенные мнения короля польского, нимало не сомневается, что этот государь употребит все зависящие от него средства к совершению такого похвального и для него самого полезного дела, не обращая внимания на пристрастные и фанатические советы, которые ему самому со временем много хлопот наделают. В опасениях короля насчет трудности диссидентского дела Панин видел внушения Чарторыйских; их же внушениям приписывал он и заискивания польского двора у Франции, решение отправить туда посланника. Панин писал Репнину: «Королю и людям, искренне к нему привязанным, время подумать сериозно об утверждении безопасности и силы собственного положения, которое может быть основано единственно на связи его с нашими интересами по желаниям ее императорского величества; все же посторонние тонкости более вредны, чем полезны. Я, имев такое участие в его возвышении и по этому одному искренне желая его благосостояния, не могу без сильного сожаления видеть, как поспешные и по мелким видам партии составленные резолюции двора его час от часу причиняют большее охлаждение и вводят в новые хлопоты. Может ли его величество себе представить, чтоб такое явное предпочтение к державе, которая, будучи так отдалена границами, не имеет никакого побуждения вмешиваться в польские дела, кроме желания приобресть влияние интригами и подкупами, чтоб явное предпочтение, оказываемое такой державе, не могло не тронуть другие державы, ведшие себя иначе при избрании его величества? Пусть Англия, Швеция, Дания не помогали этому избранию, но они и не действовали против него и возведение на престол Станислава-Августа признали самым дружественным образом; притом же и собственный интерес побуждает их содействовать внутреннему и внешнему спокойствию Польской республики и всего Севера. Напротив того, Франция желает больше всего несогласий и смут на Севере; тесная связь с Франциею никогда не спасала и впредь не может спасать Польшу от хлопот с соседями, а пребывание в Польше французский посланников усилит эти хлопоты и произведет холодность. Относительно самого себя король польский, зная хитрость и высокомерие французской политики, должен быть убежден, что Франция никогда не забудет случившегося с Станиславом Лещинским и что не только она, но и австрийский дом не простят России избрание Станислава-Августа и, конечно, всегда будут стараться поправить дело посредством саксонского двора. Для сохранения собственной репутации я желал бы быть ложным пророком; но, к сожалению, ничего твердого и спокойного предвидеть не могу, если поведение в вашем месте не переменится; надобны не слова, а дела, без чего мы можем нечувствительно отойти от тех наших политических расположений, которыми мы руководствовались при старании о возведении на престол Станислава-Августа, и остаться с Польшею в отношениях, какие были в прежнее время».
Получив от Панина это письмо, Репнин тотчас же сообщил его содержание графу Ржевускому, который по возвращении из Петербурга жил в Варшаве; тот отвечал, что действительно решение отправить во Францию министра принято слишком поспешно, и вместе уверял в искренней преданности короля императрице и в отсутствии всякого поползновения разделить польскую политику от русской; поспешность же относительно посылки министра во Францию объяснял тщеславным желанием короля быть поскорее от всех признанным. Поговоря с Репниным, Ржевуский тотчас же поехал к королю сообщить ему о письме Панина. Следствием было то, что король прислал за Репниным, которого встретил не со слезами только, но с рыданием и совершенным сокрушением о том, что в Петербурге усумнились в его искренности и совершенной преданности. «Я, – говорил он, – теряю более, чем жизнь и корону, когда лишаюсь дружбы и доверия императрицы; выходит, что ее императорское величество никогда меня не знала, если сомневается в моем прямодуший». «Из этого разговора я, между прочим, ясно видел, – писал Репнин, – что короля вовлек в этот поступок брат его, генерал австрийской службы Понятовский; этот генерал думает, что и в раю не так хорошо, как в австрийской армии; он убедил короля тайком, без объяснения со мною обещать министра во Францию, боясь, что если король предварительно стал бы говорить со мною, то я не согласился бы. Я не могу себе представить, чтоб раскаяние короля было притворно, ибо такой горести, слез и сокрушения я мало видывал». Действительно, сам король после признался Репнину, что все наделал брат его, генерал, которому он приказал предварительно объявить обо всем Репнину, тогда как генерал сделал это объявление не предварительно, а после того, как уже дано было обещание отправить во Францию министра. Но мы видели из письма короля к Жоффрэн, как хотелось ему завести дипломатические сношения с французским двором. Переписка по этому же предмету продолжалась и в 1765 году. Известный Бретейль изъявлял желание быть посланником в Варшаве по старой дружбе с новым польским королем. Станислав-Август писал ему, что и он желает его видеть французским министром в Варшаве, если французский двор даст ему инструкцию действовать по-новому, а не по-старому. «Я вас спрашиваю, – писал король, – хотите ли вредить вашему старому и доброму другу, внушая моим подданным: берегитесь вашего короля, у него дурные замыслы; тогда как французскому министру всего легче и естественнее держать полякам такую речь: «Франция постоянно твердила, что желает добра и возвышения Польше, ибо это было бы полезно и для самой Франции. Теперь у вас король, который старается об удовлетворении этому желанию: так я, француз, увещеваю вас ревностно помогать вашему королю. Я могу этому содействовать с своей стороны, ибо мы желаем, чтоб вы стали народом, имеющим значение (line nation figurante)». Одним словом, Станислав-Август хотел, чтоб Франция содействовала его преобразовательным планам.
Но осуществление этих планов скоро начало представляться королю соединенным с величайшими трудностями, и не внешними только. В начале марта он уже жаловался своей маменьке Жоффрэн: «Трудность натурализации иностранцев, презрение к простому народу и его угнетение и католическая нетерпимость – вот три самых сильных национальных предрассудка, с которыми я должен бороться в поляках. Они в сущности народ добрый, но воспитание и невежество делают их страшно упрямыми насчет означенных пунктов, и для излечения их от этих предрассудков надобно идти тихо». В том же письме король жалуется маменьке на французскую политику: «Вы играете в мяч с Австриею. Она говорит, что вы препятствуете ей признать меня королем, а вы говорите, что препятствия этому родятся в Вене, и вместе путаете головы этим бедным туркам, которым внушают панический страх пред каким-то бедствием, долженствующим постигнуть их из Польши. Не прогневайтесь, ваша политика бредит, а моя дожидается».
Потом опять жалобы на свое положение. По поводу намереваемого приезда Жоффрэн в Варшаву Станислав-Август писал ей: «Вы найдете своего сына очень занятым (и это еще не беда), но вы найдете его почти всегда печально занятым составлением планов, в осуществлении которых нет успеха. Постоянные препятствия или от предрассудков, или от злонамеренности внутри и вне; захочу сделать что-нибудь хорошее – не могу по недостатку власти, как государь, ограниченный завистливою свободою, и как вождь народа безоружного. Петр I гранил большой дикий алмаз, но он был господин и алмаза, и орудий, которыми он производил гранение. Присоедините к тому темперамент меланхолический и чрезвычайно чувствительный и судите, каков я должен быть, особенно когда могущественный сосед дает мне чувствовать, что он затем только помог мне достигнуть престола, чтоб отнять у меня всякую возможность противиться его самым оскорбительным обидам».
В юном русском мануфактурном мире произошло крупное явление, которое показывало, как недолго обширные заведения остаются в одной фамилии: статский советник Алексей Затрапезнов свою полотняную ярославскую фабрику со всеми принадлежностями продал коллежскому асессору Савве Яковлеву за 600000 рублей. Что касается внешней торговли, то мы имеем от описываемого времени печальное известие русского посланника в Константинополе Обрезкова, который доносил императрице, что вольное кораблеплавание по Черному морю не может привести русскую торговлю в желаемое состояние по причине чрезвычайного невежества и неразумия русских купцов. Купцы эти с заключения последнего мира не только не разбогатели, но многие беднее стали; кредит их подорван до такой степени, что не могут получить денег иначе как за 20 и по меньшей мере за 15 процентов, да и то отдавши под залог товары. Панин написал на этом донесении: «Выражения не мягки, но, к несчастию, верны».
В промышленности земледельческой произошла в описываемое время важная новость: введен в употребление картофель. Новгородский губернатор Сиверс прислал в Сенат доношение, не угодно ли будет для завода земляных яблок выписать их прямо из Ирландии. Сенат приказал выписку этих яблок поручить Медицинской коллегии, но с тем, чтоб она поручила это кому-нибудь из купцов частным образом. Императрица приказала на выписку картофеля употребить до 500 рублей. Медицинская коллегия издала наставление, как разводить и употреблять картофель; наставление это оканчивается так: «По толь великой пользе сих яблок и что они при разводе весьма мало труда требуют, а оный непомерно награждают и не токмо людям к приятной и здоровой пище, но и к корму всякой домашней животине служат, должно их почесть за лучший в домостройстве овощь и к разводу его приложить всемерное старание, особливо для того, что оному большого неурожая не бывает и тем в недостатке и дороговизне прочего хлеба великую замену делать может».
В продолжение нашего рассказа о царствовании Екатерины мы нередко будем встречаться с этим новгородским губернатором Сиверсом, который предлагал выписать картофель из Ирландии. Выбор Сиверса в губернаторы принадлежал к числу самых удачных выборов Екатерины. Сиверс имел то, что так редко можно было тогда найти между областными правителями: приготовление к деятельности, образование, бывалость за границею не по-пустому, но с обращением внимания на тамошние явления. Разумеется, мы не должны требовать от Сиверса, чтоб он при тогдашних условиях, при отсутствии пустивших глубоко корень исторических учреждений очень сдерживался в своих бюрократических стремлениях, не предпочитал искусственных средств для достижения своих целей. Сын эстляндского дворянина, Яков Сиверс начал свое поприще в одной из тогдашних практических школ, где молодые люди учились и служили вместе; мы видим его в начале царствования Елисаветы юнкером в Иностранной коллегии. В Старости при воспоминании об этом времени у Сиверса вырывались слова: «Где ты, блестящее время бессмертной Елисаветы, когда восемь послов иностранных так же сильно добивались твоего союза, как и удивлялись твоей красоте». Будущность молодого Сиверса была обеспечена покровительством дяди, барона Карла Сиверса. Семнадцати лет Яков Сиверс поехал чиновником посольства в Копенгаген, откуда потом переехал в Лондон. По возвращении из Англии, к которой сильно пристрастился, он переменил дипломатическую службу на военную, из чиновников посольства сделался премьер-майором, участвовал в Семилетней войне, во время которой вел с Ив. Ив. Шуваловым секретную переписку о ходе военных дел. Расстроившееся во время войны здоровье заставило его ехать в Италию, где он узнал о вступлении на престол Екатерины; вскоре после того он возвратился в Россию и в 1764 году был назначен новгородским губернатором. Перед отъездом в свою губернию Сиверс провел месяц в Петербурге и в это время имел по крайней мере 20 аудиенций у императрицы, и каждая продолжалась по нескольку часов: обсуждались статьи общей и тайной губернаторской инструкции, рассматривались карты и планы. Сиверс получил приказание писать прямо императрице и приезжать в Петербург, когда сочтет это нужным.
Тогдашняя Новгородская губерния простиралась на 1700 верст в длину и 800 в ширину, через нее шло сообщение между двумя столицами, она граничила с одной стороны с Литвою, с другой – с Швециею и Белым морем. По прибытии в Новгород Сиверс нашел губернский архив, погребенный под развалинами упавшего свода в цейхгаузе, где архив хранился; по двум– или тремстам просьбам к губернатору по гражданским делам в год решалось по два или по три дела. Во всей губернии не было, собственно, никакой полиции. Приказания воеводы или губернатора передавались сотским, и так как сотские были обыкновенно безграмотные, то читал им их и писал донесения церковный дьячок. Со времени указа Петра III о вольности дворянской губернатор не имел права поручить ни одного дела жившим в его губернии дворянам, как это делалось до 1762 года; теперь если дворяне принимали какое-нибудь поручение от губернатора, то только выгодное. Более тысячи преступников содержалось в тюрьмах, и более тысячи других было отпущено на поруки. В числе уголовных преступников было человек 20 дворян, и в каждой из пяти провинций до 50 человек подлежали пытке. Сиверс доносил, что в кратковременное его пребывание в Новгороде не проходило дня, в который бы он не слыхал о буйстве, насилии и даже смертоубийстве в спорах между соседями, вследствие чего он просил о возобновлении генерального межевания. «Новгородская область, – писал Сиверс императрице, – достойна носить прозвище Нормандии. Думаю, что ни одна другая область в целой империи так не нуждается в новом Уложении, которое бы сократило судопроизводство. Ябеднические увертки достигли здесь такой степени, что нет средств к окончанию процессов. В течение 1764 года начато 53 процесса и ни один не окончен, равно как и процессы прошлых годов. При размышлении о средствах создать и ободрить промышленность первым бросившимся мне в глаза препятствием была обязанность горожан беречь вино и соль и продавать соль как казенный товар. Что касается крестьянина, то здесь главным препятствием служит неограниченная власть дворян налагать на своих крепостных какой угодно оброк или, лучше сказать, поступать с ними по внушению алчности и по отсутствию сознания собственного интереса. Несчастные существа большею частию находятся под властию таких господ, которые не знают, что богатство крепостного составляет богатство господина. Неограниченная власть требовать с крестьянина какой угодно работы и брать какой угодно оброк, часто решительно выше всякого вероятия, есть, без сомнения, главная причина, почему тысячи русских беглецов наполняют Литву и Польшу. Где зло еще не дошло до такой крайности, там крестьянин, видя, что земледельческие занятия не дают ему столько, сколько требует господин, принужден идти за 1000 верст искать больших заработков. Кроме происходящей отсюда очевидной невыгоды для земледелия, этого нерва государственного, произведения земли продаются слишком дорого, работник требует слишком высокой платы, что служит неодолимым препятствием для фабрик. Увеличению народонаселения полагается не меньшее препятствие в том, что крестьянин должен покидать свою семью». Сиверс в своей похвальной ревности к облегчению участи земледельческого народонаселения заговаривается: если б крестьянин, не чувствуя тягости от помещика, оставался на родной земле и возделывал ее, то для фабрик еще менее было бы рук и заработная плата была бы еще выше. Главное зло происходило именно от малолюдности, от недостатка рабочих рук, что удерживало так долго и крепостное состояние. Но если уничтожение этого печального явления было так трудно для правительства, то возможно было вмешательство правительства для положения границ произволу, и Сиверс требовал правительственного определения количества оброка и количества рабочих дней. «Я, – пишет Сиверс, – сам нашел, что один помещик брал по пяти рублей оброка с крестьян, живущих на песке и не имеющих пашни». Сиверс требовал также определения денежной суммы, взносом которой крестьянин имел бы право выкупаться. Сиверс обратил внимание на то, что расширение Петербурга и надобность для него все в большем и большем количестве строевого и дровяного леса отзовется вредно на Новгородской губернии, обезлесит ее и воспрепятствует заведению фабрик; он предлагал учреждение особой камеры, которая бы собирала сведения о лесах и определяла бы количество леса, которое можно было вырубить. В одной из новгородских провинций находились лесничие, подведомственные Адмиралтейс-коллегии: они занимались одним – продажею позволений на рубку леса – и тем обогащались. Для предупреждения недостатка или дороговизны топлива Сиверс предлагал вводить в употребление торф и особенно каменный уголь: ему подана была надежда, что последний можно найти на берегах Ильменя. Сиверс находил недостаточным управление прежними монастырскими крестьянами, находившимися теперь в ведении коллегии Экономии: один человек с двумя помощниками и писцом заведовал 20000 душ; крестьяне управляются сами, и их бурное самоуправление вредно для благосостояния отдельных лиц. Для улучшения быта жителей Новгорода Сиверс предлагал освободить их от военных постоев и с этою целию построить казармы как для гарнизонного баталиона, так и для двух стоящих там пехотных полков; казармы должны быть построены на счет города, дворянства и окрестных имений; предлагал основать публичную школу или гимназию для детей дворян и горожан, а в других городах губернии низшие школы и преобразовать духовные семинарии. Для улучшения земледелия вообще в России Сиверс указывал на необходимость учреждения земледельческого или сельскохозяйственного общества, которое было бы тем полезнее, чем невежественнее русское дворянство относительно средств удобрения полей и лугов, осушения болот, лесоводства, сельских построек и проч. Сиверс говорил насчет учреждения общества с кн. Вяземским и Олсуфьевым, и они согласились с ним; главное занятие общества должно было состоять в знакомстве с сочинениями по сельскому хозяйству, выходившими в Англии, Германии, Швейцарии и Швеции. Члены общества отмечают в этих сочинениях то, что с пользою может быть применено в России, и дают переводить отмеченные статьи, которые составят содержание периодического издания. Сиверс был свидетелем в Англии начала подобного общества, капитал которого в первое время не превышал и 50 гиней, а потом в короткое время это общество стало раздавать многие тысячи фунтов стерлингов и снаряжать корабли для своих целей.
Для поднятия торговли и промышленности в Новгороде Сиверс предлагал следующие средства: Новгородскому магистрату выдать 10000 рублей на 10 лет из казны для раздачи новгородскому купечеству; купцу Власову выдать 5000 рублей для усиления кожевенного завода; позволить тому же Власову купить до 20 душ мужеского и женского пола, которые были бы ему крепки (!). Из других местностей Новгородской губернии Старая Русса сначала привлекла особенное внимание Сиверса: мы видели, что этот город недавно потерпел от страшного пожара, надобно было его восстановить; кроме того, Сиверс очень ценил соляные варницы старорусские. Любопытно донесение Сиверса в Сенат о том, в каком состоянии нашел он Старую Руссу: воеводская канцелярия помещалась в таком маленьком и плохом доме, что можно сравнить его только с двойною крестьянскою избою; судьи и канцелярские служители с трудом помещались в верхнем этаже; в нижнем в средине находилась казна, по одну сторону которой содержались колодники, а по другую – архив; вследствие такого соседства казны с колодниками из нее уже было выкрадено около 300 рублей. Архив находился еще в худшем состоянии, чем новгородский: бумаги погнили, очень многих дел разобрать было уже нельзя, потому что листы рассыпались лоскутьями; неоконченных счетов Ревизион-коллегия считала на Старорусской канцелярии более 230. Сиверс представлял, что необходимо построить каменный дом для воеводы и канцелярии.
К двум из общих мер, предложенных Сиверсом, было немедленно приступлено. 5 марта издан был указ об учреждении «Комиссии о государственном межевании» из генералов Панина, Мельгунова, Муравьева, президента Вотчинной коллегии Лунина и князя Вяземского. Восстановлялось дело Елисаветы, приводилась в исполнение мысль Петра Ив. Шувалова, и потому в указе говорилось: «Ее императорскому величеству подлинно известно, что межеванье к государственному и народному спокойствию весьма нужно; но теперь только то неизвестно, полезно ли его на таком основании производить, как доныне установлено, и не нашлось ли во время течения оного на самой практике каких-либо неудобств и затруднений, сначала иногда непредвиденных». Другой проект Сиверса, о казармах, был переслан в воинскую комиссию и встретил здесь сильные возражения. «Если рассуждать о сем деле по поверхности одной, не вникая в самую внутренность вещей, то покажется тотчас великая польза и помещику, и мещанину, и солдату, и казне, ибо помещик за самую малую, так называемую добровольную дачу избавлен будучи вечно от постоя, спокойнее и земледельство свое, и экономию продолжать может; мещанин, не утесняем от постояльца, в торгах своих и промыслах помешательства иметь не будет; солдат спокоен останется, получа себе дом, ему принадлежащий, где он как хозяин жить спокойно станет, а при всем оном и казна ничего не теряет. Но коль скоро прилежнее и беспристрастнее важность сего разобрать, то встречаются следующие неудобности, службе и воинским порядкам вредные, да и мещанству и крестьянам весьма не полезные: 1) Солдат, получа собственный свой дом, сделается неминуемо хозяином, и должен он будет тогда за домом смотреть, снабдевать его всем нужным, что, занимая большую часть время у солдата, нечувствительно выведет его из его должности, и вдруг из исправного солдата сделается сперва мещанин, а потом, умножа хозяйство свое и приуча себя к корысти, начнет торговать и будет дурной солдат, дурной мещанин и дурной купец. 2) Теперешнее непременных квартир учреждение неописанную пользу имеет и ту, что солдат и его хозяин, будучи в беспрестанном друг с другом обхождении, так между собою свыкаться начинают, что нетокмо за злодея себе хозяин постояльца не считает, но, пользу друг от друга видя, согласно и живут, что все теперь ясно оказывается; а чрез отлучение солдата от мещанина они сделаются паки чужды, согласие кончится, и старинное страшное о солдате мнение опять возобновится, которое теперь так счастливо из мыслей подлых людей выходить начинает». Указав потом на огромные издержки, каких потребуют постройка и содержание казарм, воинская комиссия, однако, принимала за полезное построить казармы для гарнизонов, относительно же других войск построить квартиры только для одного штаба, ибо действительно от квартирования полкового хозяйства и лазарета происходит городским жителям утеснение; построение же казарм для гарнизонов, уменьшая излишнюю тесноту в городе, не делает никакого вреда гарнизонной службе затем, что гарнизонные солдаты не подвержены такой строгости и ежеминутному выступлению в поход, как полевые войска. Императрица написала на докладе комиссии: «С удовольствием прочитав сей доклад, полезным его нахожу, и исполнять по нем».
Мы не можем покинуть деятельности Сиверса в этом году, не упомянув о переписке его с Екатериною по поводу следующего случая. Двое крестьян, родные братья, рубили дрова в лесу; приезжает третий, чужой, и заводит ссору; от слов дело доходит до драки; один из братьев ударил чужого топором, и тот падает мертвым. Обоих братьев приводят на суд. «Кто из вас убийца?» – спрашивает судья. «Я!» – отвечает старший. «Нет, я!» – перебивает младший. «Не верьте ему, – говорит старший. – Он нарочно себя клеплет, потому что у меня жена и дети». Младший продолжает утверждать, что он убийца. Сиверс донес Екатерине, и та решила спор прощением преступника, который бы из братьев им ни был. Уведомляя императрицу, что помилование объявлено братьям, Сиверс писал: «Их слезы служили самою красноречивою благодарностию за жизнь, возвращенную им человеколюбием их государыни». Екатерина отвечала: «С удовольствием увидела я доброту вашего сердца из радости, с какою вы объявили прощение двоим братьям, из которых каждый объявлял себя преступником, чтоб спасти другого. Все это дело заслуживает быть публиковано в газетах для чести сердца человеческого, и тут одна природа: нет ни науки, ни воспитания».
Из истории областного управления в других частях России заметим два известия с юга и севера. Белгородский губернский прокурор Брянчанинов жаловался Сенату на губернскую канцелярию и самого губернатора генерал-поручика Нарышкина, выставляя упущения в делах; а губернатор жаловался на прокурора, что тот затрудняет производство дел. Сенат приказал: к губернатору и в губернскую канцелярию послать указ, что главною причиною несогласия должна быть какая-нибудь скрытная ссора, и потому Сенат, не входя в подробное рассмотрение дела, что могло бы повести для обеих сторон к неприятным последствиям, желает его в самом начале потушить в надежде, что и сами они, видя такое к ним снисхождение, будут стараться ему соответствовать и не только оставят все прежнее между собою несогласие, но, помогая друг другу в делах, будут единодушно стараться о прямом исполнении своей должности.
С самого далекого севера пришло донесение правящего воеводскую и комендантскую должность в Кольском остроге майора Абатурова с жалобою на Архангельскую губернскую канцелярию, которая наложила на него взыскание за нескорую доставку ведомостей: указ из губернской канцелярии прислан 11 августа, по которому обстоятельный репорт сочинен и послан 15 августа по неимению оказии чрез Окиян-море, почт же там нет, и учредить их в летнее время за великими болотами никак нельзя, затем и прочие ведомости и репорты хотя в указный термин учинены и бывают, однако, запечатанные, лежат по месяцу и больше и посылаются чрез Окиян-море, где за великими штормами бывают в пути немалое время. Притом же дел сочинять и писать некому, ибо при воеводской канцелярии находятся только два писца, из которых первый почти ничего при огне писать не может и летами так престарел, что с нуждою ходит, а последний едва только писать умеет, и притом оба весьма худого состояния и беспонятны; от губернской же канцелярии приказных служителей требовал он двукратно, но в резолюции на то получил, чтоб ему в доброе состояние привесть имеющихся служителей, на что он репортовал, что их как в непорядках закоснелых людей поправить и в состояние привесть никак невозможно, почему принужден он всякие текущие дела начерно писать. Все те воеводской канцелярии прошедших лет дела без переплету брошены в холодной подле канцелярии каморе и по большей части погнили и передраны, так что и разобрать неможно, зачем требуемых Ревизион-коллегиею с 730 по 763 год счетов едва и отыскать можно ль, и ему не только означенный архив разбирать и текущих дел исправлять некем, и от того б его защитить, ибо он более склонность и охоту имеет к воинской службе.
Срок для окончания ревизии давно уже прошел, а между тем оказывалось, что по разным губерниям большое число душ еще не обревизовано, а именно по второй ревизии показано было в Московской губернии 2062907; из этого числа теперь было обревизовано 1916859, тогда как оказалось 2099709, затем в числе по прошедшей ревизии осталось не обревизовано 115100 душ. В Новгородской губернии 736613, обревизовано 698953; против того оказалось 800146, необревизованных 41676 душ. В Белгородской 655382, обревизовано 631659, против того оказалось 693368, затем не обревизовано 31358. В Воронежской 679676, обревизовано 674258, против того оказалось 809184, не обревизовано 21461. В Казанской 1085104, обревизовано 1071176, против того оказалось 1207648, не обревизовано 49077. В Смоленской 246262, обревизовано 217077, против того оказалось 246501, не обревизовано 29185. В Сибирской 224167, обревизовано 228862, против того оказалось 279000, не обревизовано 19874. Сенат заметил, что хотя во многих провинциях и уездах обревизованное число душ превосходит число душ прежней ревизии, однако нигде не упоминается, чтоб подача сказок совершенно была окончена, и потому нельзя узнать, сколько еще осталось в тех местах необревизованных душ; губернаторы пишут, что сказки не все еще поданы.
Известия о волнениях заводских крестьян не прекращались. В Воронежской губернии мастеровые и рабочие на Липском и других заводах князя Репнина жаловались на обиды от поверенного княжеского и прикащиков; губернатор отправил в город Романов для исследования подпоручика Рагозина. Поверенный и прикащики заперлись, что никаких обид не делали; тогда рабочие, человек до 300, явились к Рагозину и единогласно закричали, что они работать и в послушании у князя Репнина и прикащиков его не будут, также не будут ничего отвечать и подписываться, а желают исправлять казенные работы, как они состояли до отдачи заводов князю Репнину. Губернатор (Лачинов) писал в Сенат, что он почитает ненужным входить в дальнейшее следствие, ибо все дело в том, что этим людям не хочется называться помещичьими крестьянами. Сенат отвечал, что, как он хочет, только чтоб привел крестьян в повиновение по указам. Скоро после этого императрица нарядила комиссию из Петра Панина, Муравьева, князя Вяземского, Шлаттера и Аполлона Пушкина относительно заводов и приписных к ним крестьян. Комиссия должна была рассмотреть прежние положения и представить императрице с мнением, в чем прежнее устройство требует исправления, как к тому приступать, сообразуя народное облегчение и спокойствие с государственною прибылью, приводя каждого в правосудные границы, благодаря которым, не опасаясь праведного наказания, могли бы пользоваться справедливо приобретенным подземным сокровищем к обогащению государственному. Комиссия должна была решить следующие вопросы: 1) полезно ли, чтоб заводы были в партикулярных руках, или лучше им 2) быть в казенном содержании; 3) если в партикулярных руках заводам быть, 4) за дворянами или за недворянами; 5) какие меры брать, дабы впредь крестьяне не бунтовались; 6) рассмотреть, от чего сей вред происходил; 7) положить на мере, каким образом казенных по заводам должников приводить к заплате долгов; 8) полезно ли умножать заводы; из чего последует 9) рассмотрение о сбережении лесов.
В конце года явилась жалоба казанских чернопахотных крестьян, приписных в Оренбургской губернии к Авзянопетровским заводам дворянина Евдокима Демидова, жалоба была подана поверенным крестьянином Дехтеревым. Демидов представил в Берг-коллегию 4 человек, в том числе и Дехтерева, которые все и были отправлены к следствию в Екатеринбург в Канцелярию главного правления заводов; но один из них, Тунгусов, бежал и подал челобитную императрице. Тунгусова приговорили к плетям и к отсылке на Монетный двор в работу на два месяца, ибо недавно учрежденная комиссия о горных заводах в мнении своем заявила, что, по ее наблюдению, во многих подобных крестьянских жалобах главными виновниками бывают те дерзновеннейшие и ухищреннейшие крестьяне, которые, желая получить от товарищей своих награждение, нарочно уговаривают их к принесению жалоб от всего общества и вызываются быть поверенными, будучи готовы за полученные деньги сносить иногда и некоторое страдание.
Но незадолго перед тем Сенат указал на любопытное отношение заводчиков к работникам. Другой Демидов, Прокофий, просил об увольнении его от казенной поставки железа. Наведена была справка, и оказалось, что в 1702 году по желанию и прошению комиссара Никиты Демидова дозволено ему ставить в казну всякие военные снаряды по представленным от него ценам и для того отданы ему во владение казенные Верхотурские железные заводы. На этом основании Сенат решил, что наследников Демидова от казенной поставки освободить нельзя и ставить они должны по прежним ценам, потому что в 1703 году в Верхотурском уезде приписаны к заводам Демидова Аяцкая и Краснопольская слободы да село Петровское с деревнями, и если б Демидовы от поставки уволились, то и слободы с деревнями надобно у них взять; и хотя с того времени как на работников, так и на всякие припасы цены несколько возвысились, однако Демидовы дают приписным рабочим прежнюю плату.
Мценский купец Коняев подал любопытное доношение в Сенат, что по нападкам, не дождавшись срока платежа взятых им из Медного банка денег, засадили его в тюрьму и стали продавать имение; продали крепостных людей дешевою ценою: пять душ, в том числе три женщины, проданы за 20 рублей; кроме того, 8 душ продано за 150 рублей, 4 мужеского и 4 женского пола, в том числе прикащик его, аккредитованный магистратом для купечества и подрядов. Через несколько месяцев после этого Сенат в своем указе 25 октября указал на один из источников крепостного отношения крестьян к купцам, источник, который мы встречаем повсюду в неразвитых, бедных обществах, именно закладничество вольное и невольное: многие крестьяне, говорит Сенат, отлучаются от домов своих в разные города, но, будучи у купцов в работах и услужениях, обязываются векселями, и в случае неуплаты купцы протестуют эти векселя в отдаленных городах и по протесте долго держат у себя умышленно, для накопления процентов, и чрез то бедных крестьян доводят до ссылки в каторжную работу, откуда по указу 1736 года те же самые заимодавцы этих крестьян скупают за положенную плату и тем удерживают их вечно в своих услугах; а некоторые из крестьян, отбывая от платежа положенных податей и поборов, чтоб вечно себя в услуги купцу укрепить и добровольно с ним согласясь, дают в немалой сумме векселя. Сенат велел послать ко всем губернаторам указы, как наивозможно такие беспорядки отвратить и искоренить. Помещики получили право людей своих в наказание за «продерзостное состояние» отдавать в каторжную работу Адмиралтейс-коллегии на желаемое самими помещиками время.
Обратили внимание на почту, которая находилась в очень незавидном положении; должны были обратить внимание и на положение ямщиков. Генерал-поручик Овцын представил, что в 1705 году по указу Петра Великого во всем государстве ямщики были расположены в выти: выть имела по семи дворов, во дворе по четыре души ревизских. С каждой выти велено было содержать для ямской и почтовой гоньбы по три лошади, и хотя многими указами запрещено брать лошадей сверх вытного числа и за разгоном не принуждать ямщиков к найму, но, сколько в котором яму вытей и указных лошадей, о том никогда не было публиковано в народе, и проезжие по незнанию этого принуждают ямщиков жестокими побоями и силою нанимать лошадей с убытком, прибавляя к прогонам по рублю и по два на лошадь, а иногда случается и больше. От таких бесчеловечных побоев и наглостей ямщики несут великую тягость, а особливо на почтовых станах (как и теперь случилось у штат-фурьера Петрищева с яжелбицким ямщиком Григорием Серым). За неимением в тех местах управителей защитить ямщиков некому, потому что почтовые станы во всем государстве состоят по большей части в монастырских деревнях, а управители от этих станов живут на большом расстоянии. В запряжках ямщики несут великую тягость и обиды оттого, что многие проезжие требуют подорожные на весьма малое число лошадей и запрягают под четвероместную карету лошади по 4 и по 3, в карете садятся пассажиров человека по 4 и 2 человека назади, да еще несколько вещей кладут, и за такою великою тягостию ямщики принуждены бывают припрягать лишних лошадей. 25 ноября отправлены были всем губернаторам указы: по всей губернии сделать расписание и станции («и где потребно, и новые назначить станции», – приписала Екатерина собственноручно), назнача, сколько на каждую должно поставить лошадей и где именно этим станциям, а в городах почтовым конторам быть надлежит и не найдутся ли охотники к определению в комиссары и почтмейстеры из отставных («проворных», – приписала Екатерина собственноручно) субалтерн-офицеров доброго поведения и в письменных делах знающих. Губернаторы обязаны были изыскать везде сколько можно кратчайший почтовый путь и представить удобнейшие средства к поправлению больших дорог и всегдашнему их содержанию в добром состоянии.
Мы видели, что Сиверс указывал на недостаточное управление прежними монастырскими крестьянами, отчего и доходов с имений получалось менее, чем сколько можно было получить. А увеличение доходов коллегии Экономии было нужно: соединенные комиссии Духовная и Воинская потребовали от этой коллегии еще 12000 рублей в год на инвалидов, которых сверх штата оказалось 150 унтер-офицеров и 1000 рядовых; сделано также распоряжение и о заштатных богаделенных. Сбор со свадеб за венечные пошлины был отменен; но так как этот сбор шел на лазареты, то коллегия Экономии должна была отпускать ежегодно на лазареты сумму, которая равнялась сумме сбора за венечные пошлины в лучший год. Еще в манифесте 1764 года об окончании комиссии о церковных имениях было сказано: «Избавили мы все белое священство от сбору им разорительного данных (от „дань“) денег с церквей, который прежними патриархами был установлен и по сие время в отягощение священству продолжался, и оный вовсе сложили, так как и собираемую часть хлеба, с монастырей двадцатую, а с церквей тридцатую, на семинарии, к немалому оскудению того же священства до сего бывшие оставили». На том основании, что теперь на содержание архиереев и служителей их положены определенные оклады из коллегии Экономии, отменены были все прежние сборы с поставления в архимандриты, игумены, протопопы и иеромонахи, также с благословенных грамот о строении и освящении церквей, вдовым священникам и дьяконам с епитрахильных, постихарных и перехожих грамот; епитрахильных и постихарных грамот вообще не давать; архиереям, переведенным на новые епархии, старых грамот в них священно– и церковнослужителям не подписывать; во время объезда епархий архиереям на подводы и ни на что от духовенства денег не требовать; удержан только один сбор с поставления священно– и церковнослужителей: с первых – по 2 рубли и со вторых – по рублю. Для прекращения жалоб на вымогательства духовенством больших денег за требы определен был minimum платы за требы сельскому духовенству с запрещением домогаться большего, которое могло быть получено только по доброй воле дающего: за молитву родильнице 2, за крещение младенца 3, за свадьбу, за погребение возрастных 10, за погребение младенцев 3 копейки; за исповедь и причастие запрещено было брать.
Относительно раскола заметим следующие явления. Синод прислал в Сенат ведение: раскольники в числе 30 человек из села Буборина Новгородской епархии прошли в Зеленецкий монастырь, выгнали братию и грабят церковное и монастырское имущество. В Олонецком уезде раскольники собрались и заперлись в избе у одного из своих, Иванова, вместе с неведомыми людьми. Староста, десятские и мирские люди подошли к избе с вопросом об этих неведомых людях; вместо ответа вышел из избы неведомый человек стопором в руках, ударил десятского и отсек ему руку; изумленная толпа не шевельнулась, неведомый человек спокойно возвратился в избу, но вслед за тем пламя вспыхнуло внутри ее, и раскольники сгорели в числе 15 человек.
В описываемое время кончилось долго тянувшееся соблазнительное дело архимандрита Иуста и монахов Пыскорского (Пермского) монастыря, богатого своими соловарнями; в Сенат представлено было 54 экстракта о винах означенных лиц, между прочим о перепилении Спасителева Образа, о наступании на Образ, служение на 4 просвирах, о бое пономаря и о сечении иеромонаха в церкви до крови, о спилении с колоколов подписи и отобрании от церквей колоколов, о снятии с икон окладов и сделании дорогой шапки, о покупке кареты в 500 рублей; о имении ложного с привесною печатью указа, о непомерных поборах с крестьян и о битье на правеже, о смертоубийстве и мужеложстве архимандрита Иуста с келейником, которого наградил 10000 рублей, о дачах из монастырских сумм во взятки духовным и духовного ведомства лицам. На юго-восточной украйне церковь сталкивалась с донскими козаками, с которыми давно уже не сталкивалось государство. Св. Тихон, епископ воронежский, жаловался Синоду, что Донское войско вступает в духовные дела, в дьячки и пономари определяет и грамоты дает, а других само собою отрешает и в козаки записывает; священника Терновской станицы, доносившего о раскольниках, атаман забил в колодку и отослал в войсковую канцелярию неизвестно за что; а наказной атаман Иловайский прислал письмо, в котором с немалым нареканием требовал, чтоб архиерей не касался детей священно– и церковнослужителей, потому что они отправляют козачью службу, а церковные причетники по рассмотрению и определению Донского войска производятся из козаков же.
Воронежский губернатор Лачинов также донес о любопытном явлении в земле Донского войска. В Луганской станице на ярмарке произошел пожар от зажигателя: погорело купеческого и козачьего товара более чем на 127000 рублей. Зажигатели – двое малороссиян, Золотаренко и Чернов, – были пойманы и показали, что, приехав на ярмарку, Золотаренко объявил о себе базарному старшине Волошенинову, что он человек, имеющий у себя тихую руку и быстрый глаз, т.е. просто мошенник, и Волошенинов позволил ему заниматься на ярмарке своим промыслом и, когда его приводили с поличным, отпускал на свободу. Чернов находился в услужении у Волошенинова и мимо настоящих Козаков определен был на ярмарке есаулом. Волошенинов приказал Золотаренку и Чернову зажечь ярмарку с условием, чтоб они отдали ему половину пограбленного на пожаре. По справке оказалось, что атаман Ефремов определил Волошенинова старшиною вопреки сенатской грамоте 1757 года, которою приказывалось отрешить его от команды как человека неблагонадежного.
Относительно Малороссии граф Румянцев в мае месяце подал доклад, что многие города розданы во владение частным людям большею частию последним гетманом – Разумовским, хотя в гетманских статьях нигде не сказано о праве раздавать города, а только деревни и мельницы. По мнению Румянцева, города, особенно обведенные валами, нужно было отобрать от частных владельцев; Екатерина написала: «Все города, не государевыми указами пожалованные, следует отобрать; а о тех городах, если государями пожалованы, о тех войтить с помещиками в негоцияции, дабы добровольно за удовлетворением оные пока уступили; а прежде всего нужно узнать, сколько таких городов и за кем и кем пожалованы». Городские жители, писал Румянцев, от разных притеснений разошлись, записались в козаки, продолжают торговать, но гражданской повинности не отбывают; города опустели, и некоторые только имя городов носят, а вид имеют пустырей; по мнению Румянцева, надобно было запретить торговлю и промыслы тем, кто не записан в городское общество, т.е. сделать то же самое, что в подобных обстоятельствах сделано было в Великой России в XVII веке. Екатерина написала: «Как из сего пункта усматривается, что города почти пусты, того ради сделать рассмотрение, не лучше ли в политическом и коммерческом виде заводить в пристойных и удобных местах новые города полезнее старых, а впрочем, я согласна с его (Румянцева) мнением». Императрица согласилась на просьбу Румянцева выписать искусных людей для улучшения земледелия и скотоводства и для сохранения лесов; устроить почты; но под статьею об улучшении местной артиллерии написала: «Оставляется до времени». В Малой России церковные имения еще не были отобраны, число в них дворов простиралось до 14111; Румянцев жаловался на дурное управление этими имениями; писал о надобности завести первоначальные школы, также военную школу и госпитали. Относительно этих пунктов сохранилось отдельное письмо Екатерины к Румянцеву: «Желаю, чтоб вы тамошних несколько называемых панов склонили к подаче челобитной, в которой бы они просили о лучшем у них учреждении школ и семинарий, и, если можно, о положении духовенства в штатное состояние от духовных или светских такую же челобитну иметь; то б мы уже знали, как починать. Мне Николай Чичерин сказал, что митрополит киевский сам не прочь от сего учреждения будет, понеже он менее дохода с деревень имеет, нежели последний великороссийский архиерей, а мы б ему, преосвященному, если б склонился о штатном положении просить, сделали б весьма выгодные для него кондиции».
Поселение иностранных колонистов на юго-восточной украйне повело к столкновениям с старыми русскими жителями в этой считавшейся пустою земле. Оказалось, что живущие в городе Саратове и в прочих тамошних местах дворяне, купцы и прочие разночинцы имеют зимовья и при них пашню и крестьян по большей части на таких землях, на которые не только никаких крепостей у них нет, но и дач совсем не сделано; город же Саратов наполнен не принадлежащими к нему жителями, между которыми находятся неведомо какие малолетки и так называемые саратовские дворяне. Поселившимся на землях, лежащих междуреками Волгою и Медведицею, собственным ее величества и дворцовым села Золотого крестьянам земель не отведено и дач несделано, а крестьяне этих волостей, несмотря на то что всех около лежащих земель обработать не в силах, иностранцев селиться не пускали; так и прочие старые жители, поселившиеся без указу по рекам Медведице, Хопру и Дону и по притокам их, захватя все лучшие земли, называют их принадлежащими к их имениям. Ниже города Дмитриевска (Камышина) к Царицыну поселены волжские козаки, которые, по сказкам саратовских обывателей, сильно размножились, а между тем здесь было назначено селить иностранцев. Крестьяне Нарышкиных села Никольского и Покровского по реке Медведице указывали на свои владения по этой реке с лишком на 300 верст, захватывая в том числе город Петровск и больше ста селений. Президент Канцелярии опекунства иностранных колонистов граф Гр. Гр. Орлов выставил в своем донесении Сенату все эти явления, очень естественные на степной украйне, как явления, которых терпеть нельзя. Надобно было потеснить слишком просторно живших русских поселенцев, чтоб поместить поселенцев иностранных. Сенат приказал: всем владельцам, которые без дач и крепостей поселились в определенной для иностранцев окружности, отмерить наравне с иностранцами на каждую семью по 30 десятин и сделать дачу, а которые имеют указные дачи и крепости, тем по ним и владеть; если же по числу поселившихся крестьян этой дачи недостаточно, то домеривать по числу душ; а хотя по межевой инструкции надобно бы с тех владельцев взять в казну по 10 копеек с десятины, но так как в манифесте о вызове иностранцев даны им земли без всякого платежа, то подать ее императорскому величеству доклад с таким мнением, что несогласно было бы с ее милосердием, когда выходящие иностранцы станут селиться на пространных и изобильных землях без всякого за них платежа, а подданные ее императорского величества будут платить, умалчивая о том, каковая от этого у тамошних старых жителей может вкорениться зависть к иностранцам.
Так решил Сенат 8 марта. В этом решении он руководился тем взглядом, что заселялась страна пустая сначала русскими колонистами, которые своим поселением взяли землю во владение, завоевали ее для государства если не у чужих народов, то у дикой природы, что было гораздо человечнее; теперь государство из-за очень спорных выгод искусственного увеличения народонаселения чуждым элементом решило среди русских колонистов поместить иностранных, давши им, как обыкновенно бывает в подобном случае, льготы, давши землю даром; рождался естественный вопрос: за что же русские колонисты будут платить за занятую ими землю? На 1 июня Сенат переменил свое решение, велел в докладе вычеркнуть статью, чтоб с русских землевладельцев не брать по 10 копеек за десятину. Сенат был смущен мнением князя Якова Петровича Шаховского, который объявил, что «согласиться не может, ибо инаковое имеет мнение о помещиках, которые, государственные узаконения вместо должного сохранения пренебрегши, своевольством казенные земли присвоили (?), заселили и многие с оных надобные для польз Государственных леса, чрез долгие времена береженные (кем?), истребляли, также и, прочими с тех мест угодьями пользуясь, богатились, и впредь они и наследники их по такой дешевой покупке богатиться будут, к немалому не только соблазну, но и огорчению тех, которые и с лучшими монархам и отечеству заслугами только для того, что, не смея до не позволенного им прикасаться, не только богатств, но и нужного к содержанию своему не имеют; так как учреждена комиссия для рассмотрения, как удобнее межеванье производить, по инструкции ли 1754 года или что из того отменить или прибавить следует, то о всем том ныне, по его мнению, представлять приличности нет, а надобно ожидать конфирмации доклада этой комиссии». В этом деле любопытна также медленность, с какою велось оно: первое решение оставалось неисполненным почти три месяца и потом изменено! Вскоре после этого граф Орлов донес по тому же делу: «От некоторых селений по р. Хопру предъявлены данные им на земли купчия и записи от таких людей, которым те земли нимало не принадлежат, а отведены продавцами из свободных государственных земель, присутственные же места совершают купчия без всяких справок, а некоторым и вновь производят из диких земель дачи. Живущие за помещиками малороссияне по причине отягощения от помещиков просят об отмежевании им особо земли».
В этом году на украйнах, где обыкновенно не бывает недостатка в горючих материалах, начало обнаруживаться явление, которое чрез несколько лет потом повело к большому пожару, явление самозванства. Солдат Гаврила Кремнев из однодворцев бежал из полку, прослужив в нем больше 14 лет. В бегах подговорил двоих крестьян помещика Кологривова и, ездя по разным селам и деревням Воронежской губернии, разглашал сначала, что он капитан, послан с указом, будто курение вина запрещено, сбора подушных денег и рекрутчины не будет на 12 лет, а наконец назвался государем Петром III. Главным помощником его был поп Лев Евдокимов, который сначала возражал ему, что Петр III скончался, и Кремнев отвечал: «Тогда умер солдат». Из неверующего Евдокимов стал горячим приверженцем самозванца и утверждал, что, будучи дворцовым певчим, видел Петра Федоровича и маленького на руках нашивал. Кроме Евдокимова Кремневу помогали: отставной сержант Петров, капрал Григоров, дьячок Антон Попов; они согласились приводить однодворцев все больше и больше в согласие, потом привести их к присяге и ехать в Воронеж, откуда послать в Москву и Петербург с известием, будто проявился государь, а затем самим ехать в обе столицы. Беглых крестьян Кремнев называл генералами: одного – Румянцевым, а другого – Пушкиным. Императрица увидала из дела, что «преступление Кремнева произошло без всякого с разумом и смыслом соображения, а единственно от пьянства, буйства и невежества, что дальнейших и опасных видов и намерений не крылось». На этом основании Кремнев был освобожден от смертной казни; его секли кнутом во всех тех селах, где он о себе разглашал, привязавши на груди доску с надписью: «Беглец и самозванец», потом выжгли на лбу начальные буквы этих слов и сослали в Нерчинск на вечную работу. Били плетьми и сослали в Нерчинск армянина Асланбекова, схваченного с фальшивым паспортом и объявившего себя также Петром III. Самозванство уже соединяется с раскольничеством: беглый солдат Иев Евдокимов, назвавшийся Петром II, проживал у раскольников. Брянского полка беглый солдат Петр Федоров Чернышев в слободе Купенке Изюмской провинции стал разглашать о себе, что он бывший государь Петр Федорович; ему поверил поп слободы Купенки Семен Иванецкий, по желанию Чернышева служил всенощную и молебен, поминая его на ектениях императором. На допросе Чернышев показал, что он однодворец, женат, имеет маленького сына Павла, важное название выговорил без всякого намерения, а единственно потому, что в разные времена, будучи в кабаках и шинках, между незнакомыми людьми слыхал в разговорах о бывшем императоре; говорили разное: иной, что он действительно преставился, а иной, что еще жив. Обоих их высекли кнутом и сослали в Нерчинск: Иванецкого – на житье, а Чернышева – в работу. Главный командир Нерчинских заводов генерал-майор Суворов прислал донесение, что Чернышев и там разглашает о себе то же самое, чему некоторые из тамошних жителей поверили и давали ему много подарков.
Но эти случаи были слишком мелки; на них не обращали большого внимания как происходившие «без всякого с разумом и смыслом соображения». Сильнейшее внимание было обращено на Польшу, хотя и здесь не предугадывали, что присутствуют при начале конца.
После того как южные славянские государства полегли перед турками, а Чехия потеряла свою независимость в борьбе с Габсбургами, славянский мир представлялся двумя обширными независимыми государствами – Россиею на востоке и Польшею на западе, и между этими государствами в XVI и XVII веках шла сильная борьба, иногда не на живот, а на смерть. Оба государства образовались при одинаких условиях; оба явились изначала с обширною государственною областию и с малым сравнительно народонаселением, оба были по преимуществу континентальные, что условливало земледельческий характер, тугое развитие города, промышленности, торговли, господство сельской формы, господство земли, землевладельческого интереса, не умеряемого интересом горожанина, владельца движимого имущества, и при господстве землевладельческого интереса пренебрежение интересом земледельца. В Польше рано землевладельческое сословие берет силу и при благоприятных обстоятельствах стремится к одностороннему развитию, порабощая сельское народонаселение, отстраняя городское от представительства и все более и более ограничивая королевскую власть. Польша представила республику с избранным президентом, хотя и носившим королевский титул; но вся власть находилась в руках известного ряда богатейших землевладельдев, от которых беднейшие находились в зависимости без западноевропейского формального закладничества или вассальства, ибо на сеймах польские магнаты нуждались в толпе приверженцев, которые бы имели, по-видимому, совершенно вольные голоса, пользовались бы вполне одинаковыми правами с самыми знатными и богатыми людьми. Крайность свободы или своеволия, крайнее развитие личности, дошедши до неумения подчиняться ничему, установило обычай, вынесенный из первоначальных обществ, обычай единогласного решения дел (liberum veto). Liberum veto поражало бездействием власть законодательную; крайняя слабость исполнительной власти порождала страшный внутренний беспорядок; отсутствие большого постоянного войска, происшедшее сначала из боязни усилить королевскую власть и поддерживаемое нежеланием давать деньги на содержание армии, – это отсутствие военной силы делало Польшу беззащитною извне, делало ее легкою добычею сильных соседей. Сознание печального состояния государства, сознание возможности близкой гибели явилось, и явились попытки предупредить беду уничтожением сеймовых беспорядков, усилением королевской власти, созданием войска; но попытки эти не могли увенчаться успехом, и не потому, чтоб завистливые соседи этому препятствовали. В других государствах, в Дании, Швеции, где также землевладельческое сословие стремилось к крайнему развитию своей власти за счет других элементов, равновесие было восстановляемо, королевская власть усиливалась вследствие движения других сословий, получивших также значительное развитие. Но в Польше односторонность развития была такова, что одна шляхта имела значение, ибо духовенство было слито с нею в политических интересах. Следовательно, в Польше попытка изменить конституцию могла быть только делом партии из того же шляхетства; она могла случайно иметь успех нынче, но торжество партии противной уничтожало ее завтра, причем движение не получало питания изнутри, из земли, а могло поддерживаться только внешнею силою соседних государств.
Иначе дело шло в России. Здесь долго после основания государства земля по обилию своему и при скудости населения не могла иметь важного значения, не привязывала к себе, не усаживала человека, вследствие чего между князьями долго господствуют родовые отношения, заставляющие их переходить из одной волости в другую; дружина сохраняет свой первоначальный характер, переходит вместе с князем, получает от него содержание движимостию; а чрезвычайное и быстрое распложение княжеского рода отнимает у членов дружины возможность приобресть значение в качестве областных правителей. Когда на севере все начало устанавливаться, то дружина явилась безземельна или малоземельна и могла получить землю только от князя во временное или вечное владение в виде поместий или вотчин; дружина явилась с своим правом перехода, движения, которое оказалось вовсе некстати в то время, когда все усаживалось, устанавливалось, и которое упразднилось совершенно вследствие утверждения единовластия, когда не к кому стало переходить; и так как других прав не было скоплено, то члены дружины стали холопями великого государя. В некоторых городах благодаря выгоде положения торговли и, главное, княжеским родовым отношениям и усобицам развилось самоуправление, но это явление было односторонне в отношении к местности: мы видим его преимущественно, если не исключительно, на Западе, на стороне пути «из варяг в греки», и когда прочный порядок вещей утвердился на Востоке, то города-государи не могли противиться государю московскому и должны были приравняться к городам восточным. Восточная Россия, Московское государство образовалось, таким образом, с сильною верховною властию благодаря отсутствию сильного развития в других органах государственного тела. Но кроме того, малочисленное народонаселение, разбросанное по обширнейшей стране, все более и более увеличивающееся пустынными пространствами, требовало для своего сосредоточения, для направления своих сил к общим целям сильного правительства; наконец, открытость страны, окруженной со всех сторон врагами, тяжелая многовековая борьба с варварским востоком, необходимость постоянно отбиваться от врагов для сохранения независимости требовали строгой дисциплины, постоянной диктатуры. Вот почему Россия явилась в XVIII веке среди европейских государств с отличительным признаком – крепким самодержавием.
Так порознились Россия и Польша на своем историческом пути; но не эта разница была причиною борьбы между ними, она только имела важное значение относительно исхода борьбы.
Россия и Польша получили каждая свою историческую задачу соответственно своему положению. Польша должна была сдерживать напор немцев с запада, Россия – напор варварских орд с востока. Польша не выполнила своей задачи, отступила пред напором, отдала свои области – Силезию, Померанию – на онемечение, призвала тевтонских рыцарей для онемечения Пруссии; но, отступивши на западе, она ринулась на восток, воспользовавшись ослаблением Руси от погрома татарского: она захватила Галич и посредством Литвы западные русские земли. Но в это самое время Россия, окрепнув на востоке и управившись с варварскими ордами, начала двигаться на запад для естественного сплочения всех русских земель, всего русского народа в одно государство; при этом движении в западных русских областях она нашла наезд незваных гостей, которые ополячивали русский народ посредством католицизма. Столкновение было необходимо, и столкновение страшное: Россия двигалась на запад, Польша ей навстречу двигалась на восток; местом встречи, местом столкновения была Западная Россия; с самого начала рождался вопрос: Западной России оставаться ли Россиею и, соединясь с Восточною, Великою Россиею, составить одну Россию или перестать быть Россиею, ибо в Польше очень хорошо поняли с самого начала, что Западная Русь, оставаясь Русью, не будет крепка Польше, особенно при борьбе последней с Великою Россиею; она могла быть крепка Польше только в том случае, если б потеряла русское народонаселение, т.е. если б это народонаселение, лишившись основы своей – народности, веры восточного исповедания, превратилось в народонаселение польское, католическое. Следовательно, внутренняя борьба в двусоставном польском государстве, борьба между польскою и русскою народностию, необходимо должна была принять характер борьбы религиозной при необходимом вмешательстве Великой России, которая должна была заступаться за своих.
В XVII веке эта борьба кончилась с большим ущербом для Польши, которая должна была уступить часть западнорусских областей Великой России, уступить ей Киев. Но понятно, что такой исход борьбы мог только усилить стремление поляков отнять у русского народонаселения, оставшегося за Польшею, его веру и народность. Усиление мер против православия приводило к желанным результатам в одном самом важном для Польши пункте. Польша была государство шляхетское, одна шляхта имела представительство, голос на сейме, следовательно, необходимо было, чтоб это сословие представляло полное единство, состояло из одних поляков-католиков, исключение из представительства русской православной шляхты или обращение этой шляхты чрез католицизм в поляков освобождало республику от влияния сильной России, которое проводилось бы русскими депутатами, русскими должностными лицами. Отнятие политических прав у некатолической шляхты всего более содействовало переходу ее в католицизм, так что в описываемое время православной шляхты, по крайней мере значительной, было уже очень мало. Поляки тем удобнее могли проводить свои меры против православия, что Россия была занята другими делами: Петр Великий вел войну с Швециею, причем должен был стараться держать Польшу при своей стороне. Петр, однако, никак не хотел позволить гонения в Польше на православных: видя, что дипломатические представления ни к чему не ведут, он отправил своего комиссара в Польшу наблюдать, чтоб этого гонения не было и православным дана была полная управа в обидах. Поднялся страшный крик против такого небывалого вмешательства русского государя во внутренние дела Речи Посполитой, но криком все и кончилось: с Петром ссориться было нельзя. После Петра эта мера не была возобновляема даже и в царствование его дочери, ибо отношения к Пруссии, Семилетняя война не давали возможности ссориться с Польшею; и заступничество России за единоверцев, на которое она имела и формальное право по Московскому договору, ограничивалось по-прежнему дипломатическими представлениями. Но Екатерина находилась в самом благоприятном положении сравнительно с своими предшественниками, и она решила воспользоваться этим положением, чтоб, возведя на польский престол короля, всем ей обязанного, порешить все споры с Польшею в пользу России. Дело о защите православных было, разумеется, важнее всех, в нем была особенно заинтересована слава императрицы, ибо легко понять, какое впечатление должно было произвести на народ покровительство, оказанное единоверцам, и покровительство, увенчавшееся небывалым успехом. Выигрывая необыкновенно в расположении собственного народа этим народным подвигом, получая чрез него, так сказать, вторичное, закрепляющее все права венчание русскою, православною государынею, что для Екатерины было так важно, она не могла быть равнодушна и к той славе, которую должны были протрубить вожди общественного мнения на Западе, к славе победительницы фанатизма, нетерпимости, к славе государыни, которая прекратила религиозное гонение, возвратила спокойствие и гражданские права людям, лишенным их вследствие религиозной нетерпимости народа, живущего под сильным влиянием ненавистного католицизма. Далее следовали другие расчеты: возвращением прав диссидентов вводился в польские правительственные отправления элемент, который, естественно, должен был находиться под русским влиянием и привязывать, особенно в делах внешней политики, Польшу к России. При существовании такого элемента казалось безопасным позволить Польше выйти из страшного безнарядья и чрез это приобрести некоторую силу. В Петербурге не могли вполне сочувствовать внушениям, настаиваниям, приходившим из Берлина, чтоб ни под каким видом не позволять Польше изменять свою конституцию. В Пруссии, как и в других западноевропейских государствах, выработалась верность системе, основанной на самосохранении и приобретении известных выгод, расширения государственной области и т.п. Эта национальная система проводится настойчиво, никакие другие соображения в расчет не принимаются, все должно быть принесено в жертву системе; политика чрез это является узкою, своекорыстною, но легкою по своей простоте. Россия, введенная Петром Великим в общую жизнь европейских народов, представляла в этом отношении заметное различие. Россию можно было упрекать в неимении ясно сознанной национальной политики, по крайней мере в отсутствии настойчивости в достижении целей этой политики; можно было упрекать относительно медленности в восстановлении полного господства русской народности в западном крае и т.п. Причины этого явления можно было искать в племенном и народном характере, в юности русского народа, его неразвитости, новости в общенародной жизни, недостатке просвещенного взгляда на свои внутренние и внешние отношения, в привычке, сделавши какое-нибудь дело, складывать руки, не пользоваться победою. Все эти объяснения в известной степени могут быть приняты; но не должно забывать и того обстоятельства, что Россия, войдя в XVIII веке в общую жизнь европейских народов, принесла такую обширную государственную область, которая не давала развиться в русском народе хищности, желанию чужого, наступательному движению, а могла развить качества противоположные и в своих крайностях вредные, так, нежелание чужого могло перейти в невнимание к своему и т.д. Русские государственные деятели, разумеется, не были чужды честолюбия, желания усилить значение России, но для этого они придумывали особенные средства, идиллические в глазах западных политиков; чуждые стремления приобретать что-нибудь для себя, расширять свою государственную область, они придумывали союзы с чисто охранительным значением, в которых сильные государства были вместе с слабыми и первые, разумеется, принимали на себя обязанность блюсти выгоды последних как свои собственные. Таков был знаменитый северный аккорт , который так старался осуществить Панин. В этот северный союз должны были войти Россия, Пруссия, Англия, Швеция, Дания, Саксония, Польша, и если Польша входила в союз, разумеется вечный и непоколебимый, то почему ж не дать ей возможности выйти из анархии и усилиться, этим усилением она будет только полезна союзу. Идиллия, приводившая в бешенство Фридриха II, который ждал первого удобного случая, чтоб попользоваться на счет Польши, Саксонии, Швеции, Дании, а тут заставляют его блюсти их интересы! Также наивно было предполагать, что Англия станет любить своих союзников, как сама себя.
Но все эти легкие построения сокрушились под тяжелыми стопами истории, когда диссидентский вопрос поднял в двусоставной Польше ожесточенную борьбу между двумя народностями. Мы видели, как князь Репнин, находясь на месте, предвидел страшные, неодолимые препятствия к решению диссидентского вопроса; он представлял, что католический фанатизм неодолим. Не надобно забывать причин, усиливавших этот фанатизм. Прошли целые века борьбы, в которой поляки, пользуясь своими государственными средствами, давили православное народонаселение; последнее питало сильную вражду к притеснителям, но вражда притеснителей к притесненным бывает еще сильнее (ненавижу человека, которого обидел); у православных русских отняты были права, они являлись людьми низшего разряда; католик с молоком матери всасывал к ним вражду и презрение; еще сильнее была вражда отступников и потомства отступников. И вот является требование, чтоб отношения совершенно изменились, чтоб православные не только получили полную свободу и безопасность относительно отправления своей религии, но получили бы назад равные права с католиками; человек, который нынче идет с поникшею головою, гонимый и презренный, завтра поднимет голову и явится всюду как полноправный согражданин, явится с свежею памятью об обиде и со средствами к мести; но если бы и обиженный от радости забыл об обиде, то обидчик об ней не забудет; духовные католические не могут себе представить, как архиерей, священник презренной мужицкой (хлопской) веры, трепетавшие до сих пор при виде католических духовных лиц, получат равное с ними положение. Наконец, если бы кто-нибудь из поляков был чужд религиозной нетерпимости и способен забыть установившиеся отношения, то он не хотел забыть того, что республика его, двусоставная на деле, стала путем насилия одной части народа над другой единою по праву, ибо представительство и власть принадлежали одним полякам-католикам, а теперь, если уступить требованию уравнения прав диссидентов, это единство должно рушиться. Но каковы бы ни были побуждения, знамя для всех было одно – интерес религиозный; а что означало поднятие этого знамени, как не вековую борьбу между двумя частями народонаселения, искусственно, насильственно сплоченного. Диссидентский вопрос был поднят не Екатериною II; он был поднят историею: это был окончательный расчет по сделке Ягайла и последнего из его потомков.
Избрание Станислава Понятовского произошло спокойно, но были признаки, что враги нового правительства еще не успокоились; а между тем диссидентский вопрос висел грозною тучею.
Из Молдавии пришли вести, что Порта грозит тамошнему господарю низвержением, считая его подкупленным от русского двора, и посланник нового польского короля к султану Александрович все жил на турецкой границе, не получая паспорта для продолжения своего пути в Константинополь. Репнин писал, что беспокойство Порты происходит не от одних внушений венского и французского дворов, но и от внушений, приходящих прямо из Польши. Репнин не мог указать, кто именно делал эти внушения, но подозревал обоих гетманов коронных, воеводу киевского и епископа краковского, тем более что Станкевич, креатура гетмана коронного, жил еще в Константинополе и вел интриги в пользу враждебной России партии. 12 февраля Панин поднес императрице на утверждение письмо свое к Репнину: посол уведомлялся в конфиденции, что «мы не можем и не хотим считать польские дела совершенно оконченными, пока не улучшено будет состояние диссидентов, хотя бы это дело потребовало и вооруженной негоциации, и потому, – писал Панин, – рекомендую и вам, моему другу, приготовлять себя к этому разумными средствами, не компрометируя заранее секрета, дабы противомыслящие не воспользовались для возвращения больших трудностей. Здесь удостоверены, что фамилия Чарторыйских в этом пункте более других недоброжелательна и она-то была главною виновницею вашей неудачи на последнем сейме. Е. и. в. никак не отступит от этого предмета: так вам надобно, принимая в расчет расположение и обстоятельства этой фамилии, убеждать и действовать с ними заодно; в случае же безнадежности воспользоваться настоящею холодностию между нею и королем и возбуждать его величество против нее. При таком положении дел хотя вы и можете по желанию графа Захара Григорьевича Чернышева возвратить известные кирасирские эскадроны в Россию, приказав им малыми маршами подвигаться к границе, но прочие войска должны оставаться в Польше на всякий случай. Замечу еще вам, моему другу, с равною доверенностию: мне кажется, что кроме начинающихся у вас женских сплетней и интриг между фамилиею и кроме духа господства двоих братьев Чарторыйских новый государь принимается за свои дела более горячо, чем прозорливо; надобно опасаться, чтоб, меряя все на внутренний польский аршин, он не навел на себя таких хлопот, которые могут привести в расстройство весь северный аккорд и посадить его, короля, между двух стульев. Он должен себе представить, что не только северные, но и все другие державы, привыкнув сорок лет видеть главами Польской республики иностранных государей, совершенно преданных интересам собственных областей, вследствие этого определили более или менее важную часть своей политической системы и каждому государству восстановление в Польше природных королей представляется делом новым, революциею, следовательно, пока северные и другие державы совсем не осмотрятся и не привыкнут с течением времени спокойнее смотреть на эту перемену, пока не определят каждая свою систему по соображении с новым порядком вещей в Польше, до тех пор благоразумие требует от его польского величества, чтоб он для будущих своих выгод изволил с достаточною политическою экономиею и осторожностию касаться своих внутренних дел и, сколько возможно, воздерживаться от всего того, что может получить вид новости. Гораздо вернее и надежнее будет, если он усугубит свое старание укрепить себя средствами истинной дружбы и союзов с теми державами, которые восстановление природных королей в Польше ставят частию своей политической системы. Я не хочу решать, кто более прав в настоящем споре между польским и берлинским дворами относительно учреждения таможен и провода драгунских лошадей чрез Польшу в Пруссию, но искренне сожалею, что в такое короткое время трактаты между ними уже подверглись объяснениям. Одна поспешность может повести к другой, и король польский вместо старания истребить в короле прусском следы старого против себя предубеждения, последуя своим собственным предубеждениям, может позволить уловить себя австрийскому дому, который, конечно, употребит все средства для приведения в расстройство наши общие дела. Пожалуй, мой любезный друг, стереги, сколько можно, эти консидерации и по усмотрению употребляй их с королем в разговоре, называя их хотя своими, хотя моими, как лучще сами рассудите, представляя ему, что производимые и часто повторяемые общими ненавистниками толки о делах его могут наконец нечувствительно произвесть некоторое впечатление и на людей, к нему склонных; но ему нечего будет опасаться этого, когда однажды навсегда будут приведены в совершенство его связи и политическая система союзными трактатами с дружескими державами. При таких деликатных ваших обращениях я, как ваш искренний друг, не могу обойтись, чтоб не сказать вам, как необходимо нужны пространнейшие от вас уведомления. Пожалуй, мой дорогой, отступи от образца покойного графа Кейзерлинга и описывай со всеми обстоятельствами не только одни феты (праздники) или происшествия, но и разговоры ваши с разными обращающимися в делах особами, присоединяя к тому известия об отношениях этих особ, о сходстве или разности их интересов, дабы я, зная все, мог вернее определять мои собственные взгляды и мнения; мне надобно прежде всего знать людей, которые теперь заправляют делами, их характеры, степень их влияния на короля и кредита у нации».
Польский посланник в Петербурге граф Ржевуский по расстроенному здоровью желал возвратиться в Польшу. Король по этому случаю сказал Репнину с печальным видом, что очень жалеет об отъезде Ржевуского из Петербурга в то самое время, когда он там так нужен, и прибавил, что известия, полученные от Ржевуского, его печалят. Репнину хотелось, чтоб король рассказал подробно, какие это известия; но Станислав-Август не открылся, и только из отрывочных слов Репнин мог приметить, что его оскорбляет холодность русского двора к венскому и приязнь к берлинскому, тогда как прусский король, по его мнению, никогда не допустит Польшу поправиться. Репнин отвечал на это, что король прусский, без всякого сомнения, войдет во все виды России относительно Польши и если примет на себя какие-нибудь обязательства, то станет содержать их ненарушимо. Но австрийский дом, прибавил Репнин, и прежде старался, и до сих пор все старается своими внушениями встревожить и вооружить Порту и делает это из опасения, чтоб Польша не усилилась вследствие неусыпной деятельности национального короля, который не имеет посторонних интересов. «Хоть я вижу, – писал Репнин Панину, – как сильно здесь желают сближения нашего двора с венским, однако могу почти уверить, что ни в какое с ним обязательство не войдут без согласия нашего двора и здешняя система будет всегда следовать нашей».
«Здесь удивляются, – писал Панин 29 марта, – что его польское величество не почтил знаками своей признательности наших троих генералов, которые у вас были с войском для подкрепления его дел. Да мне кажется, и по всему у вас великое заблуждение в собственных замыслах. Я истинно не желаю дурного, да и моя собственная слава тому противится, только с основанием боюсь, мой друг, что у вас спокойствие не будет продолжаться, если воды в вино лить не будут, а будут продолжать дела по началам своей самоопределенной собственной политики. То положение и обстоятельства кончились, когда внешняя политика сообразовалась с внутренними партиями и интригами; теперь нужны к делам министры, а не партизаны. При замешательстве дел фамилия и дядья мало помогут, а разве посторонние дворы, воспользовавшись их духом господства, употребят их к усилению этих замешательств. Коротко и откровенно опишу вам здесь картину настоящего положения. Вам уже известно наше неудовольствие по делу о диссидентах. Полученная о том здесь графом Ржевуским инструкция так мало соответствует нашим желаниям и откровенности, так слаба и составлена в таких общих выражениях, что я по моей ревности к сохранению тесного союза не отважился сообщить ее государыне; и без того по одним письмам королевским, как ласкательно и разумно они ни писаны, е. в. изволит заключать, будто польский двор хочет употребить все наши способы и силы для достижения всех своих целей в виде купеческого задатка за те дела, о которых только вперед показывает склонность торговаться. С другой стороны, начатые легкомысленно и безвременно споры с королем прусским, по-видимому, должны более усилиться и неблагоразумно кончиться. До вашего сведения, конечно, дошел мемориал о правах провинции польской Пруссии. Граф Сольмс мне сообщил, что так как с польской стороны в новой таможне взята пошлина с купленных для прусской кавалерии 500 лошадей, то король, его государь, установил и в своих границах новую таможню. Излишне толковать о том, что этот государь может иметь теперь в мыслях, если не остережемся. Много хлопот произойдет, когда он объявит себя защитником провинции Прусской; тут, мой друг, не много поможет и сеймовое большинство голосов, в которое у вас так сильно влюблены. Швеция с самого начала пользовалась этим большинством и едва ли не ему должна приписать свое окончательное погружение в бездну бедствий. Ко всему этому надобно прибавить бесконечные волнения и интриги сераля противных нам союзников, которых, и особенно венский двор, у вас уловить, конечно, не удастся. Из этого и предыдущего письма моего вы довольно видите, как вы должны быть деятельны для охранения наших интересов, от которых, без всякого сомнения, зависит и существенный интерес его польского величества. Чистосердечно скажу вам, что не вижу для него другого средства, кроме уступки времени и благоразумного повиновения обстоятельствам, нет государя, который бы мог безвредно не соблюдать этого правила. Граф Чернышев опасается, чтоб от неподвижного пребывания наших войск на Висле не явились из них перебежчики. Так как я не вижу никакой возможности вывести их из Польши прежде приведения в надежную форму дела о диссидентах, то и отдаю на ваше усмотрение, не найдете ли более выгодным тронуть их в мае и привести к Гродне и чрез несколько времени, смотря по обстоятельствам, перевести к Вильне».
Дела запутывались. Старики Чарторыйские отступили пред диссидентским делом; каковы бы ни были их религиозные и политические взгляды на это дело, они знали, что, поддерживая русские требования, рискуют потерять силу и значение без надежды провести дело обыкновенными средствами. Но в Петербурге на них сильно сердились, видели в их несодействии измену, ибо привыкли смотреть на них как на вождей русской партии, т.е. как на покорные орудия для достижения русских целей, тогда как Чарторыйские смотрели на Россию как на орудие для достижения своих целей. Король еще не понимал всего грозного значения диссидентского дела. Он был влюблен, по выражению Панина, в большинство голосов, т.е. был так увлечен мыслию о преобразованиях, что все другое ставил на второй план. Поэтому его гораздо более беспокоила тесная связь России с Пруссиею, ибо он очень хорошо знал, что Фридрих II настаивает и всегда будет настаивать, чтоб Екатерина не соглашалась на преобразования польской конституции; пограничные споры давали возможность Станиславу-Августу выразить свое раздражение против Пруссии, что очень не нравилось в Петербурге. А тут еще курляндские дела прибавляли затруднений.
От 20 марта Симолин писал Репнину, что Бирон потерял любовь и доверие почти всей земли. Противники его, пользуясь этим случаем, отложили частную свою к нему ненависть, взялись за общее дело, соединились с остальными, и таким образом исчезло различие партий, все стали показывать свое усердие только к защите отечественных прав. Симолин упрекал Бирона в том, что он не отличает ласками и наградами преданное ему дворянство, а с другой стороны, не обнаруживает достаточной твердости в обращении с противниками. На слова его никто не хочет полагаться, потому что они никогда не исполняются; почти вся земля разделяет неудовольствие дворянства, предъявляя, что права всех нарушены и будто нынешний герцог имеет в виду всех погубить, разорить, разогнать. Бирон с своей стороны жаловался королю на Симолина, что он с ним не в согласии и был причиною неудовольствия дворянства на него, Бирона, почему Станислав-Август просил русский двор отозвать Симолина из Митавы. Но курляндские недоразумения исчезали пред отношениями важнейшими. «С сожалением вижу, – писал Репнин, – что нет ничего легче, как возбудить здесь сомнение против прусского двора; не знаю, по какой причине король не имеет ни малейшей доверенности к прусскому королю; я из всех сил стараюсь искоренять это недоверие, но напрасно». Масло было подлито в огонь, когда пришло известие, что в Мариенвердере собраны прусским правительством работники для воздвигнутия по берегу Вислы укреплений и что везут туда артиллерию: хотят устроить тут новую таможню и принудить все проходящие польские суда платить десять процентов со всех их товаров. Король объявил об этом Репнину с страшною досадою, жалуясь, что король прусский старается всячески вредить ему и всей Польше. «Я уверен, – говорил Станислав-Август, – что прусский король старается поссорить меня с Россиею». Репнин уверял его, что это неправда, и писал Панину: «Зная, как нужно восстановить согласие между прусским и польским дворами, чтоб удержать последний в желаемой нами системе и в отдалении от венского и французского дворов, стану стараться о полюбовном соглашении по таможенным делам». Для этого Репнин обратился к прусскому резиденту, и тот обещал сделать своему двору представления об улажении спора. Но из разговора, бывшего по этому случаю с прусским резидентом, Репнин узнал, что последний час от часу становится недовольнее обхождением с ним польского министерства, особенно канцлера литовского, и что при венском дворе прусскому министру делают внушения о чрезвычайном желании польского двора быть в союзе с австрийским домом; прусский министр доносит об этом в Берлин, что и порождает холодность и сомнения с прусской стороны. Репнин уверял прусского резидента, что Польша вовсе не ищет союза с венским двором, что все внушения об этом фальшивые, злостные, чтоб поссорить Польшу с Пруссиею; а Станиславу-Августу представлял, что лучше было бы дружелюбно разобраться с прусским королем, который огорчительных требований делать не будет, как видно из слов резидента; да и с последним не худо было бы поступать благосклоннее и откровеннее, а не так, как поступает канцлер литовский, который своею гордостию портит дела.
А между тем Мариенвердерская таможня уже начала свои действия. Один берег был прусский, а другой – польский; так, пруссаки силою оттягивали суда, плывшие у польского берега, и заставляли платить пошлину, даже и с дров брали десятое полено. Никогда Репнин еще не заставал Станислава-Августа в таком горе, близком к отчаянию. Со слезами на глазах король говорил: «Если бы мне дали на выбор отказаться от престола или терпеть Мариенвердерскую таможню, которая будет держать под игом всю Польшу, то я не поколебался бы покинуть престол; я считаю теперь себя несчастнее последнего из моих подданных; по сделанному расчету, сколько польских товаров ежегодно проходит чрез Данциг, прусский король извлечет из своей таможни около 3600000 прусских гульденов, т.е. около 900000 рублей, что равняется доходу со всей бранденбургской Пруссии. Я полагаю всю свою надежду единственно на посредничество императрицы». «Признаюсь, – писал Репнин Панину, – что нахожу поступки прусского короля жестокими и оскорбительными до невозможности».
В конце апреля Репнин известил Панина, что у польского министерства была конференция с прусским резидентом, которая началась вопросом, что причиною, что его прусское величество учредил новую таможню в Мариенвердере, причем министры просили об отмене. Резидент отвечал, что Мариенвердерская таможня учреждена в возмездие за новые польские таможенные распоряжения. Действительно, еще на конвокационном сейме положено было увеличить таможенные пошлины на ввозные товары для усиления финансовых средств республики. Но министры объявили резиденту, что новое польское таможенное учреждение не вызывает такого возмездия да еще и не приведено в действие, притом обещали ему передать формальный мемориал, в котором будет доказано, что польская таможня не новая, а возобновленная и что новый тариф пошлин не в убыток прусским подданным. На этом письме Панин заметил: «Поздно, да и непристойно так допрашивать; латинский (римский) тон в политических делах ныне не годится. Государи больше на поединок друг друга не вызывают: так и нужда, чтоб бессильный сильного более почитал». Но король польский думал, что, почитая самого сильного, может рассчитывать на защиту его от притеснений менее сильного; Станислав-Август говорил Репнину: «Система императрицы будет всегда моею; я всю мою жизнь сохраню воспоминания о том, чем я ей обязан; я знаю, что она может, и сделаю поэтому все, чего она захочет. Но смею надеяться, что, сделавши меня королем, она поддержит достоинство, которое станет мне в тягость, если будет унижено. Ее великодушие и ее образ мыслей заставят ее интересоваться своим делом, которое очутилось бы в крайне бедственном положении, если б она его покинула».
Репнин писал о короле, о своих разговорах с ним, не упоминая, как относились Чарторыйские к прусскому делу. Было ясно, что посол удалился от прежних глав русской партии. Еще 23 февраля он писал Панину: «Что же касается до моего обращения с князьями Чарторыйскими, то после сейма коронации, усумнясь о их прямодушии, а особливо после как я отказал платить впредь до указу воеводе русскому месячной пенсии, брат его единственно с тех пор холоден. Учтивость основание делает нашего обхождения, о делах же я более с самим королем говорю. Братья королевские делают противную им (Чарторыйским) партию». Прусский посланник Бенуа хвалился, что Репнин удержал пенсию Чарторыйского по его совету. 13 мая Репнин писал Панину: «Я уже доносил, каким властолюбием исполнены двое братьев Чарторыйских и что кредит их очень велик в нации; он усилился еще более от того, что в последнее междуцарствие Чарторыйские были главами нашей партии и чрез их руки шли все деньги, назначенные для увеличения числа партизанов, которые и остались им преданны. Кредит их содержится в своей силе слабостию короля, который еще не может окрепнуть и бросить привычку ни в чем им не отказывать. Теперь я примечаю в воеводе русском еще новый замысел: он, кажется, желает быть коронным гетманом по смерти графа Браницкого, который недолго будет дожидаться. Хотя этот чин против прежнего и ограничен, однако все еще может усилить кредит Чарторыйских, что по упрямству, гордости и властолюбивым замыслам их было бы противно видам и интересам нашим, и было бы хорошо этому помешать, а сделать гетманом одного из королевских братьев, которые, имея мало надежды переменить воеводу русского, тем более будут нам благодарны за доставление этого достоинства, и кредит Чарторыйских будет уравновешен». Панин написал на этом письме: «Я в сем письме, кроме полезного, ничего не нахожу и потому ожидаю только высочайшего соизволения, оставляя воле вашего величества, вести ли дело гетманского места в пользу королевского брата и которого или же для Адама Чарторыйского?» Императрица написала: «Лучше первого, а другой в запас».
Чарторыйские вели себя не так, как бы желалось в Петербурге, не по одному диссидентскому делу. По совету литовского канцлера Станислав-Август написал красивое, но очень резкое письмо к Фридриху II по поводу таможенного спора. Копия с этого письма была переслана Екатерине, которая написала Панину: «Признаюсь, я была испугана жаром, с каким написан первый параграф этого письма. Оно, конечно, исполнено ума, но вовсе не прилично. О! Как бы вы меня забранили, если б я написала такое блестящее и такое вредное для моих дел письмо. Прошу вас, поставьте польского короля на ту же ногу, как вы поставили меня. Вы ему доставите этим величайшее благо, то есть спокойное и разумное царствование; умерьте его живость, не дайте ему обнаруживать столько остроумия насчет пользы его собственных дел».
Но Екатерина, желая, с одной стороны, сдержать Станислава-Августа, чтоб не раздражать Фридриха II, с другой – употребила старание сдержать и своего верного союзника короля прусского: Бенуа из Варшавы писал в Берлин, что князь Репнин умоляет его ради самого Бога смягчить своего короля относительно таможни; Репнин внушал, что, конечно, Фридрих II не захочет слишком ожесточить варшавский двор из уважения к великой дружбе, которая царствует между российскою императрицею и королем польским: противное могло бы произвести дурное влияние на императрицу. Сольмс доносил из Петербурга о настаиваниях Панина на отмену таможенных стеснений. Тщетно Сольмс внушал ему: «Не позволяйте полякам пугать себя; поверьте, что, не показавши им зубов, нельзя ничего достигнуть». Панин стоял на своем. Наконец Екатерина писала сама Фридриху; и Мариенвердерская таможня была приостановлена до окончания всего дела о пошлинах. Станислав-Август писал по этому поводу императрице (19 июня): «Приостановка Мариенвердерской таможни доказывает истинную дружбу вашего императорского величества ко мне и в то же время сильное влияние вашей воли на короля прусского. Мне было ужасно думать, что несчастие, неизвестное Польше во времена моих предшественников, постигло ее в мое царствование и со стороны государя, который рекомендовал меня нации для выбора в короли; в народе уже начали говорить, что эти таможни были вознаграждением за помощь, которую я получил от прусского короля при моем избрании».
Исполняя приказание императрицы сдерживать польского короля, направлять его на истинный путь, Панин писал Репнину от 20 июля: «Все ваши, мой любезный друг, письма я по порядку получаю с совершенным удовольствием, как равным образом они, конечно, и в вышнем месте принимаются. Поверьте без ласкательства, которое у меня к вам места иметь не может, что поведение и дела ваши сполна разумны и достаточны, сколько токмо желать возможно; продолжай, мой друг, оные по тем же правилам, пока получите новые активные наставления, которые точно определить я удерживаюсь еще в ожидании окончательной решимости турецкого двора. Я нужды не имею вам экспликовать моего о том рассуждения: вы, несумненно, сами оное себе представите, что как бы мы ни оставались надежны о турецком спокойствии и недействии, однако ж при нерешенном деле неприятелям нашим всегда останется больше способности там тревожить наши дела, а особливо по причине, когда начнем прямые негоциации новых обязательств в вашем месте, чем может еще нерешимость турецкая продолжиться и произвести общие для нас новые заботы. Другое б было дело, если б у вас сначала лучше познали свой существительный интерес и тогда б вдруг решились в сделанных от нас представлениях для политической системы. Можно по сему с надежностию сказать, чтоб тем подлинно себя избавили последующих ныне многих неприятностей, которые теперь при самовольно сделанных себе предубеждениях столь часто смущают и тревожат, а венской бы двор не водил так, как нынче, по неизвестной дороге, но давно б уже прямо и для себя одного искал возобновления беспосредственной корреспонденции. Когда я уже столько вошел в рассуждение, то не оставлю в молчании и ваше разумное примечание о скрытной политике тех людей, которые хотят содержать в своей зависимости его польское величество, отвращая его всякими ухватками от определенной политической системы. Сие подлинно ощутительно, и нельзя думать, чтоб столь просвещенный государь, как король польский, наконец сам оного не почувствовал: тогда равно он и признает, что в десять месяцев никто и ничему совершенного блаженства не достигает, следовательно, достигая оного, возможного лишаться не будет, как потом и прусского короля приязнь себе и своей республике увечною (?) поставлять не станет и по тому одному, что сей государь уже последние дни доживает, в которые ему совершенно недостанет возможности все то исполнить, что его видам приписано быть может; преемники же его, не получа его духа, не будут иметь и сил его в производстве».
Очень рано начали хоронить Фридриха II. Он после того прожил двадцать лет и успел значительно изменить карту Европы. Но Панину надобно было чем-нибудь успокоить раздражение Станислава-Августа, ибо раздражение было вполне законное. От 19 сентября Репнин писал Панину, что польское таможенное устройство оказалось вовсе не во вред подданным короля прусского, а скорее выгодно. Барон Гольц, присланный Фридрихом II в Варшаву для конференции с польским министерством по таможенному делу, признался Репнину, что и он видит только выгоды для прусских купцов и если бы он был от них послан, то, конечно, согласился бы на польские представления и уверен, что прусские купцы были бы ему благодарны; но, будучи посланником короля, а не подданных, должен предпочитать личные королевские интересы, повинуясь в точности повелениям его величества. «Из этого изволите видеть, – писал Репнин, – что не самое дело в сущности своей вредно прусскому королю и противно трактату и привязку только делают, выставляя предлог, для чего заранее взаимно не согласились». Екатерина, прочтя это письмо, написала на нем: «Il a done une autre gloire quele bien de ses sujets, ce sont de ses singularite qui ne saurait etre comprehensible pour ma caboche» (Стало быть, для прусского короля есть другая слава, кроме блага его подданных: это такие странности, которые не вмещаются в моей голове). По словам английского посланника в Петербурге Макартнея, поведение прусского короля в мариенвердерском деле значительно подорвало расположение к нему петербургского двора. Бенуа должен был предложить польскому королю пенсию в 150000 талеров с условием, чтоб он помогал Пруссии в таможенном деле. В Петербурге Фридрих II хотел достигнуть своей цели раздачею денег и уполномочил графа Сольмса употребить на это от 50 до 60000 рублей; императрица обо всем этом узнала.
Решение таможенного дела между Польшею и Пруссиею откладывалось до чрезвычайного сейма; на том же сейме должно было решиться и страшное диссидентское дело. 15 июля приехал в Варшаву Георгий Кониский и на другой же день представлен был королю, который, выслушав его речь и приняв челобитную, прочел ее, несмотря на. то что была длинная, и обещал удовлетворение во всем том, на что православные имеют права и привилегии, только велел подождать приезда в Варшаву вице-канцлера литовского Пршедзецкого. Вице-канцлер приехал и велел Конискому переделать челобитную на две: в одной должно было заключаться исчисление обид, причиненных православным внутри Могилевской экономии, а в другой – исчисление обид вне этой экономии; первую велел подать в Камеру королевскую, вторую – канцлерам коронным и ему, вице-канцлеру литовскому. Кониский исполнил все это. «С тех пор, – доносил он Синоду, – как начали водить, так и поныне водят. Расписали к некоторым в челобитной моей показанным обидчикам, чтоб прислали ответы на мои жалобы; узнав об этом от господ министров, я представлял им, что мне таким собиранием ответов новая причиняется обида, потому что и не ко всем обидчикам за такими ответами послано, да и посылать ко всем невозможное дело, потому что большая их часть уже на суд Божий позваны, и я с таких никакой сатисфакции не прошу, только возвращения отнятого или только чтоб впредь подобные обиды делать запрещено; да и которые обидчики в живых остались и пришлют ответы, то с их ответов не доведется никакой чинить резолюции, понеже сами себя виновными не признают, а в чем ложно извиняться захотят, я готов всегда опровергать, и, таким образом, собиранию ответов да доказательств конца не будет, и как им, обидчикам, таковая ответов и доказательств из домов своих без малейших убытков присылка очень понаровочна, так мне ожидать оных ответов здесь, в Варшаве, и большие убытки нести весьма тяжело и несносно, и что на остаток из моих жалоб некоторые суть таковые, которые по рассмотрении документов письменных никакому исследованию не подлежат. Таковое, однако, мое представление места у них, господ министров, не получило, еще учинили меня богатым: ты-де богат, можешь здесь проживать, а ответную сторону волочить сюда по скудости их не доводится».
Таким образом, поляки сами вызывали со стороны России решительные меры. «Сейм чрезвычайный, – писал Репнин от 21 сентября, – конечно, нужен как для решения наших дел, так и для разбора таможенного дела. Но надобно предварительно согласиться в этих делах. Наших два дела надобно будет решить на сейме: дело диссидентское и пункты нового союзного трактата. О диссидентском деле я того мнения, что вдруг его на одном сейме всего сделать будет нельзя, а надобно по последней мере на два разделить; для верности же, что чистосердечно будут поступать, думаю, надобно заранее составить план и заключить формальную тайную конвенцию с здешним двором поступать в диссидентском деле согласно с обеих сторон для достижения желаемого конца. Король мне клялся, что все на свете сделает, что только ему будет возможно, согласился и на составление заранее плана, только с оговоркою, что за точное исполнение отвечать не может, а обяжется в одном, что употребит всевозможное старание к достижению желаемого успеха. Король прибавил, что в диссидентском деле приготовляется ко всяким непристойным своевольствам и к обнажению сабель даже в самом Сенате, которой наглости еще никогда не бывало и которая, конечно, будет очень оскорбительна его достоинству, мало того, опасности и настоящей междоусобной войны, и на все это отваживается в доказательство преданности к императрице, но требует, чтоб в таких критических обстоятельствах не был оставлен и был бы достаточно подкреплен как деньгами, так и войском».
Панин в конце сентября объявил польскому поверенному в делах Псарскому, писал и Репнину, что относительно диссидентов намерение императрицы непременно, что она не только сама собою, но и по соглашению со всеми протестантскими державами будет действовать до тех пор, пока диссиденты придут в законное положение по правам и справедливости; что ее величество в своем намерении, конечно, не уступит произволу некоторых людей, но, зная вполне просвещенные мнения короля польского, нимало не сомневается, что этот государь употребит все зависящие от него средства к совершению такого похвального и для него самого полезного дела, не обращая внимания на пристрастные и фанатические советы, которые ему самому со временем много хлопот наделают. В опасениях короля насчет трудности диссидентского дела Панин видел внушения Чарторыйских; их же внушениям приписывал он и заискивания польского двора у Франции, решение отправить туда посланника. Панин писал Репнину: «Королю и людям, искренне к нему привязанным, время подумать сериозно об утверждении безопасности и силы собственного положения, которое может быть основано единственно на связи его с нашими интересами по желаниям ее императорского величества; все же посторонние тонкости более вредны, чем полезны. Я, имев такое участие в его возвышении и по этому одному искренне желая его благосостояния, не могу без сильного сожаления видеть, как поспешные и по мелким видам партии составленные резолюции двора его час от часу причиняют большее охлаждение и вводят в новые хлопоты. Может ли его величество себе представить, чтоб такое явное предпочтение к державе, которая, будучи так отдалена границами, не имеет никакого побуждения вмешиваться в польские дела, кроме желания приобресть влияние интригами и подкупами, чтоб явное предпочтение, оказываемое такой державе, не могло не тронуть другие державы, ведшие себя иначе при избрании его величества? Пусть Англия, Швеция, Дания не помогали этому избранию, но они и не действовали против него и возведение на престол Станислава-Августа признали самым дружественным образом; притом же и собственный интерес побуждает их содействовать внутреннему и внешнему спокойствию Польской республики и всего Севера. Напротив того, Франция желает больше всего несогласий и смут на Севере; тесная связь с Франциею никогда не спасала и впредь не может спасать Польшу от хлопот с соседями, а пребывание в Польше французский посланников усилит эти хлопоты и произведет холодность. Относительно самого себя король польский, зная хитрость и высокомерие французской политики, должен быть убежден, что Франция никогда не забудет случившегося с Станиславом Лещинским и что не только она, но и австрийский дом не простят России избрание Станислава-Августа и, конечно, всегда будут стараться поправить дело посредством саксонского двора. Для сохранения собственной репутации я желал бы быть ложным пророком; но, к сожалению, ничего твердого и спокойного предвидеть не могу, если поведение в вашем месте не переменится; надобны не слова, а дела, без чего мы можем нечувствительно отойти от тех наших политических расположений, которыми мы руководствовались при старании о возведении на престол Станислава-Августа, и остаться с Польшею в отношениях, какие были в прежнее время».
Получив от Панина это письмо, Репнин тотчас же сообщил его содержание графу Ржевускому, который по возвращении из Петербурга жил в Варшаве; тот отвечал, что действительно решение отправить во Францию министра принято слишком поспешно, и вместе уверял в искренней преданности короля императрице и в отсутствии всякого поползновения разделить польскую политику от русской; поспешность же относительно посылки министра во Францию объяснял тщеславным желанием короля быть поскорее от всех признанным. Поговоря с Репниным, Ржевуский тотчас же поехал к королю сообщить ему о письме Панина. Следствием было то, что король прислал за Репниным, которого встретил не со слезами только, но с рыданием и совершенным сокрушением о том, что в Петербурге усумнились в его искренности и совершенной преданности. «Я, – говорил он, – теряю более, чем жизнь и корону, когда лишаюсь дружбы и доверия императрицы; выходит, что ее императорское величество никогда меня не знала, если сомневается в моем прямодуший». «Из этого разговора я, между прочим, ясно видел, – писал Репнин, – что короля вовлек в этот поступок брат его, генерал австрийской службы Понятовский; этот генерал думает, что и в раю не так хорошо, как в австрийской армии; он убедил короля тайком, без объяснения со мною обещать министра во Францию, боясь, что если король предварительно стал бы говорить со мною, то я не согласился бы. Я не могу себе представить, чтоб раскаяние короля было притворно, ибо такой горести, слез и сокрушения я мало видывал». Действительно, сам король после признался Репнину, что все наделал брат его, генерал, которому он приказал предварительно объявить обо всем Репнину, тогда как генерал сделал это объявление не предварительно, а после того, как уже дано было обещание отправить во Францию министра. Но мы видели из письма короля к Жоффрэн, как хотелось ему завести дипломатические сношения с французским двором. Переписка по этому же предмету продолжалась и в 1765 году. Известный Бретейль изъявлял желание быть посланником в Варшаве по старой дружбе с новым польским королем. Станислав-Август писал ему, что и он желает его видеть французским министром в Варшаве, если французский двор даст ему инструкцию действовать по-новому, а не по-старому. «Я вас спрашиваю, – писал король, – хотите ли вредить вашему старому и доброму другу, внушая моим подданным: берегитесь вашего короля, у него дурные замыслы; тогда как французскому министру всего легче и естественнее держать полякам такую речь: «Франция постоянно твердила, что желает добра и возвышения Польше, ибо это было бы полезно и для самой Франции. Теперь у вас король, который старается об удовлетворении этому желанию: так я, француз, увещеваю вас ревностно помогать вашему королю. Я могу этому содействовать с своей стороны, ибо мы желаем, чтоб вы стали народом, имеющим значение (line nation figurante)». Одним словом, Станислав-Август хотел, чтоб Франция содействовала его преобразовательным планам.
Но осуществление этих планов скоро начало представляться королю соединенным с величайшими трудностями, и не внешними только. В начале марта он уже жаловался своей маменьке Жоффрэн: «Трудность натурализации иностранцев, презрение к простому народу и его угнетение и католическая нетерпимость – вот три самых сильных национальных предрассудка, с которыми я должен бороться в поляках. Они в сущности народ добрый, но воспитание и невежество делают их страшно упрямыми насчет означенных пунктов, и для излечения их от этих предрассудков надобно идти тихо». В том же письме король жалуется маменьке на французскую политику: «Вы играете в мяч с Австриею. Она говорит, что вы препятствуете ей признать меня королем, а вы говорите, что препятствия этому родятся в Вене, и вместе путаете головы этим бедным туркам, которым внушают панический страх пред каким-то бедствием, долженствующим постигнуть их из Польши. Не прогневайтесь, ваша политика бредит, а моя дожидается».
Потом опять жалобы на свое положение. По поводу намереваемого приезда Жоффрэн в Варшаву Станислав-Август писал ей: «Вы найдете своего сына очень занятым (и это еще не беда), но вы найдете его почти всегда печально занятым составлением планов, в осуществлении которых нет успеха. Постоянные препятствия или от предрассудков, или от злонамеренности внутри и вне; захочу сделать что-нибудь хорошее – не могу по недостатку власти, как государь, ограниченный завистливою свободою, и как вождь народа безоружного. Петр I гранил большой дикий алмаз, но он был господин и алмаза, и орудий, которыми он производил гранение. Присоедините к тому темперамент меланхолический и чрезвычайно чувствительный и судите, каков я должен быть, особенно когда могущественный сосед дает мне чувствовать, что он затем только помог мне достигнуть престола, чтоб отнять у меня всякую возможность противиться его самым оскорбительным обидам».