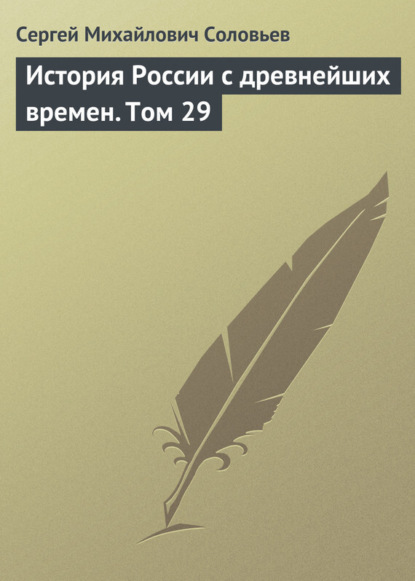По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России с древнейших времен. Том 29
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но гораздо было труднее провести новую конституцию. Король велел сказать Штакельбергу, что не позволит уменьшить ни в чем своих прав. Мы видели, что сейм должен был договариваться с послами чрез уполномоченных из сенаторов и депутатов; сеймовых депутатов послам трех дворов еще можно было набрать своих, но сенаторов назначал король. После отправили кнему список желаемых ими лиц, включив всех министров, между которыми находились его родственники. Станислав отвергнул этот список с непонятным упорством. Начали думать опять о движении войск; но Штакельберг писал Панину: «Умоляю исходатайствовать, что, если уступать во всем, эти войска должны очистить республику. Я должен повергнуть бедную Польшу к стопам нашей августейшей государыни и умолять за нее о милосердии. Вся Великая Польша из провинции богатой и населенной превратилась почти в пустыню вследствие занятия прусскими войсками, которым она доставляет фуража и контрибуции на 40000 талеров в месяц, тогда как ее депутаты на сейме делают всевозможное в нашу пользу; не удивительно, что эти люди начинают отступать от нас из отчаяния».
Благодаря политической речи короля сейм отправил министрам трех дворов ноту: «Союзные дворы передали польскому министерству изложение оснований, почему они считают себя вправе на известные польские земли. Польское министерство отвечало изложением своих прав на эти земли, прав, основанных на доказательствах очевидных; но так как республика не видит, чтоб на ее ответ было обращено достойное внимание, а между тем три двора не отстают от своих требований, то для Польши необходимо предложить этим самым трем дворам согласиться на принятие дружеского вмешательства держав нейтральных и поручителей в наших договорах для исследования прав и притязаний, дабы три соседних двора не были истцами и судьями в собственном деле». Штакельберг отвечал: «Три двора уже передали польскому министерству изложение своих прав, основанных на доказательствах неопровержимых и ставших еще бесспорнее от недостаточного возражения, сделанного с польской стороны. Подписавшийся не может дать другого ответа, кроме содержания разных деклараций трех соседних держав, а именно 22 января (2 февраля), в которой они определили довольно замечательную алтернативу для Польши: окончательное решение дела к 7 июня или увеличение требования с их стороны. Несмотря на такой язык, решительный и неизменный, подписавшийся видит с печалью и состраданием, что сейм проводит время в пустяках, придирках и спорах о словах; между тем страшный срок приближается и виновники этих замедлений не трепещут. Они должны отвечать на коварный аргумент, что державы не должны быть истцами и судьями в своем деле. Кто виноват, что они наконец принуждены были сами себе оказывать справедливость? Виноват этот дух властолюбия, который, заимствуя все голоса, принимая все формы, возбудил смуту, воспламенил междоусобную войну и произвел кровавую борьбу между Россиею и Портою, продолжавшуюся четыре года. К этим рассуждениям присоединяю последнее: если сейм в 8 дней не назначит уполномоченных для переговоров с министрами трех дворов, то никто не отвечает за следствие».
«Мы, – писал Штакельберг Панину, – выполнили такую трудную задачу, собрали сейм, составили конфедерацию, склонили всю нацию к договору с державами – и все препятствие и замедление встречаем в особе короля!» 26 апреля министры трех дворов отправились к Станиславу-Августу упрашивать его не делать им препятствий, но Штакельберг понапрасну истощал свое красноречие; припев ко всем ответам королевским был один: «Я не могу противиться разделу, но я никогда не позволю сеймовой делегации решать вопроса о моих правах и правительственной форме». Штакельберг объявил, что переговоры о разделе Польши и переговоры о ее внутреннем устройстве нераздельны, что от них зависит спокойствие Европы и король своим сопротивлением может нанести бедствие Польше: назначенный срок пройдет и послы велят двинуться войскам. Тут король распространился о несправедливости и невозможности отнятия у него прав, о дурном правительственном устройстве, которое выйдет делом рук трех дворов, не имеющих понятия о польских законах, и делом нескольких поляков, ему, королю, враждебных. Министры дворов возражали ему, что об его правах еще ни чего не решено, что безурядица в Польше достаточно уяснила для дворов злоупотребления ее правительства и аргумент относительно врагов его неприложим, ибо он может назначить весь Сенат. Все было бесполезно: он вдруг встал со своего места и сказал, что в следующий понедельник будет говорить в последний раз в Сенате. Едва министры трех дворов успели оставить дворец, как по городу уже начали ходить красивые фразы короля. По словам Штакельберга, Станислав целый день расточал перед каждым слезы, трогательные положения и цветы риторики.
27 числа министры трех дворов распустили между поляками слух, что они заняты распоряжениями относительно движения войск, что и было совершенно справедливо; а к ним от двора приходили вести, что король готовится протестовать против всего и что даже намерен отказаться от престола. Эти вести заставляли послов решиться на какое-нибудь сильное средство, но какое именно? Бенуа и Лентулус показывали письма прусского короля, содержавшие приказания употреблять самые крайние средства при малейшем сопротивлении. Но Штакельберг представлял, что личное сопротивление короля не должно еще подвергать гибели целый народ, тем более что это сопротивление не касается раздела. Решено было распространить по городу слухи, что приказания насчет движения войск отданы, и послать русских, австрийских и прусских квартирмейстеров для назначения постоев в знатных домах. Это навело на поляков желанный страх, а появление прусского эскадрона в полумиле от города докончило впечатление.
1 мая в 8 часов утра Штакельберг собрал у себя всех сеймовых депутатов и в присутствии своих товарищей, австрийского и турецкого, постарался объяснить им, как безрассудно было бы с их стороны подвергаться военной экзекуции, тогда как относительно раздела и сам король согласен, упрямится только относительно внутренних вопросов, тогда как ни один из этих вопросов еще не решен и без совещания с ними решен не будет. В то же время по улицам путешествовали два эскадрона пруссаков и два эскадрона австрийцев, которых министры трех дворов ввели в город по условиям, вытребованным Штакельбергом, что они выйдут из Варшавы, как только цель будет достигнута, т. е. как скоро поляки будут напуганы. Вся Варшава была поражена ужасом при виде этих войск. Один король, ободренный своим маленьким советом, состоявшим из любовницы и двоих иностранцев, одного швейцарца и одного француза, вызывал на борьбу три державы, внушая депутатам, что последние хотели ввести аристократическое правление, составленное из 12 тиранов. Приехавши на сейм, король предложил на утверждение большинством голосов свой акт избрания уполномоченных для переговоров с послами; другой акт был составлен самими послами; и королевский отличался от последнего тем, что в нем уполномоченные по внутренним вопросам не могли постановлять окончательно и передавали дела на решение сейму, что вело к проволочке времени. Тут маршал конфедерации Понинский приблизился к трону и представил королю, что ему, маршалу, одному принадлежит право предлагать предметы на решение большинством голосов. Король и его партия не признали этого права. Встал епископ куявский Островский и в сильных выражениях представил королю, чему он подвергает нацию. Многие сенаторы говорили в том же смысле; маленький князь Сульковский, палатин гнезненский, подземная фигура, по выражению Штакельберга, с мужественным красноречием, произведшим сильное впечатление на толпу, обратился к королю со словами, что его величество, сидя на троне, сам не рискует ничем, а подвергает опасности жизнь, честь и собственность сограждан. Сделано было предложение отправить депутацию к министрам трех дворов с просьбою дать еще два дня сроку. Король не согласился и на это предложение, тогда пошли на голоса, и большинство сказалось против короля. Министры трех дворов исполнили просьбу сейма, дали сроку до 3 мая, поручивши депутации передать сейму протест против королевского акта как написанного без соблюдения должного уважения к их дворам.
2 мая союзные министры употребили на обеспечение для себя большинства в палате депутатов и по общему согласию издержали на этот предмет 8000 червонных, В то же время они внушили родственникам короля, что первые следствия исполнения угроз падут, естественно, на них, если они не найдут средства отвратить его величество от упорства, гибельного и бесполезного вместе. Кроме того, министры сочинили декларацию, которая должна была отнять у сейма малейшее сомнение насчет возможности принятия королевского акта. Вельможи представили эту декларацию королю с просьбою уступить и своим упорством не подвергать их верной гибели. Станислав отвечал, что скажет свое мнение Сенату, но, прибыв в собрание, он стал по-прежнему речами и жестами ободрять свою партию, чтоб проводила его акт, причем сам отмечал карандашом голоса. Несмотря, однако, на все его усилия, большинство оказалось за акт, предложенный послами трех держав. Описывая Панину все свои хлопоты по этим делам, Штакельберг жаловался на своих товарищей, преимущественно австрийского барона Ревицкого; это, по его словам, был человек вовсе не способный для такого дела, слабый, легко поддающийся и ленивый; секрет его в руках двоих итальянцев, которые употребляли во зло состояние, в каком бывал посланник после обеда. Бенуа – человек умный и действовал очень согласно с Штакельбергом, но он не имел никакого влияния на поляков.
Король со своей стороны описывал свои хлопоты и свое печальное положение маменьке Жоффрэн: «Клянусь честью, что я не дал ничего и ничего не обещал никому из тех, которые до конца держались моего мнения на сейме. 100000 иностранцев жестоко опустошают Польшу, особенно притесняют тех, которые не угождают им. Три министра роздали много денег на сейме. Иностранцы видели, что. есть люди честные к мужественные в стране, ибо почти половина сейма устояла против их золота и против их силы. Но, увы, к чему все это служит, когда нет ни денег, ни войска! На другой день после решения этого несчастного дела мне сказали: „Если бы вы получили большинство, то вы перестали бы быть королем и остальная Польша была бы поделена между нами“. Король прусский имеет это постоянно в виду. Теперь, несмотря на то что три двора взяли все, чего хотели, их войска продолжают жить в Польше, кормиться даром на ее счет. Русский министр обещает, что это скоро кончится, австрийский также ласкает надеждою, прусский не делает и этого. Его государь, кажется, занят придумыванием средств заставить своих союзников согласиться, чтоб он взял у нас еще больше земель. Император, кажется, считает себя обязанным делать нам столько же зла, как и прусский король, а русская императрица так занята турком, что не может помешать прусскому королю вредить нам. С 14 мая я совершенно завишу от милости трех дворов. Я умираю с голоду; вооружаются против всего, что мне наиболее дорого. Несмотря на то, надобно показывать наружное спокойствие, исполнять с некоторого рода достоинством худшую из ролей и думать, что может быть еще хуже, и стараться отвратить это худшее от государства, сберечь несколько зерен, которые могут прозябнуть при более благоприятной погоде».
8 мая назначены были уполномоченные для переговоров с министрами трех дворов; король назначил всех сенаторов, находившихся налицо; маршалы назначили 60 человек шляхты, что составило всего 100 человек. Когда все таким образом было улажено, открылось препятствие к начатию переговоров, и не со стороны поляков, которые, напротив, теперь торопили делом, Ревицкий не получал от своего двора никаких инструкций, и по городу пошли самые чудовищные слухи о причинах такой медленности. Наконец бумаги пришли, и переговоры начались 22 мая; а на другой день Штакельберг опять жаловался на Ревицкого: «Это человек добрый, мой друг и который во всем следовал за мною, но он не только сам держит сторону короля, но, как кажется, склоняет туда же и двор свой. Я не подозреваю, чтоб он был подкуплен, ибо считаю его честным человеком, но мне кажется, что король обещал следовать идеям императрицы-королевы относительно религии и что Ревицкий вошел в этот план посредством нунция. Решено, что диссиденты никогда не получат участия в законодательстве». Штакельберг думал, что Ревицкий по собственному побуждению держал сторону короля и склонял к тому же свой двор, тогда как, наоборот, он действовал по инструкциям своего двора, которые предписывали ему стараться об усилении королевской власти, о возможном ограничении «liberum veto», чтоб Польша могла поддержать значение посредствующего государства между Россиею, Пруссиею и Австриею (puissance intermйdiaire). Скоро Штакельберг должен был жаловаться на обоих своих товарищей. Ревицкий объявил, что границы прусской доли, представленные Бенуа, явно не согласны с конвенциею трех дворов, и потому он не знает, удержит ли его двор свой первый план; но на карте самого Ревицкого оказалась пограничною река Подгурже, которая была неизвестна, и с австрийской стороны предполагалось, что под нею надобно разуметь реку Сбруч. Ревицкий объявил, что не может продолжать переговоры как вследствие прусской карты, так и вследствие того, что еще не получил из Вены оригинала своих полномочий, а только копии да не приезжал еще инженер с верною картою. Штакельберг бросился к Бенуа, не может ли он упросить своего короля, чтоб позволил внести в договор общие выражения конвенции, объяснение же их произойдет на месте посредством комиссаров, ибо объяснение королевское останавливает все дело. Бенуа отвечал, что не только решение его короля непоколебимо и в присланной карте никакого изменения не будет, но если австрийцы примут Сбруч границею, то прусский король не удовольствуется своею настоящею долей. Дело затягивалось, а поляки, и согласные на все, выходили из терпения при виде совершенного разорения. Пруссаки заставляли давать себе съестные припасы и фураж на 30000 человек, тогда как их было всего 5000. Штакельберг писал в Берлин кн. Долгорукому, прося представить прусскому министерству, что русские войска платят за все и что между тремя дворами постановлено платить за припасы и фураж, как только поляки станут сообразоваться с желаниями союзников. Долгорукий отвечал, что король намерен сообразоваться с решением двух императорских дворов на этот счет и что Бенуа получит указы в этом смысле. Так как Ревицкий получил от своего двора приказание платить за все, то оставалось только всем троим согласиться поступать одинаково; но Бенуа постоянно уклонялся от этого решения, хотя, по словам Штакельберга, он первый был оскорблен варварством, с каким прусские офицеры поступали в Польше. Штакельберг высказывал убеждение, что если не будет постановлено, чтобы австрийцы и пруссаки платили за все потребляемое ими в Польше, то никакая сила на свете не может заставить их выйти из этой страны – такова расчетливость, Царствующая в Вене и Берлине.
По этому поводу Панин прислал Штакельбергу наставления: «Всякий раз, как прусский министр будет предлагать употребление силы и вам будет казаться, что есть еще другие средства, сдерживайте его стремления и принимайте сие мнение, только когда крайность заставит. Говорите с ним обо всем, что явится чрезмерным и слишком вопиющим в поведении прусских войск, но говорите как приятель с приятелем, как министр с министром, не давая вида, что ваш двор тут вмешивается; представьте ему, что кратковременная выгода кормить свое войско в чужой земле нейдет в сравнение с необходимостью вывести Европу из кризиса, в котором она находится. Но прямее вы можете вооружиться против равнодушия Ревицкого относительно внутренних дел. Если он действует вяло вследствие религиозного вопроса, то вы можете ему сказать, что при самом вступлении в переговоры с его двором последнему было сообщено все, чего желалось для диссидентов; что после не только не потребовалось ничего больше, но вам еще велено, не требовать уничтожения уголовного закона против отступничества, также не требовать смешанного суда, который уже не может более существовать в прежней форме вследствие присоединения Могилева к русским владениям, и потому можно будет его заменить чем нибудь другим по соглашению обеих сторон. Так как религия католическая в Польше сохраняет блеск и превосходство, какими она не пользуется в Германии, то ничто не может затрагивать венский двор ни со стороны совести, ни со стороны достоинства».
Относительно продовольствия войск три министра согласились наконец, что все будут платить с 1 июля. Но до тех пор прусский и австрийский генералы настояли, чтоб доимка была непременно выплачена; и при взыскании доимки австрийский генерал превзошел прусского, так что поляки называли русских ангелами, пруссаков – копиями с человечества, австрийцев же – дьяволами.
Только в половине июля по внушениям из Петербурга берлинский и венский дворы согласились внести в свои договоры с Польшею насчет раздела собственные слова конвенции, не толкуя ни о каких реках и речках, которые, по выражению Штакельберга, прямо привели бы их к Варшаве, ибо когда в Вене указывали какую-нибудь пограничную реку, то в Берлине говорили, что австрийцы идут слишком далеко и мы также пойдем дальше.
Когда в августе месяце дело дошло до переговоров сеймовых уполномоченных, или так называемой делегации, с Штакельбергом, то делегация подала ему письменно заметку (remarque): «Ваше пр-ство получили в свое время королевский ответ на претензию императрицы относительно Польши. Петербургская конвенция между тремя державами, решающими нашу судьбу без нашего участия, быть может, не позволяет обратить на этот ответ должного внимания, и единственная причина такого поступка заключается в слабости короля и республики, которая принуждает нас подчиниться участи, нам приготовленной. Однако делегация не может себе представить, чтоб соседние и союзные государства не приняли во внимание право короля и республики, основанное на всех самых священных законах божественных и человеческих. Польша особенно надеялась на императрицу всероссийскую, которая подобно своим предшественникам особенно интересовалась благосостоянием Польши и уверяла, что ни сама не захватит, ни другим не позволит захватить что-либо из владений республики; и хотя она теперь поступает совершенно иначе, однако мы не отчаиваемся, что она примет наши представления, тем более что республика не имела намерения нарушать древней дружбы и союза с Россиею». Штакельберг отвечал: «Польша имела право основывать свои надежды на ее и. в-стве. Эти надежды были оправданы самым искренним и самым бескорыстным участием, которое императрица с самого восшествия своего на престол оказывала Польше. Но какое было следствие дружбы, продолжавшейся так долго и купленной такими большими пожертвованиями? С прискорбием обращаю я взоры делегации на страшную картину смут и опустошений ее отечества. Что сталось бы с Польшею, жертвою корыстолюбия, частного интереса и честолюбия, прикрытых фантомом свободы, которую предполагали в опасности от гарантии, принятой Россиею для сохранения этой самой свободы? Что сталось бы с Польшею, если бы Россия из чувства справедливой мести покинула ее в ее судорогах, которые непременно привели бы ее к погибели? Несмотря на кровопролитнейшую войну с турками, которую Польша возбудила, Россия не переставала предотвращать совершенное разложение республики, бороться в продолжение многих лет с неблагодарностию и соединенными усилиями тех, которые нарочно смутили отечество, чтоб властвовать в нем и притеснять его. Половина Польши вела войну с императрицею, и правительство одобряло это своим бездействием. Голос благонамеренных граждан не имел силы, равно как и представления русских послов. При страшном столкновении интересов держав не останавливаются на метафизике множества доказательств, служащих всегда для прикрашивания тайных расположений. Судят по делам, а не по словам. События, мною указанные, говорят громко, и мне нечего распространяться в возражениях против того, будто республика вовсе не хотела нарушать старинной дружбы и союза, существовавших между нею и Россиею. Достаточно того, что императрица искренно желает их возобновления; но неоспоримые права на известные области, права, находящиеся в изложении моего двора, не потерпят никакого возражения. Я уже не говорю о правах на увеличение справедливых требований со стороны России, правах требовать вознаграждения за тяжкую войну, возбужденную против России Польшею».
Во время чтения этого ответа в делегации Островский, епископ куявский, объявил с большим жаром, что надобно остановить чтение и прежде всего спросить русского министра, кто эти люди, которых он обвиняет в погибели Польши. «Всякий верный гражданин должен оправдаться в глазах отечества, – говорил Островский. – Горе тем, которые были орудиями его бедствий. Наша обязанность употребить последние усилия, чтоб узнать их имена. Если я виноват, накажите меня первого за преступление, постыдное для того, кто имел его совершить, а еще более постыдное для нации, если она позабудет отмстить за него. Если я виноват, то пусть меня первого бросят в Вислу!» Энтузиазм Островского быстро сообщился всему собранию, и все начали заявлять свою любовь к отечеству, свою ревность к свободе и свою живую признательность к русскому двору за его попечения и покровительство, которые он во все времена оказывал Польше; слышались сильные выходки протих тех, которые воспрепятствовали добрым намерениям России, слышалось громкое прославление Великой Екатерины. Князь Антон Сульковский, депутат ломжинский, поддерживаемый князем Мартыном Любомирским, депутатом сендомирским, и всею шляхтою, предложил представить именем всего собрания ноту барону Штакельбергу, в которой просить его назвать виновных. Собрание согласилось, нота была представлена, и Штакельберг отвечал: «Очевидная правота поступков императрицы, моей государыни, должна была, естественно, поразить большую часть членов знаменитой делегации. Я вполне сочувствую жару, с каким она желает открыть виновников толиких зол. Но я, так как и два других министра, имеем приказание не заниматься никаким делом до окончания главного, для которого созван сейм. Как скоро все три договора будут подписаны, я не буду противиться исследованию поведения тех, которые разорвали священные узы, соединявшие Россию с Польшею, и которые отвергали все предложения императрицы относительно умиротворения».
Волнения, возбужденные речью Островского, страшно напугали старика Чарторыйского, канцлера литовского. Он побледнел, когда епископ произнес слова: «Если я виноват, то пусть бросят меня в Вислу!» Чарторыйскому показалось, что ему прежде всех придется испытать это купанье. Фамилия должна была вытерпеть унижение, выслушивая молча упреки и угрозы. Слышались голоса, что если злоумышленникам на жизнь королевскую будут рубить головы и руки, то было бы несправедливо щадить убийц отечества. Штакельберг хвалился Панину, что его ответ на ноту делегации, не останавливая переговоров, напугал врагов России. На другой день он имел свидание с королем, которого нашел в большом замешательстве. Штакельберг сказал ему, что он может воспользоваться обстоятельствами начать быть королем, перестав быть племянником. Король, однако, кончил разговор просьбою спасти его родственников. Штакельберг отвечал, что, быть может, это не в его уже власти, но постарается по крайней мере не компрометировать его, короля, если он хочет обеспечить дело от всякой дальнейшей интриги.
Но оставалось еще трудное дело, старое диссидентское дело. Диссиденты передали Штакельбергу просьбу к императрице: «Так как настоящий сейм должен решить и утвердить навсегда судьбу диссидентов в Польше, то мы осмеливаемся умолять о могущественном покровительстве в. и. в-ства. Наши противники, руководствуемые фанатизмом и политикою, стараются теперь более, чем когда-либо, нанести нам смертельный удар и лишить некатолическое римское дворянство, привязанное к интересам в. и. в-ства, всех прав и преимуществ, связанных с происхождением, которые одни характеризуют дворян и служат единственными средствами их сохранения в республике. Только уверенность в высочайшем покровительстве в. и. в-ства и торжественное ручательство, которое вы удостоили дать договору 1768 года, внушили нам твердость и способность претерпеть все бедствия и гонения, обрушившиеся на нас во время смут: мы жертвовали всем нашим имуществом, а многие из нас и жизнею, но не сделали ни малейшего шага, могшего навести подозрение в неблагодарности к нашей августейшей благодетельнице. После этого нам не позволительно предполагать, чтобы государыня, которой великодушие, благотворительность и мудрость составляют предмет удивления для всей Европы, захотела покинуть ту часть польского дворянства, которая боролась за правду своего дела не иначе как под высоким покровительством в. и. в-ства. Но теперь это дворянство, ненавидимое за то только, что прибегло под сень трона в. и. в-ства, хотят лишить навсегда права участвовать в законодательстве, права, которое одно может обеспечить нам свободное исповедание нашей религии и все другие преимущества, отличающие благородного гражданина». Пересылая эту просьбу, Штакельберг писал Панину: «У меня пет ни малейшего луча надежды успеть в том, чтоб диссиденты получили право быть сеймовыми депутатами, и я осмеливаюсь сказать наперед, что этот пункт невозможен. Кроме фанатизма нации, участие в этом деле венского двора, которого взгляд на дело известен, не обещает ничего утешительного для диссидентов. Папский нунций, хотя друг человечества и мира, не станет молчать: его место, характер, предмет его посольства принудят его говорить: и достаточно ему произнести слово, чтоб снова воспламенить всю нацию». Тогда же делегация подала Штакельбергу жалобу, что агенты переяславского епископа преследуют униатов, пользуясь пребыванием русских войск в польских областях, отнимают у них церкви и проч.
Панин, у которого Штакельберг просил наставлений, писал ему: «По конституции 1768 года Диссидентам должно было возвратить отнятые у них церкви, и если некоторые действительно возвращены, то их немного в сравнении с теми, которые еще находятся в руках католиков и униатов. В настоящих обстоятельствах всего лучше для нас и для делегации затушить это дело, которое может только снова поднять фанатизм в народе, уже причинивший столько смут. Мы не можем согласиться на уничтожение того, что было сделано во исполнение договора, с нами заключенного; не можем согласиться, чтоб люди, которым мы покровительствовали с таким усилием, были отданы в жертву их прежним гонителям. Фельдмаршал Румянцев пишет, что все жалобы на греков (т. е. на православных русских) преувеличены, и если мы с нашей стороны будем верить так же легко всем жалобам наших, то представим такие же важные и многочисленные известия. Что сделано относительно возвращения церквей православным, должно остаться, а для сохранения порядка и спокойствия должна быть назначена смешанная комиссия. Что касается вообще диссидентов, это очень печально, что вы теряете надежду удержать за ними участие в сеймах, тем более что от этого пункта вам нельзя отступить; и повеления императрицы, которые я вам повторяю, точны: потребуйте помощи от своих товарищей, употребите все усилия в борьбе с национальным сопротивлением и не позволяйте себе останавливаться ни пред каким затруднением. Вы можете сделать одну уступку: согласиться на ограничение числа диссидентов, избираемых на сейм, и на умолчание о необходимости их избрания; от этого произойдет, что право их не будет действительным или будет малодействительным, но по крайней мере оно будет сохранено. Если и этого нельзя будет достигнуть, объявите, что вы вовсе не хотите слышать о диссидентском деле и что вам запрещено принимать участие в чем бы то ни было его касающемся. Исключение диссидентов из законодательства, провозглашенное на сейме под ауспициями трех дворов, будет для них ударом более гибельным, чем все прежние конституции, отнимавшие у них право за правом; и ее и. в-ство, отказавшаяся из любви к миру от требования для них мест в Сенате и министерстве, не изменит правосудию и своей славе, подписывая их гибель и покидая их совершенно».
Панин требовал от Штакельберга, чтоб он обратился к своим товарищам за помощью в диссидентском деле; и Штакельберг ему писал, что как скоро переговоры об уступке земель были окончены и надобно было приступить к решению внутренних вопросов, то согласие между министрами трех союзных дворов рушилось. Бенуа продолжал действовать согласно со Штакельбергом, но барон Ревицкий вдруг переменил язык, позабыл систему, которая была принята дворами для успокоения Польши; он прямо объявил, что его двор удивляется уменьшению королевской власти. Легко понять, как это ободрило короля и его партию. Король отказывался от права назначать прямо на сенаторские и министерские места, соглашался, чтоб Постоянный совет предлагал ему троих кандидатов, из которых он будет избирать одного, но за это он требовал права назначать всех офицеров главного штаба и гвардии и начальства над гвардейскими полками, т. е. требовал права быть хозяином всего войска. Штакельберг удивлялся, как Станислав-Август не понимал, до какой степени он усиливал побуждения уменьшать его власть, открывая в своих требованиях ясно виды на господство и особенно обнаруживая план подражать при первом удобном случае королю шведскому. Члены нашей партии, по выражению Штакельберга, просили его учредить для короля новую гвардию, а не оставлять в его распоряжении старую, посредством которой он может когда-нибудь произвести революцию. Штакельбергу удалось уговорить своих товарищей предложить королю следующие условия: если король откажется от назначения военных должностей главного штаба, подчинив их порядку старшинства, и откажется от командования гвардиею республики, то для него будет учреждена личная гвардия, которою он будет располагать совершенно и которая будет на содержании республики. Если король откажется от назначения на должности судебные и доходные, то ему будет предоставлено избрание из трех кандидатов, представляемых Постоянным советом, как на должности епископов и сенаторов, так и на должности государственных министров и министров при дворах иностранных. Постоянный совет избирает кандидатов тайною баллотировкою, а сами члены Постоянного совета избираются таким же образом на сейме; король должен отказаться от раздачи староств. После переговоров с королем эти условия были изложены так: у короля остается право назначать на все должности церковные и гражданские, кроме епископов, воевод, кастелянов, министров и военных и финансовых комиссаров: все эти лица избираются им из трех кандидатов, прежде избранных Постоянным советом посредством тайной баллотировки. В войске король назначает офицеров в польских дружинах и в четырех пехотных дружинах, носящих его имя. В остальном войске офицеры назначаются по старшинству. Король отказывается от права раздавать королевские имения, доходы с которых обращаются на государственные нужды. Сейм назначит членов Постоянного совета тайною баллотировкой, но теперь на первый раз король согласится с министрами трех союзных дворов относительно назначения сенаторов, министров и шляхты, которые должны войти в Постоянный совет; четыре гвардейских полка будут под властью государства, как они были при Августе III, с тем только различием, что тогда гетманы сосредоточивали в своих руках всю власть, а теперь они разделяют ее с военною комиссией и гетманы вместе с комиссиею будут подчинены Постоянному совету. Королю будет выдаваться ежегодная сумма на содержание двухтысячного отряда войска, которым он располагает, как ему угодно.
Эти условия были выработаны королем и Штакельбергом вдвоем; Станислав-Август просил, чтоб министры австрийский и прусский тут не участвовали, на что они охотно согласились, чтоб избавиться от такого неприятного занятия. По окончании дела король прислал Штакельбергу письмо: «Вы были орудием жестокого жертвоприношения, где я был невинно заклан. Вы видели всю горечь моего страдания. Без сомнения, вы мне сострадали, вы должны желать доставить мне лекарство и облегчение. Но этого не будет, если императрица не возвратит мне своей дружбы. Умоляю, содействуйте этому. Я так и так давно несчастен, что наконец она должна быть тронута. Этот последний удар пронзил мне сердце, потому что нарушает мое достоинство и потому что направлен прямо ею, ею, против которой сердце мое ни в чем не винно. Но наконец, если бы даже она предполагала эту виновность, то я искупил это пагубное предположение, думаю, достаточно дорого». Следствием была записка Екатерины Панину: «Что касается короля и его брата, прошу вас придумать, что можно для них сделать. Прежде всего я сама охотно отдам и уговорю два другие двора отдать королю, что ему следовало до раздела; мне кажется, что граф Чернышев имел приказание составить этому счет; я потороплю его».
Варшавские события, разумеется, должны были вести к деятельным сношениям между участвующими в разделе державами; дела на Дунае продолжали находиться в тесной связи с польскими; Россия продолжала требовать у своих союзников помощи для скорейшего заключения мира с Портою.
9 февраля (н. с.) Фридрих II писал Сольмсу: «Известия о мирных переговорах в Бухаресте сильно меня беспокоят, боюсь, что конгресс уже разорвался. Упорство оттоманского уполномоченного должно приписывать французским интригам. Между тем я исполню сколько можно лучше поручение графа Панина, и, хотя я не нахожусь в непосредственной переписке с императором, Панин может быть уверен, что я передам его и. в-ству увещание, чтоб он дал точные приказания Тугуту действовать с большим жаром при Порте в пользу мира. Боюсь одного, и не без основания, что это средство придет слишком поздно, после разрыва конгресса. Если это случится, то вспомните проект венского двора, который я вам вверил, как прошлым годом я был в Силезии: этот двор сильно желает приобрести турецкие земли со стороны Венгрии и с этой целью вступить в союз с Россиею против турок. Если переговоры прервутся, знайте наверное, что венский двор употребит все усилия для проведения этого проекта, который лежит на сердце у императора. Между тем на наших переговорах в Польше сильно отзовется разрыв конгресса и мы встретим гораздо больше трудностей, чем когда бы мир был близок к заключению; я не знаю другого средства преодолеть эти затруднения, как принудивши поляков утвердить все наши требования». Это писалось для сообщения петербургскому двору; теперь послушаем, что Фридрих говорил фон-Свитену для сообщения в Вену. Разговор происходил 20 февраля (н. с.). «Известия из Константинополя, – начал король, – не подают надежды на мир. Турки никак не хотят уступить двух крепостей в Крыму (Керчи и Еникале); турки объявили, что уступка этих крепостей грозит опасностью Константинополю; они предпочитают продолжать войну, хотя бы это повело к разрушению столицы и всей империи, ибо все равно беда неизбежная через тридцать лет. С другой стороны, русские объявили, что без уступки двух крепостей в Крыму не хотят слышать о Крыме; и я жду скорого известия о разрыве Бухарестского конгресса. Турки сами. этого ждут и приготовляются, собирают войска сколько можно более. Я очень недоволен всем этим, потому что не вижу средств помочь делу». Фон-Свитен: «Но нельзя ли надеяться, что петербургский двор, который должен желать прекращения войны, сбавит свои требования, видя, что Порта решилась всем рисковать, а не подчиниться им». Король: «Нет, эти люди упоены своим счастьем; верно, что так же трудно управлять счастием, как и несчастьем. В упоении успехами они постановили самые тяжкие условия для Порты; теперь они и видят, что перешли меру, но не хотят отступить назад, считая это для себя унизительным, и они будут принуждены продолжать войну, потому что слишком много запросили; будут еще по крайней мере две кампании, которые, по-моему, не представляют для них ничего выгодного: они овладели всем на этом берегу Дуная, им не остается ничего больше здесь делать. Было бы очень опасно перенести оружие за эту реку, ибо было бы очень трудно поддерживать необходимые сообщения: на это надобно было бы употребить большую. часть армии, и остальная, которая переправилась бы за Дунай, не могла бы по своей малочисленности действовать с успехом, ибо набеги, если бы даже и простирались до Адрианополя и дальше, не решат ничего. Впрочем, несмотря на доброе согласие, существующее теперь между вашим и петербургским двором, я не знаю, очень ли вам понравится переход русских за Дунай? По крайней мере нужно было бы им прежде условиться с вами. Мне сообщили из Петербурга другой проект, и я очень советовал не приводить его в исполнение: это опустошить Молдавию и Валахию, все пожечь, забравши всех жителей, сделать из двух стран совершенную пустыню и отодвинуть войско на польские границы за Днестр, оставив 20000 или 30000 в Татарии. Этот проект совершенно противен человеколюбию, слишком отвратителен и в то же время может сделаться опасным, ибо, несмотря на опустошение, турки могут приблизиться к Польше, где поднимут сильное волнение, а нам нужно их держать подальше для успеха наших намерений. Я вижу одно средство помочь делу: это если Россия потребует вашей помощи против турок и согласится, чтобы вы взяли Боснию и Сербию. В таком случае война не будет продолжительна и вы не останетесь без барыша».
Фон-Свитен обещал донести об этом предложении своему двору и писал Кауницу, что, без всякого сомнения, тут скрываются гораздо обширнейшие замыслы прусского короля, именно дальнейшее расширение своих владений. Фон-Свитен предлагал свою догадку, что Фридрих хочет вмешаться в войну России со Швециею и приобрести шведскую Померанию, а чтоб Австрия не мешала этому, занять ее в Турции, где она может также сделать приобретения. Но австрийский посланник посмотрел не в ту сторону: Фридриху прежде всего желалось получить Данциг и Торн, и, чтоб Россия и Австрия согласились на это, он указывал им на приобретения в Турции, получить которые они могли, только предварительно отдавши ему всю Вислу. Прежде он не желал, чтоб Австрия приобрела земли от Турции, ибо прежде всего хотел совокупного действия трех держав в Польше, но теперь это совокупное действие завершилось по его желанию и он думал об одном: как бы добыть Данциг и Торн, без чего польское дело являлось для него неоконченным.
Чтобы Австрия не боялась Франции, когда станет увеличиваться на счет Турции, Фридрих говорил фон-Свитену: «Французы в бешенстве, но у них нет силы, и потому они переменили львиную кожу на лисью и пытаются всеми средствами нас разъединить. Знаете ли, что они предложили в Петербурге доставить России мир с турками, если там согласятся дать им волю работать в Константинополе; но их хитрости не удадутся, я за это отвечаю. Впрочем, их нечего бояться, они не в состоянии вести войну; правда, что они могут надеяться на испанские субсидии, но этот источник недостаточен: война, которая ведется на чужой кошелек, на милостыню, не может быть ни энергична, ни продолжительна; притом я знаю наверное, что король ненавидит самое имя войны; и министр, который ее ему предложит, несомненно, потеряет свое место; а вы знаете, что во Франции, как в некоторых других странах, министры любят больше свои места, чем государство».
Из Вены отвечали отказом вести дело в Турции вместе с Россиею, искать себе с оружием в руках приобретений, тогда как не было известно, какие приобретения прусский король захочет приобрести даром; в Вене Фридрих II имел отличных учеников, которые, следуя по стопам учителя, также намерены были приобрести от Турции кое-что даром. Получивши на свое предложение отрицательный ответ, Фридрих затронул другую сторону. «Однако, – сказал он фон-Свитену, – надобно ожидать со дня на день разрыва бухарестских конференций, и если война продолжится, то надобно же принять какое-нибудь решение, что тогда делать. Россия объявляет, что если мир не состоится, то она не будет более держаться предложенных условий, именно возвращения Молдавии и Валахии». – «Вы знаете, государь, – отвечал фон-Свитен, – что мы бы принуждены были сделать, если бы Россия пожелала сохранить Молдавию и Валахию, и вы из этого можете заключить, что мы принуждены будем сделать, если те же обстоятельства повторятся».
Фридрих понял дело так, что Австрия не хочет объявить себя против Турции из опасения Франции. «Чего вы боитесь французов?» – спросил он фон-Свитена. «Мы боимся, – отвечал тот, – верной потери наших областей на Рейне, в Италии, Нидерландах, которых мы не могли бы защищать». – «Но разве я не союзник ваш в этой всеобщей войне?» – возразил король. «Вашему в-ству достаточно будет промышлять о самих себе», – отвечал фон-Свитен. «Но почему вы верите в возможность этого всеобщего союза против нас?» – спросил опять король. «Мы не должны предполагать эту возможность, – отвечал фон-Свитен, – вследствие общего волнения и зависти, произведенных в целой Европе нашим раздельным договором и нашим союзом. Страх родил подозрения и преувеличенные опасения. Если увидят, что наш союз ограничивается разделом Польши, которому уже нельзя воспрепятствовать, волнение прекратится, подозрения и опасения исчезнут и можно надеяться сохранения всеобщего спокойствия; но если увидят в нашем союзе с русскими против турок осуществление именно тех опасных последствий, каких боялись, то нет сомнения, что вся Европа соединится против трех дворов, против обширных замыслов, которые по справедливости у них заподозрит». – «Эта опасность исчезнет, – отвечал король, – если мы еще теснее соединимся; и вот почему я бы так желал, чтобы наш тройной союз был заключен: тогда мы будем господами мира и войны; и это будет верное средство осуществить проект аббата С. Пьера» (о вечном мире).
Что Фридриху вовсе не хотелось никакой войны, а тем менее шведской, видно из его письма к Сольмсу от 24 апреля: «Если я вам говорил о подозрениях насчет интриг Дюрана и непозволительных связей, какие он мог иметь при русском дворе, то я делал это на основании моих писем из Парижа, что там хвастаются существенными услугами, оказанными Дюраном своему двору; слухи о неудовольствиях между императрицею и великим князем, о решенном удалении графа Панина и будущей революции в России вообще распространены в Версале. Что касается ваших известий, что Дюран дал знать своему двору о кронштадтских укреплениях и дурном состоянии русского флота, то Франция может воспользоваться такими известиями для воспламенения огня юности моего племянника, короля шведского. Она может воспользоваться этими анекдотами и убедить Густава III, что настоящие обстоятельства самые благоприятные для разрыва с Россиею. Так как я был бы очень огорчен, если б мои родственники ввели в новые затруднения мою союзницу, то я думал о средствах, как бы предохранить ее от этих неприятностей, и вот что придумал. Предположив, что разрыв со Швециею неизбежен и Швеция действительно нападет на Россию, последняя может рассчитывать, что я с точностью выполню мои союзнические обязательства. Но быть может, есть средство предотвратить бурю? Единственное разумное средство, которое Франция может употребить для принуждения шведского короля к разрыву, – это внушение, что Россия непременно замышляет какой-нибудь удар для восстановления прежней формы правления и гораздо выгоднее для него ее предупредить и напасть на нее во время турецкой войны, а не дожидаться мира, когда Россия, имея свободные руки, обратит все свои силы против него. Этот аргумент кажется мне очень естественным и способным произвести впечатление на шведского короля. Чтобы заставить Францию замолчать и предупредить следствия ее верных внушений, я не нахожу другого средства, как объясниться дружески со шведским королем или непосредственно, или чрез меня».
Из Петербурга королю давали знать, что в случае разрыва Бухарестского конгресса русские войска перейдут Дунай. По этому поводу Фридрих писал Сольмсу 1 мая: «Не скрою от вас, что переход через Дунай с целой армией фельдмаршала Румянцева кажется мне очень опасным и трудным. Русская армия будет подвержена тут тысяче случайностей, не говоря о трудностях при доставлении съестных припасов и оружия. Обратив внимание на ширину этой реки, понимаешь затруднения, какие встретит армия в случае, если испытает малейшую неудачу и будет принуждена отступать по той же реке. Осада Очакова, кажется мне, была бы естественна и не так опасна. Кампания нынешнего года потребует от фельдмаршала Румянцева гораздо более благоразумия и осторожности, чем предыдущие». Получив известие о разрыве Бухарестского конгресса, Фридрих писал: «Очень печально, что бухарестские переговоры опять не удались. Я имею основания предполагать, что если бы венский двор употребил более твердости в своих внушениях Порте, то переговоры, конечно, имели бы более успеха. Сколько я могу заключить из всех моих известий, венский двор, сохраняя еще слишком много прежнего уважения к Франции, не имел духа сделать более сильные представления в Константинополе». Но Фридрих противоречил самому себе. Что-нибудь одно: или Австрия не хотела настаивать на мире по отношениям к Франции, или по другим расчетам, желая воспользоваться предложением войны для своих целей. Так, Фридрих в депеше 25 мая опять возвращается к этому объяснению: «Кауниц желал выдвинуть всевозможные затруднения, чтоб заставить Россию нуждаться в помощи венского двора и продать эту помощь самою дорогою ценою». В августе гр. Иван Чернышев имел в Потсдаме длинный разговор с Фридрихом II, который рассказывал ему о своих отношениях к разным державам. Об англичанах он никак не мог говорить равнодушно, он упрекал их в том, что тайком от него заключили последний мир с Франциею, не выговорив занятых французами его земель, и заставили его отбирать эти земли оружием. Но всего обиднее было для него то, что они предлагали Кауницу союз и помощь для отнятия у Пруссии Силезии и старались охладить к нему императора Петра III. «Теперь, – говорил король, – мне нет никакой нужды входить с ними в союз; я доволен союзом с Россиею и ни в ком больше нужды не имею. Россия в другом положении и может иметь свои причины быть с Англиею в соглашении или союзе; тогда по России и я буду с нею в некоторой связи. При втором свидании моем с императором был там и Кауниц; и тот об англичанах имеет одинокое мнение со мною: считает их не очень верными союзниками, чему в пример приводил поступок их с австрийцами во время Ахенского мира». Потом Фридрих начал говорить о дружественных отношениях своих к императрице Екатерине и России и как будто бы стыдился своей попытки еще порасширить свои границы на счет Польши, говорил сквозь зубы: «Вообще принято: когда реку отдают, то разумеется верховье; императрица мне этого дать не рассудила; и я согласился». Потом продолжал с улыбкою: «Австрийцы объявили, что намерены всегда держаться в точности постановленного в конвенции о разделе; но после оказалось, будто нельзя описать границ с такою точностью, как на месте, почему и хотят этим начать. Я знаю их жадность: им хочется захватить побольше, почему и посылаю человека поприсмотреть за ними; и в случае если они поприхватят, то естественно, что и я буду определять свои границы по местным удобствам». Чернышев заметил на это: «Если ее и. в-ство рассуждает, что трем державам непременно должно держаться постановленного в конвенции, то это не для того, чтоб не дать Пруссии чего-нибудь больше, а для того, чтоб показать свету твердость намерений трех держав; потому и нельзя расширять своих границ под предлогом, что другой захватил лишнее, иначе можно поставить польские дела в такое положение, что их и окончить будет нельзя». Фридриху не хотелось продолжать этого разговора. Сказавши, что в Польше положили соглашаться на уступку требуемого и что окончание дела гораздо более подвергнуто опасности от внутренних вопросов, он перешел к войне и миру с турками. «Мир крайне надобен, – говорил он, – кампанию надобно считать оконченною, и не очень удачно; и если в настоящем году мир не может быть заключен по желанию, то, не жалея расходов, надобно употребить всевозможные меры, чтоб принудить турок к миру в будущую кампанию. Всех обстоятельств, которые могут последовать в Европе, предвидеть нельзя. Что же касается шведов, то я уверен, что они, особенно нынешний год, ничего не предпримут, да хотя бы и предприняли, то 25000 войска, находящегося в Финляндии и около Петербурга, конечно, довольно, особенно если в то же время шведы должны будут иметь дело и с датским двором. Я не раз думал о том, что шведы вам могут сделать. У них больше 45000 войска нет; из этого числа надобно кое-что оставить дома и в гарнизонах; положим, что на это пойдет 5000; десять надобно будет отделить против Норвегии; затем и останется против вас только 20000. Впрочем, не должно сомневаться, что в случае совершенной неудачи вашей против турок Франция будет стараться поднять шведов против вас. Больше всех возбуждает в короле к вам ненависть французская креатура Шефер, который с младенчества вселил в короля мысль, что он может получить известность в свете только беспредельной привязанностью к французской системе и тесным союзом с Францией. Я их обоих у себя видел. Племянник мой, король, очень неглуп, но все дурное французское так перенял, что ветрен, как молодой француз. Желательно, чтоб вы помирились с турками без чужой помощи; но в случае невозможности надобно будет прибегнуть к австрийцам. Они очень желают вмешаться в эту войну, но хотят, чтоб вы их о том много и много просили. Аппетит у них несказанный – возвратить Белград и все потерянное в прошедшую войну. Я этот двор хорошо знаю и вам вкратце опишу: император – человек молодой, нетерпеливо желает себя прославить, но человек честный и твердый; мать – такая комедиантка, какой на свете нет другой; Кауниц – человек не только двоедушный, троедушный, но и четверодушный. Я часто думал, как бы вы могли нанести туркам самый чувствительный удар, но, по несчастию, не знаю местности и потому безошибочно ничего сказать не могу. Однако мне кажется, что вам бы следовало, оставя знатный корпус войска вверху Дуная, у Журжева или выше, с остальной армией идти по правому берегу реки прямо к Варне; провиант можно было бы доставлять по Дунаю и морем. Такое движение заставило бы неприятеля или сойти с гор, выйти из щелей и дать сражение, или бежать для защиты Адрианополя. Жаль очень, что Силистрия не взята: тогда бы вы твердой ногой стояли и за Дунаем». Чернышев заметил, что Силистрию можно взять только приступом, следовательно, с большим кровопролитием. «Мало артиллерии вы употребляете, – сказал король, – надобно бы пушек сто да мортир 30 или 40, ибо турецкие укрепления состоят в крепких и высоких стенах. Хотя бы Очаков в нынешнюю кампанию можно было взять!» Чернышев заметил, что трудно перевести к нему артиллерию. 5 октября Фридрих писал об опасностях вторичного перехода через Дунай: «Если бы турки первые перешли Дунай и граф Румянцев разбил их, тогда он мог бы их преследовать за Дунай; преследование разбитой, потерявшей потому дух армии всегда бывает успешно. Но если, наоборот, турки останутся в своем лагере, то фельдмаршал ударится в большую игру: перешедши Дунай для нападения на них, он рискнет всем для всего. Я не стану утверждать, чтоб такой смелый удар никак не мог удаться. Военное счастье, которое до сих пор благоприятствовало русским, может поблагоприятствовать им и в этом случае, но жребий войны изменчив и его прошлые ласки не ручаются за будущее; неудачи так же возможны, как и успехи; и не скрою от вас, что на месте России я бы не стал так полагаться на счастье».
Сольмс передал Панину депешу прусского посланника Гольца из Парижа (от 4 ноября); по письмам из Петербурга заключают, говорилось в депеше, что Панин не пользуется большой милостью своей государыни, он должен разделять ее с князем Орловым и графом Чернышевым, которые очень дружны между собой. В письмах прибавляют, что эти вельможи не кажутся такими врагами Франции, как гр. Панин, что министры французский и испанский часто видаются с ними и подают своим дворам надежды относительно доброго расположения Орлова и Чернышева ко Франции. Герцог Эгильон, говоря с Гольцем о наградах, полученных Паниным, спрашивал его несколько раз: «Думаете ли вы, что этот министр действительно удержит заведование иностранными делами и дарованные ему милости не предвещают ли скорое Удаление от дел?» Гольца уведомили, что Дюрану дано приказание осведомиться при петербургском дворе, не согласится ли последний заключить мир с Портою при посредстве Франции, которая в таком случае может добиться у турок уступки двух крымских гаваней на Черном море.
В Вену о французских внушениях давали знать непосредственно из Петербурга, думая, что этим побудят Австрию содействовать заключению мира России с Портою! 12 февраля австрийскому послу здесь князю Лобковичу была вручена бумага под заглавием: «Содержание разговора графа Панина с князем Лобковичем». В этой бумаге говорилось: «Венскому двору известно старание Франции запутать все политические дела Европы с единственной целью воспрепятствовать соглашению трех дворов относительно Польши или, наконец, воспрепятствовать исполнению этого соглашения. Здесь Дюран не перестает выставлять выгоды, какие получила бы Россия, войдя в тесную связь с его двором: чрез это она вывела бы свои дела из нерешительного положения; Дюран прямо и открыто предлагает союз между Россией, Францией и Швецией; это предложение, очевидно, клонится к тому, чтоб охладить Россию, ослабить ее деятельность при исполнении означенного соглашения, и хотя еще ей не предлагают уклониться от соглашения, однако указывают уже на большие выгоды, которые получит она от новых связей. Нет двора, где бы Франция не интриговала против раздела Польши; даже британское министерство обольщено до такой степени, что поддерживает в Константинополе все французские интриги против мира ввиду торговли на Черном море. Известно, что русский двор отказался от Молдавии и Валахии из уважения к венскому двору, и никакие другие соображения не могли бы побудить его к принесению этой жертвы. В таком положении дел было бы действием, согласным со справедливостию и миролюбием венского двора, если б он предписал своему министру в Константинополе открыть Порте глаза насчет двойной интриги Франции, которая работает в пользу Швеции в одно время и в Петербурге, и в Константинополе, и вместе с тем объявить Порте, что если она позволит себе увлечься чуждыми видами к продолжению военных бедствий, то Австрия не только предоставит ее военному счастью, но для поддержания равновесия в случае шведской диверсии примет сторону России, как прежде принимала сторону Порты». Кауниц, уверяя кн. Голицына в искренности и усердии, с какими австрийский посланник по предписанию своего двора поддерживает русские интересы в Константинополе, прибавил, что Австрия ожидает и от России для себя услуги. «Мы были бы очень благодарны петербургскому двору, – продолжал он, – если бы Россия не подала повода к разрыву со Швецией, если бы ограничилась уничтожением неприятных ей вещей в новой правительственной форме путем мирных переговоров». Кауниц просил Голицына писать об этом почаще графу Панину. Голицын отвечал, что Россия, конечно, не начнет легкомысленно новой войны, но дело в том, что Франция своими интригами воспрепятствует королю шведскому войти в какие бы то ни было соглашения и может ли русский двор видеть хладнокровно существование в Швеции правительственной формы, противной его гарантии и его интересам? Кауниц при этих словах обнаружил некоторое волнение и сказал: «Чего России бояться, если шведский король будет одарен талантом и мужеством? Ведь он чрез это все же никогда не будет в состоянии меряться с вами: Россия бесконечно превосходит его своими средствами, притом она располагает Данией, имеет союзником короля прусского и находится в доброй дружбе с австрийским домом». Голицын заметил на это, что государства не руководятся в своем поведении настоящим положением дел, но имеют в виду будущие неудобства и предусматривают опасности издалека; ясно, что в Швеции при перемене правления аристократического на монархическое неограниченное произойдет сосредоточение власти, что даст этому государству большие средства. Это будет тем опаснее для России, что неограниченная власть шведского короля будет орудием в руках Франции для постоянной помехи русским делам. Кауниц не отвечал на это прямо, а только распространился о том, как было бы желательно избежать войны, которая может распространиться далеко. Кауниц уверял в искренности и усердии, с какими австрийский посланник поддерживает в Константинополе интересы России. Действительно, он готов был предписать Тугуту склонять Порту к примирению, но император Иосиф был другого мнения: он представлял, что Австрия не окажет этим Порте никакой услуги; если Австрия ничего не сделает против мира, то Россия не будет иметь никакого права жаловаться; Франции будет также приятнее, если Австрия не будет усердно хлопотать о мире, ибо Франция боится, что Россия, освободившись от турецкой войны, обратится против Швеции. Наконец, чем долее Россия будет находиться в войне, чем продолжительнее будет нерешительное положение и прусский король будет платить ежегодные субсидии, тем Россия и Пруссия будут уступчивее в польских делах. Кауниц был принужден в депешах Тугуту, которые тот мог показывать, настаивать на заключении мира, а в тайных давать знать, что эти увещания к миру в Вене не почитаются серьезными; внушалось, что такие настаивания на мир с австрийской стороны могут быть только выгодны для Порты, ибо если она отвергнет русские требования, то этим произведено будет сильнейшее впечатление в Петербурге: здесь увидят, что и убедительнейшие внушения Австрии ни к чему не повели.
Когда Голицын объявил Кауницу о разрыве Бухарестского конгресса, то австрийский канцлер сказал спокойно: «Из этого достойного сожаления события можно видеть, какую нужду и важность находят для себя турки в требуемых русским двором двух крымских крепостях, Керчи и Еникале». – «По моему мнению, – возразил Голицын, – такое упорство турок можно приписать только неусыпным проискам недоброхотов России. Турки своим упорством не приобретут себе никакой пользы; и я очень удивляюсь, почему Порта, несмотря на данные ей г. Тугутом новые представления, разорвала конгресс; из этого видно, как мало она уважает представления здешнего двора». Кауниц помолчал и потом завел речь о другом предмете. Получивши от Панина подробные известия о разрыве конгресса, Голицын опять поехал к Кауницу сообщить их ему. Кауниц, выслушав изложение дела, принял серьезный вид и не отвечал ни да ни нет. Тогда Голицын начал говорить: «Вспомните, князь, по крайней мере, что мое изложение дела представляет искреннее объяснение от одного дружеского двора другому, что тут нет ничего искусственного и скрытного, и мы были бы очень рады, если бы наше поведение в переговорах с Портою показалось и вашему двору столь же справедливым и последовательным, каково оно на самом деле». – «В добрый час, – отвечал Кауниц, – но чтоб судить о вашем деле беспристрастно, надобно, чтоб я поставил себя также и на место турок; по-вашему, вы требуете мало, а по их – слишком много».
В октябре по поводу перехода русского войска через Дунай император Иосиф II спросил Голицына: «Не думаете ли вы, что переход через Дунай несколько рискован?» – «Государь, – отвечал Голицын, – нет сомнения, что попытка смела и опасна, но если неприятель не шел к нам, то надобно идти к нему; впрочем, если наше войско не могло вполне достигнуть цели похода, то по крайней мере оно удержало решительное превосходство над неприятелем». – «Правда, – сказал Иосиф, – войско держало себя хорошо, и я удивляюсь постоянной славе вашего оружия, если бы только поскорее последовал мир». – «Государь, – отвечал Голицын, – это не от нас зависит». Иосиф: «Правда, турки упрямы до невозможности; что мы не делали, чтоб уговорить их, – один ответ, что русских условий принять нельзя! Ваше требование Керчи и Еникале есть один из главных камней преткновения; они думают, что посредством этих двух мест и флотов, какие у вас там будут, вы будете владеть Черным морем и держать в осаде Константинополь». Голицын: «Все эти опасения не имеют никакого основания; положение Керчи и Еникале неудобно для военного флота; да если бы было и иначе, то Порте нечего бояться в мирное время, когда наши корабли имеют право плавать по Черному морю; в случае же войны мы приведем в действие верфи Таганрога, Азова и Воронежа, причем Кафский проход, находящийся в руках наших союзников татар, будет нам всегда открыт. Порта не хочет нам отдать этих двух мест единственно потому, что они послужат нам гарантией независимости татар». Иосиф (с улыбкой): «Говорят, что татарская независимость, на которую так настаивает Россия, вовсе не по вкусу самих татар и что вы ее им навязываете». Голицын: «Дело возможное: народ, привыкший долгое время к игу, связанный с турками единством веры и нравов, может оказывать нежелание внезапного освобождения, и мы не стали бы открывать им глаза насчет выгод, которых они не понимают, если бы у нас не было прямого интереса так поступать. Освобождая этот хищный народ из-под покровительства Порты, делая его ответственным за его собственные поступки, мы чрез это доставляем нашим границам безопасность от их набегов. Да и ваши владения от этого выиграют». Иосиф: «Как это?» Голицын: «Во-первых, мы удалили многие татарские орды, переведя их из Буджака на Кубань; потом, в случае войны австрийского дома с Портой последняя не будет иметь в своем распоряжении толпы разбойников, которые прежде с необыкновенной быстротой опустошали целые области». Иосиф: «Прекрасно! Эти соображения мне кажутся основательными; однако если турки будут упорствовать, то скоро ли у вас будет мир?» Голицын: «Наш мир с Портою будет заключен очень скоро, если венский двор употребит в нашу пользу лучшее из увещаний». Иосиф (улыбаясь): «Понимаю, вы разумеете пушки». Голицын: «Именно, государь. Уже самая близость войны столь продолжительной неудобна для соседней державы; потом турки благодаря неутомимым заботам наших завистников привыкают нечувствительно к лучшей дисциплине, учатся воевать с Европою, и, соединяя эту выгоду со своими естественными средствами, они делаются гораздо опаснее, чем были прежде». Иосиф: «Я с этим не согласен. Не касаясь уже главной струны (магометанства?), живой и кипучий характер этого зверского народа в соединении с формой правления никогда не может согласоваться с дисциплиной, в какой мы держим наших солдат». Голицын: «Дай бог, чтоб предположение вашего величества никогда не допускало исключений, но, соображая все обстоятельства, осторожность в этом отношении не неуместна». Тут император вдруг переменил разговор.
Об интригах Франции толковали постоянно в Петербурге, Берлине и Вене; о чем же толковали во Франции? В марте Хотинский писал Панину: «Здесь согласие трех дворов – русского, прусского и австрийского – почитается странным для всех союзом, и неведомо, каких в нем видов не подозревают. Потому опасаюсь я, чтоб не употребил здешний двор всяких ухищрений напугать этим и англичан, которые в такую западню могут и попасться и станут если не содействовать Франции в ее предприятиях, то мироволить, а она не преминет всячески кутить и мутить». Больше всего во Франции боялись нападения на Швецию со стороны России, что заставило бы Францию помогать Швеции хотя деньгами, но и денег не было. Тщетно Хотинский уверял Эгильона, что у России нет намерения напасть на Швецию; герцог отвечал: «Это все равно как если бы вы мне говорили, что остаетесь в Версале, а я собственными глазами видел из окна, что в вашу карету лошади запряжены. Для чего вы не хотите со стороны шведов обеспечиться заключением с ними договора?» В августе пришло известие о назначении во Францию министром генерал-майора князя Ив. Серг. Борятинского. Это известие заставило утихнуть слухи о войне, и бумаги поднялись на бирже. Эгильон сказал Хотинскому, что Дюран расхваливает Борятинского. «Такое назначение, – заметил Хотинский, – может успокоить вас и относительно Швеции». – «Вы знаете, – отвечал Эгильон, – образ мыслей короля и мои намерения, знаете, что мы желаем более всего, чтоб это назначение послужило к утверждению совершеннейшего согласия». Когда Хотинский указал на вооружение Франции, то герцог сказал: «Мы не хотим, чтоб о нас подумали, что мы уже совсем бессильны».
В августе был составлен наказ новому министру кн. Борятинскому. Наказ этот замечателен как объяснение и оправдание русской политики во время панинского управления внешними делами, написанный самим Паниным: «Руководство общими делами разделяется главными державами по мере умения каждой себе его присваивать. До царствования Великой Екатерины Россия при всех своих успехах в прусской войне играла только второстепенную роль (?), выступая везде вслед за своими союзниками (?). При вступлении ее в-ства на престол в Европе были две стороны: в первой находились Франция и Австрия, за ними Испания и значительная часть имперских князей; на другой стороне была Англия и король прусский. С первой в союзе находился король португальский и некоторые имперские князья; с последним же сделался вдруг из неприятеля теснейшим союзником император Петр III; следовательно, и тут Россия, переменя политическую систему, осталась все же в значении державы, от посторонних интересов зависимой. При заключении мира Англия успела вынудить от бурбонского дома выгодные условия, удержав за собой многие и важные завоевания, а король прусский отдалился безо всякой потери. Чем меньше Россия вследствие скоропостижного перелома, совершенного в ее политике Петром III, могла иметь влияние в этих мирных переговорах, которые основывали будущее положение всей Европы, тем труднее было ей после приобрести влияние. Мудрость и твердость ее и. в-ства превозмогли, однако, скоро эту трудность, и свет увидел вдруг с удивлением, что здешний двор начал играть в общих делах роль, равную роли главных держав, а на севере – первенствующую. Англия, имея с нами одинакие государственные интересы, а сверх того, привыкнув по естественному положению острова своего смотреть в мирное время очень равнодушно на континентальные дела, увидела такую политическую перемену с чрезвычайным удовольствием по той причине, что находила в России новую соперницу Франции, облегчающую собственные ее заботы. Австрия и Пруссия были так утомлены от войны, что сначала мало помышляли о распространении влияния своего далее пределов германской империи, а после, увидя, что Россия начала сама собою и по собственной системе действовать, стали по взаимной их друг ко другу ревности наперерыв искать ее дружбы и союза, но с той разностью, что венский двор по прежней привычке руководствовать ею для собственных видов (?) старался и тут возвратить нас в зависимость от своей политики; а король прусский, оставляя ее и. в-ству первенство в общих с ними делах, хотел только приобрести себе ее дружбу и союзом ее оградить целость и безопасность владений своих на будущее время, зная по опыту, какою завистью пылает к нему венский двор, и, конечно, воспользуется. первым удобным случаем к отнятию у него Силезии. Не трудно было императрице избрать, которая сторона выгоднее и полезнее для славы и достоинства империи, тем более что венский двор находился в теснейшем соединении с Франциею, которой влияние везде господствовало и особенно на севере препятствовало усилению русского влияния. Предпочтение Россиею прусского союза не могло быть по вкусу венскому двору, и потому он начал везде способствовать французским интригам против нас, сохраняя некоторую умеренность и все наружное приличие. Но Франция оскорблялась в войне, чувствуя, что русское влияние усиливается в ущерб ее собственному; и первый министр герцог Шуазель, полагая в том личную свою честь, стал хвататься и за все позволенные и непозволенные способы. Общая французская система против нас состоит в том, чтоб влиянию и значению России, по крайней мере равняющимся теперь влиянию и значению Франции, ставить сильнейшие препятствия и стараться возвратить Россию в прежнее положение державы, действующей не собою, а повинующейся чужим интересам. По этому плану действуют теперь при всех дворах французские министры, хотя герцогу Эгильону надобно отдать справедливость, что со времени его министерства наблюдается ими все наружное приличие; и здесь Дюран уверяет о дружеском расположении своего короля к императрице и желании его оказать ей услуги, средством к чему могут служить возобновление оборонительного союза между Россиею и Швециею и посредничество для заключения мира с Портою, но все это делается с прежней целью лишить нашу политику самостоятельности. Франция увидала, что успехи ее в борьбе с нами не соответствуют ее желанию, и потому вздумала перевернуться и построить батареи свои у нас самих, пользуясь шведской революцией и порванием переговоров с турками, в надежде, что увеличение наших забот побудит нас с радостью и без размышления ухватиться за ее лестные предложения. Тонкая мысль, чтоб дать нам в собственном нашем деле почувствовать недостаток собственных наших средств. Но тонкость Франции не устояла, однако, против мудрости ее и. в-ства, проникнувшей ковы и отклонившей французские предложения». Борятинский должен был поступить соответственно этому, если б во Франции повторили ему подобные предложения. Относительно отклонения французского посредничества Панин под условием глубочайшей тайны рассказывал английскому посланнику Гуннингу следующее. Известный Дидро, гостивший в это время в Петербурге, подал императрице бумагу, содержавшую условия мира России с Турциею, который Франция обязывается доставить, если будет принято ее посредничество. Дидро объяснял, что бумагу получил он от Дюрана и не мог отказаться передать ее императрице, иначе по возвращении во Францию был бы заключен в Бастилию. Екатерина отвечала ему, что, принимая в соображение такую опасность для него, она прощает неприличие его поступка, но пусть он передаст Дюрану, какое употребление она сделала из его бумаги: при этих словах бумага была брошена в огонь. Кроме того, Дюран три раза был у Панина с предложением посредничества и союза Франции с Россиею на условиях, какие будут угодны последней. Каждый раз он получал ответ, что русский двор не считает настоящую минуту удобной для увеличения своих обязательств и довольствуется обязательствами, уже существующими, но императрица очень чувствительна к дружественным намерениям его христианнейшего величества и всего более желает иметь случай убедить короля в том, как она его уважает и ценит его дружбу. Панин уверял Гуннинга, что, пока он управляет иностранными делами, Россия не примет французского посредничества. Но Гуннинг, донося об этом своему министерству, замечает, что, несмотря на враждебность Панина ко Франции, если бы не было в Петербурге Орлова, то можно было бы очень опасаться успеха приверженцев французского союза.
В Швеции не переставали ждать нападения с русской стороны и для обеспечения себя следовали вполне французским внушениям. «Благонамеренные, – писал Остерман, – говорят, что они не оказали сопротивления перевороту потому только, что не были удостоверены в защите России, говорили, что иго, наложенное королем, русской силой так же легко будет свергнуто, как скоропостижно было наложено. Нет ни одного шведа, который бы не думал, что эта минута настанет; до ее же наступления всякое движение, как вы сами мудро и проницательно признавать изволите, было бы не только напрасным, но и самым вредным предприятием и, следовательно, по моему мнению, всякая денежная раздача на приготовление умов была бы излишня, кроме одного тайного вспоможения благонамеренным, находящимся в крайней нужде, на что из последних полученных мною денег еще довольно в остатке находится. Я должен тем более остерегаться, что и без того наши соперники приписывали мне составление заговора и теперь прямо говорить начали, что мы по окончании нашей войны намерены напасть на Швецию вместе с Пруссиею и Даниею. Зная ее и. в-ства будущее намерение, я не оставлю, сколько благопристойность позволит, под рукою усиливать настоящее неудовольствие, соразмеряя мои внушения и мою откровенность со взаимной ко мне доверенностью. Я составил список людей, в неудовольствии которых не сомневаюсь; но так как эти люди отмечены у короля русскими креатурами и удалены от правления, то от них, кроме скрытного содействия, другого ожидать нельзя, ибо за каждым их шагом следят. Пока не удастся королевского брата герцога Фридриха от короля отвратить и к нашим началам привести, ни один из больших господ себя не откроет, и если вспыхнет какое возмущение и непослушание в полках, то от мелкого офицерства, а не от больших чиновных людей. На твердость и скромность герцога Фридриха надеяться трудно. За два дня до получения королевского указа о принятии команды над полками в Остготской провинции при известии о бунте в Христианштаде принц публично за столом уверял, что он явится вождем народа в защите вольности, по получении же указа объявил, пожимая плечи: „Король мне брат, мне нельзя его оставить, поневоле должен защищать“. Выходки против короля делал и герцог Карл, но следствий никаких не было; родственное чувство в королевской фамилии очень сильно: часто и скоро ссорятся, но скоро и опять мирятся».
Известия о русских вооружениях в Финляндии заставили Густава III созвать в начале марта военный совет из сенаторов графов Ливена, Шефера, Ферзена и барона Фалькенгрена. Король предлагал отправить в Финляндию несколько полков и артиллерийскую эстляндскую команду из 400 человек с 16 пушками. Но кроме Шефера, все другие сенаторы представляли, что прежде надобно получить достовернейшее сведение, действительно ли императрица намерена напасть на Швецию, и потому они признавали полезным прежде всяких вооружений со стороны Швеции обнадежить императрицу именем короля, что у него нет ни малейшего намерения ее обеспокоить, вследствие чего можно надеяться получить и от императрицы подобные же уверения, тогда как вооружения скорее всего могут произвести холодность между дворами. Король согласился не посылать в Финляндию полков и артиллерию, но, с другой стороны, согласился с Шефером, что не нужно посылать в Петербург обнадеживания, которое может повести к неприятному для Швеции ответу. Старались всеми средствами уверить, что с шведской стороны никакого военного движения не будет. Шефер приезжал к английскому министру Гудрику и говорил о распространяемом в Европе слухе, будто шведский король заключил с Портою договор, по которому за большую сумму денег обязался сделать диверсию против России. Шефер клялся, что этот слух выдуман врагами Швеции, что не только нет никакого договора, напротив, шведскому министру при Порте Целзангу предписано не препятствовать никоим образом заключению мира между Россиею и Турциею. «Это уверение Шефера, – писал Остерман Панину, – могло бы иметь еще некоторый вид истины, если бы он так бесстыдно не уверял о своих предписаниях Целзангу». Остерман был уверен, что турецкие деньги придут в Стокгольм, как бы они ни были прикрыты, трактатом или французским плащом. После всех этих событий Шефер прислал просить свидания у Остермана и начал такой разговор именем королевским: «Вам известны неоднократно данные его величеством уверения об искреннейшем желании и непоколебимом намерении сохранить доброе согласие с императрицей. Король, имея и теперь то же самое пламенное желание, приказал мне подтвердить вам о нем с присовокуплением, что он до сих пор полагался на подобные же уверения и с ее стороны, несмотря на известие о русских вооружениях в Финляндии; теперь же, получа подтверждение этих известий о сборе 18000 человек, о вооружении 75 галер и целой эскадры, не может скрыть, как бы эти известия его обеспокоили, если б он не вполне полагался на дружбу ее величества, основанную на родстве. Между тем он принял и с своей стороны некоторые меры предосторожности, но приказал мне повторить уверение, что эти меры приняты только для обороны, а никак не для наступления, и как скоро он из ваших уст узнает, что ее величество ничего против него предпринять не намерена, то сейчас же всякие вооружения прекратятся». «Этот поступок: Шефера, – писал Остерман, – происходит от того, что он со своей шайкой пронюхал нерасположение народа к войне и старается теперь подобру выйти из этого лабиринта для успокоения нации, почему так сильно и домогается об ответе с нашей стороны, чтоб в случае благоприятного ответа пресечь все движения, в противном случае продолжать их усиленно, даже собрать и чрезвычайный сейм».
В Петербурге составлен был такой ответ Остерману для передачи Шеферу по поводу последней конференции: «С тех пор как король вступил на престол, ее импер. в-ство постоянно уверяла его в своей искренней дружбе к нему как близкому родственнику, в участии, какое она принимает в его благополучии, в доверии, какое она питает к его желанию установить совершенное согласие между двумя державами. Одушевляемая такими чувствами, императрица с новым доверием и с новым удовольствием приняла последние уверения короля. Ее импер. в-ство презирает тайные пути; во все свое царствование она вела свои дела на виду пред всей Европою; тем менее она могла изменить свое поведение относительно государя, находящегося с ней в таком близком родстве; по этому неизменному правилу своей политики она приказывает вам (Остерману) уверить, что во всем, что делалось и делается в ее государстве, не заключается ни малейшего намерения к нападению на Швецию. Первый шаг в перемене существовавшего порядка дел на Севере сделан не ею. Ее война с Турцией уже приближалась к окончанию, когда Швеция получила новую правительственную форму. От этой перемены и воинственных движений, непосредственно за нею последовавших и продолжающихся без перерыва до сего дня, враг России ободрился и мирные переговоры встретили препятствия, каких не было вначале. Императрица, естественно, должна была обратить внимание на то, что делалось в Швеции, а там велись усиленные приготовления к войне. В России же, наоборот, на северных границах постепенно являются войска, которые и прежде там были, но в последнее время были отправлены на юг вследствие неожиданного объявления турками войны; то же делается и относительно морских сил; и этим ограничиваются все военные распоряжения. Северные границы были обнажены от войска вследствие минутной необходимости, их вовсе не хотели оставить обнаженными, и они не должны были оставаться такими на основании перемены, происшедшей в соседстве. Императрица объявляет, что она не думала и не думает ни о чем Другом, кроме естественной защиты своего государства и своего союзника короля датского, и если шведский король даст торжественные уверения, что он не желает напасть на Россию, ни обеспокоить ее каким бы то ни было образом, и если эти уверения простираются и на Данию, то императрица с своей стороны уверяет короля, что она не имеет ни малейшего намерения напасть на него и желает сохранить мир и дружбу между обоими государствами. Что же касается до предложения о более тесном союзе между Россиею и Швециею, сделанного шведским посланником при русском дворе бароном Риббингом, то это дело откладывается до более спокойного времени, могущего уничтожить возможность всяких перетолковываний».
Когда Остерман прочел этот ответ Шеферу, тот сказал, что лучшего уверения и желать нельзя, и хотя можно было бы сделать много замечаний относительно шведских вооружений, упоминаемых в ответе, но он считает более приличным их оставить. В ноябре сам король наедине сказал Остерману, что единственное его желание – удостоверить императрицу в искренности своей дружбы и для отнятия всякого повода к сомнению в этом он объявляет свое намерение в начале июня месяца будущего года ехать в Финляндию. Нынешний год он отложил эту поездку единственно для избежания разных толков о ее цели, а теперь частным образом открывает свое намерение по случаю этой поездки посетить императрицу и потому спрашивает, получил ли Остерман ответ на его прежний вопрос по этому делу. Остерман отвечал, что король, конечно, припомнит, как он, посол, именем императрицы уверял его, с каким удовольствием она увидит у себя такого дорогого гостя и кровного родственника. «Правда, – сказал Густав, – но так как после того произошли здесь разные приключения, то нет возможности формально повторить прежнее предложение, и потому мне было бы очень приятно, если бы вы сообщили ответ ее и. в-ства моему министерству; и я жажду видеть такую великую, прославляемую во всем свете монархиню и уверить ее лично в моем высокопочитании и миролюбивых чувствах, а потому и желаю получить от ее в-ства приглашение», Екатерина велела Остерману отвечать, что она по-прежнему питает искреннее желание лично познакомиться с королем, своим соседом и близким родственником. Панин по этому случаю писал Остерману: «Приезд его величества был бы нам, конечно, приятнее в то время, когда у нас мир с турками заключен уже будет, нежели при настоящих наших хлопотах; однако ж когда он ныне вторичное оказал желание посетить государыню, то и не позволяет нам благопристойность препятствовать тут исполнению его намерения».
Мы видели, что императрица по отношению к Швеции нисколько не отделила себя от своего союзника датского короля. В самый первый день 1773 года новый русский министр в Копенгагене Симолин самыми блестящими красками (хотя и не блестящим французским языком) описывал отношения России к Дании. «С знанием дела смею уверить в. с-ство, – писал он Панину, – в искренности и ненарушимости чувств всей королевской фамилии и министерства относительно императрицы, ее системы и ее интересов, от которых они решились никогда не отделяться, ибо целость и благосостояние Дании неразлучны с интересами Российской империи. От нашего двора зависит располагать Даниею и всеми ее силами соответственно нашим видам и интересам. Члены королевской фамилии смотрят на Францию, как на животное (les personnes royales regardent la France comme la bеte), и я не упускаю случая укреплять такой взгляд во всех министрах. В. с-ство видите, как настоящее время благоприятно для основания и утверждения русского влияния на Севере, для исключения отсюда французского влияния. Здесь ждут только заявления воли и желаний ее и. в-ства, чтоб вполне с ними сообразоваться и доказать, что приверженность Дании к ней не имеет границ». Но скоро оказались тени в этой блестящей картине. 16 февраля Симолин писал уже о колебаниях министра иностранных дел графа Остена, о его противодействии вооружениям, которые датский двор принимал как для безопасности собственных границ, так и для выполнения союзных обязательств относительно России на случай, если бы шведский король сделал демонстрацию или диверсию против России, чтоб побудить Порту к продолжению войны. В совете, где дело шло о назначении офицеров на эскадру, вооружавшуюся к будущей весне, Остен не ограничился открытым сопротивлением мере, но выбрал потайные пути для достижения своей цели и даже внушал особам королевского дома, что успех в окончательном улажении голштинского дела еще не верен. Эта последняя попытка окончательно повредила Остену в глазах королевы и принца Фридриха, и им стало противно сноситься с ним о делах. Опасно было предоставить такому человеку конференцию с иностранными министрами и внешнюю переписку; трудно было предположить, что его разговоры с французским посланником, продолжающиеся по целым часам, ведутся только о предметах посторонних, о дожде и хорошей погоде, как он утверждал. Уже несколько времени Симолин замечал в Остене какое-то смущение в разговорах с ним, особенно желание избегать с ним разговора или прекращать начавшуюся беседу, когда посланники французский и шведский могли наблюдать за ними. Члены королевского дома чувствовали необходимость его удаления, но кем заменить? Послали за советом в Петербург к графу Панину, но, прежде чем пришел ответ, подозрения против Остена усилились. Прусский посланник барон Арним объявил Остену, что вследствие разнесшегося в Копенгагене слуха, будто прусский король смотрит неравнодушно на датские вооружения, он, Арним, писал об этом своему государю и получил в ответ, что датские вооружения не причиняют ему ни малейшего беспокойства и что он может только одобрять меры предосторожности, принимаемые копенгагенским двором в настоящих обстоятельствах. Принц Фридрих и другие, которым было известно об этом ответе Фридриха II, думали, что Остен непременно объявит о нем в совете, но министр иностранных дел промолчал о таком важном сообщении. Кроме того, пришло донесение датского посланника в Вене об отзыве французского посла там принца Рогана. «Франция и Швеция, – сказал Роган, – покойны насчет расположения копенгагенского двора, потому что в Дании скоро произойдет перемена министерства, выгодная для системы обоих этих государств». Наконец открылось, что Остен держит при дворе шпионом камер-юнкера Триберга, который в то же время находился в подозрительных сношениях с французским посланником маркизом Блоситом. Тогда решили отделаться от Остена, не дожидаясь ответа из Петербурга, и временно поручить иностранные дела тайному советнику Шаку. Когда дано было об этом знать Симолину, тот отвечал, что полагается вполне на благоразумие и проницательность принца Фридриха, тем более что Шак давно уже пользуется расположением русского двора. Потом, извещая о последовавшей уже отставке Остена, Симолин писал, что надобно окончить голштинское дело, ибо этим окончанием Россия завоевывала целое королевство, которого силы и средства будут навсегда в ее распоряжении. Спешить окончанием голштинского дела нужно было уже и потому, что Франция распускала слухи, будто великий князь Павел Петрович никогда не утвердит договора, лишавшего его отцовского владения.
Королева и принц Фридрих выразили Симолину, как им прискорбно, что Шак отказывается от департамента иностранных дел, тогда как это единственный человек, способный занимать это место. Симолин предложил им помедлить королевским назначением другого лица, а тем временем, быть может, Шак привыкнет к своей должности; беда в том, что прошлый год Шак для успокоения Остена объявил ему, что никогда не примет его места; против этого, впрочем, можно найти средство, именно оставить Шака навсегда ad interim, не называя министром иностранных дел. Королева и принц обещали не торопиться. Симолину, как видно, очень хотелось, чтоб голштинское дело кончено было при нем, при его содействии; он вторично написал Панину, что только одно голштинское дело может принудить Шака оставить за собою иностранный департамент: если он увидит, что может кончить его и заслужить этим признательность целого народа, то может уступить настояниям двора и друзей своих.
Шак не тронулся никакими увещаниями; и выбран был в министры иностранных дел граф Бернсторф, племянник покойного министра того же имени; рекомендацией служило то, что Бернсторф был воспитан во вражде ко Франции, в добром расположении к России, был другом Шака, который по-прежнему оставался душою королевского совета. При первом свидании с Симолиным новый министр заявил о своей несокрушимой приверженности к системе русского союза, говоря, что он воспитан в принципах этой системы и все его честолюбие состоит в том, чтоб сделать узы, соединяющие Данию с Россиею, нерасторжимыми. 31 мая приехал к Симолину Шак с радостною вестью, что договор о промене Голштинии на Ольденбург и Дельменгорст подписан в Петербурге. Вслед за тем Симолин сообщал Панину известие, что шведский министр в Копенгагене предложил вдовствующей королеве тесный союз между Швециею и Даниею. Королева отвечала, что дело возможное, если Швеция в то же время склонит к этому союзу и петербургский двор, без которого Дания не может принимать подобных предложений. Швед возразил, что это совершенно невозможно, потому что Россия слишком отдаленна. «Однако, – заметила королева, – Россия – соседка Швеции и по своему положению, могуществу и влиянию способна принимать участие во всех делах Европы, особенно Северной». Этим разговор и кончился.
Но поведение Остена, хотя и кончившееся его низвержением, произвело тревогу в Петербурге: оно доказывало, что Франция вовсе не отказывалась от надежды привлечь Данию на свою сторону, ко потерять союз Дании при известных шведских отношениях было тяжело для России, и потому здесь попытались предложить союз Англии с прежним условием субсидий, но чтоб эти субсидии выплачивались теперь не Швеции, а Дании; сделать это предложение считали тем более нужным, что приходили известия о стараниях Франции сблизиться с Англиею.
Из Лондона Мусин-Пушкин писал, что там с некоторого времени в публичных местах начались рассуждения о честолюбивых замыслах России, о робости Англии, о склонности ее заключить тесный союз с Франциею, о здравой политике, правилам которой следует Пруссия. 20 марта в разговоре с лордом Суффольком Мусин-Пушкин спросил его шутя, когда союзный договор их с Франциею будет подписан. Министр также шутя отвечал, что это дело уже решенное, но потом, приняв серьезный вид, стал обнадеживать Мусина-Пушкина самыми сильными уверениями, что немыслимое Дело для Англии забыть свое положение, когда-либо предпочесть французский союз русскому, к которому обязывают ее самые осязательные интересы, но, чтоб составить решительную систему, надобно иметь полные сведения о дальнейших желаниях императрицы как по турецким, так и по шведским делам. Настоящее согласие Англии с Франциею происходит единственно оттого, что нет ни малейшей причины к какому-нибудь неудовольствию между ними; но это положение нисколько не уничтожает оснований соперничества и недоверия, которые останутся навсегда неодолимыми препятствиями к союзу. Суффольк прибавил, что все это он говорит не от одного своего имени, а от имени короля и министерства. Но по известиям из Парижа и по собственным наблюдениям Мусин-Пушкин пришел к мысли, что существуют какие-то переговоры между Франциею и Англиею. Он сказал об этом Суффольку, и тот, не подтверждая и не отрицая прямо сомнений русского министра, отвечал: «Не удивительно, если при настоящих критических и нимало не определенных обстоятельствах были бы какие-нибудь с французской стороны предложения английскому двору; но я еще не смею о них вам говорить. Благоразумие требует, чтоб вы подождали выводить свои заключения. Молчание графа Панина пред нашим министром Гуннингом служит мне доказательством, что у вас нет еще намерения начать новую войну; а Швеция сама никогда не посмеет подать к ней ни малейшего повода, особенно когда Франция еще не в состоянии подать ей действительной и беспрепятственной помощи и когда Дания своими вооружениями приготовилась немедленно напасть на Швецию».
Между тем в марте месяце Панин в разговоре с Гуннингом упомянул о союзе, который прежде всего необходим для ограждения Дании от французских покушений: если Англия согласится вступить в обязательства с Даниею, то союз ее с Росснею будет необходимым следствием. Гуннинг прямо отвечал ему, что не может донести своему двору об этом предложении, ибо здесь имя Дании стоит вместо имени Швеции, тогда как английское правительство объявило раз навсегда, что никакому государству платить субсидий не будет. Панин спросил, неужели не должно обращать внимания на великую перемену в положении Европы, происшедшую уже после того, как требовались субсидии для Швеции, и неужели не должно обращать внимания на то, что в Швеции своими субсидиями Англия приобретала для себя только одну партию, тогда как теперь она будет иметь в своем распоряжении весь датский флот. По мнению Панина, всеобщая война была недалека, если не будут приняты меры предотвратить ее, причем прежде всего надобно отделить Данию от Швеции, которая одна будет для Франции только слабою союзницей, и когда будет заключен союз между Россиею и Англиею, то обоим государствам нечего будет более бояться интриг Франции. Гуннинг «из уважения к Панину» донес о его словах своему министерству, которое опять только «из личного уважения к Панину» отвечало – впрочем, вовсе не уважительно, а сухо и резко, – что русское предложение противоречит английскому плану, английским решениям, много раз объявленным, и потому не может быть никогда принято. Принять его – это значило бы уступить главную роль тем, которые при заключении союза между Россиею и Англиею должны были бы по необходимости за ними последовать.
В мае сама императрица решилась говорить с Гуннингом о союзе на том же основании, т. е. чтоб прежде Англия заключила субсидный договор с Даниею. Быть может, подозрение, что Панин, в угоду прусскому королю, враждебному Англии, ведет дело не с должною настойчивостью, заставило Екатерину сделать этот шаг, не совсем согласный с представлениями ее о достоинстве русской государыни. «Посмотрим, нельзя ли нам окончить наши скучные переговоры о союзе», – сказала она Гуннингу. Тот отвечал, что дело трудное. «Как же сделать? – продолжала Екатерина, – Дания нуждается в помощи, ваш интерес не менее моего требует оказать ей эту помощь; никакая система для Севера не может быть составлена без нее, она представляет нам случай оказать наш союз». Гуннинг отвечал, что английское министерство непреклонно в своем решении не допускать никакого обязательства в пользу Дании как условия союза с Россиею, что этот союз рассматривается как основание великой системы и надобно прежде всего положить это основание, а потом уже возводить на нем дальнейшие постройки. «Не вижу, – возразила Екатерина, – почему мы не можем сделать этих двух дел вместе или посредством секретной и отдельной статьи, или в двух разных договорах». Посланник отвечал, что прежде что-то подобное предлагалось относительно шведской субсидии и было отвергнуто в Англии. «В таком случае зачем же договор, – сказала Екатерина, – разве в нем не будет никаких условий? Из чего же он будет состоять?» – «Подобно всем оборонительным договорам он будет определять взаимную помощь», – отвечал Гуннинг. «В чем же я найду эту взаимность? – спросила Екатерина. – Вы вследствие сложности своих интересов, торговых и политических, бесконечно более меня подвержены спорам и разрывам с разными державами; у меня только один враг – турки, а вы отказываетесь включить их в случае союза». – «По моему мнению, – отвечал Гуннинг, – Россия имеет столько же врагов, как Великобритания, и хотя наши враги сильны, однако по нашему положению при нападении их мы не очень боимся стать в тягость нашим союзникам». На это Екатерина сказала: «Что же хорошего может выйти из договора такого общего свойства, какая польза будет мне от него?» На этот вопрос Гуннинг отвечал вопросом, полагает ли императрица, что союзный договор России с Англиею не произведет никакого впечатления на большинство европейских кабинетов, не сохранит мира на Балтийском море, и неужели последнее обстоятельство не важно для владений ее величества. Екатерина кончила разговор словами: «Я нахожу, что дела представляются в Лондоне иначе, чем здесь; ни Россия, ни Англия не может, однако, оставаться долго в подобном положении». Но в Англии решили, что лучше остаться в этом положении, и отвечали, что субсидия Дании не может служить основанием союзного договора с Россиею; кроме того, Гуннингу дано было знать, что в договор не может быть внесена гарантия захваченного в Польше (usurpations in Poland) и по-прежнему нападение на Россию со стороны Турции не составляет случая союза.
Было ясно, что безопасность на севере зависела исключительно от хода дел на юге, зависела от успехов Румянцева в 1774 году.
Мы видели, что в самом конце 1773 года Екатерина велела написать Румянцеву рескрипт, чтоб он по взятии Варны и разбитии визиря не останавливался перед Балканами, а шел далее для завоевания мира. Мир был необходим, ибо на востоке надобно было тушить пугачевский пожар. Когда в январе 1774 года Штакельберг из Варшавы переслал константинопольское письмо, где говорилось об ожидании смерти султана, то Екатерина написала Панину: «Почитаю последние чрез Штакельберга из Царяграда здесь приложенные известия такой важности, что мое мнение есть, чтоб оные немедленно сообщены были к графу Румянцеву с таким предписанием, чтоб он по всевозможности старался сей пункт времени сделать полезным, что, по моему рассуждению, быть может, если он не видом, но самым делом приступит к завоеванию Силистрии и Варны, а по завоевании, чего боже дай, визирю предложит о трактовании мира, уполномочивая графа Румянцева к трактованию оного, в какой силе желаю я, чтоб вы заготовить велели к фельдмаршалу рескрипт к моему подписанию, не теряя времени, ибо потерянный подобный случай не возвращается».
Штакельбергово известие оказалось справедливым: султан Мустафа умер, а место его занял брат его Абдул-Гамид. К Румянцеву из Петербурга отправлен рескрипт: «Так как по прежним примерам можно думать, что такая важная перемена произведет какое-нибудь волнение в серале и потому некоторое расстройство в общих политических и военных мерах Порты, то благоразумная прозорливость требует от нас поставить себя как можно скорее в готовность воспользоваться наилучшим образом могущею быть оплошностью неприятеля вследствие перемены правления. От избытка желания нашего содействовать всеми мерами истинной пользе империи, т. е. скорейшему доставлению ей драгоценного мира, препоручаем вам устроить по возможности заблаговременно и без всякой, конечно, огласки достаточный корпус войск таким образом, чтоб он по первому вашему приказу мог немедленно перенестись на противоположный берег Дуная и ударить вдруг или порознь на Силистрию и Варну в таком случае, если бы между неприятельскими войсками начали являться оплошность и расстройство вследствие перемены правительства. Наше соизволение есть, как только оба эти города, если и один из них, захвачены будут нашими войсками, вы, пользуясь ужасом неприятеля, должны предложить визирю от себя возобновление мирных переговоров, но с тем чтоб эти переговоры велись для сокращения времени и отстранения всяких затруднений между вами обоими как главными военными начальниками».
Пришло известие, что новый султан передал все дела в полное заведование великого визиря Муссин-Заде, и в то же время получены были из Вены и Берлина обнадеживания, что Зегелин и Тугут единодушно, оставя всякую между собою личную зависть, будут стараться, чтоб заключение мира было передано визирю, ибо к известному миролюбию последнего должно будет присоединиться желание быть в Константинополе для предупреждения серальских интриг. Екатерина писала Панину: «Постскрипт кн. Кауница, который вам. прочел кн. Лобкович, кажется, так сочинен, что он должен у нас отнять всякое сумнение о двоякости венского двора. Мне пришло на мысли воспользоваться вступлением нового султана: с ним не настоят все те опасения в рассуждении гордости, и других его собственных обстоятельств и чувствований, коих мы опасаться имели в умершем, и для того я думаю, чтоб вы снова кн. Кауница просили, чтоб он готовность нашу к поспешению мира предъявил туркам всякий раз, что они к трактованию оного охоту иметь будут, и что для того к фельдмаршалу снова ныне отправлены как рескрипт, так и полномочие».
При таком нетерпении получить как можно скорее мир, разумеется, должны были смягчить его условия до последней степени; и в заседании Совета 10 марта в присутствии императрицы гр. Панин предложил отказаться от Керчи и Еникале в пользу татар, ограничиться одним Кинбурном и свободным плаванием одних торговых судов, которые в случае нужды могут быть превращены в военные. Все члены Совета согласились, кроме гр. Григория Орлова. Екатерина отложила решение вопроса. В следующее заседание (13 марта) положили не вдруг предъявлять туркам эти условия, но спускаться к ним постепенно ввиду упорства турок и «сущей государственной надобности скорейшего возвращения отечеству тишины и мира». В Петербурге много надеялись на обещание венского двора приказать Тугуту объявить Порте, что, видя упорство ее в принятии русских условий, венский двор находит себя принужденным возвратить русскому двору полученное от него слово относительно Молдавии и Валахии, судьба которых будет теперь зависеть единственно от хода войны. «Даруй боже, – писала императрица Румянцеву, – чтобы руки ваши, лаврами увенчанные, равномерно увенчались и ветвиями мира. Когда дело при помощи божией дойдет у вас до действительного трактования с верховным визирем, тогда откроется сама по себе дорога, которою, применяясь к его мыслям и желаниям, надобно будет начать негоциацию. Мы мним, однако ж, что короче всего будет пойти с пункта, где Бухарестский конгресс остановился, утвердя наперед все те статьи, кои на оном или действительно уже подписаны, или по крайней мере в существе своем одержаны были объявленным согласием рейс-эфенди. Вся трудность замирения стала только на двух пунктах: на уступке России Керчи и Еникале с их уездами да на свободе всякого кораблеплавания по Черному морю. Познав довольно, что турецкое сопротивление в этих обоих пунктах непреодолимо, ибо Порта считает их крайне опасными для самого бытия своего, решились уже мы для возвращения отечеству драгоценного покоя снизойти на ограничение кораблеплавания по Черному мерю и на оставление татарам Керчи и Еникале, если Порта согласится, признав их вольность и независимость, отдать им в полное владение все крепости в Крыму, на Тамане и на Кубани со всею землею от реки Буга по реку Днестр и если уступит нам город Очаков да замок Кинбурнский с окрестностями и степями по Буг-реку. В случае нужды можете требовать только разорения Очакова, а в случае крайней необходимости – оставить туркам Очаков, а себе взять один Кинбург с округом по Буг-реку; плавание по Черному морю выговорить одно торговое».
Визирь, живший в Шумле, прислал за Дунай своего чиновника с письмом к пашам, которые находились в плену у русских. Румянцев с ответными письмами пашей отправил турка назад в Шумлу и с ним своего офицера. Последний возвратился опять с тем же турецким чиновником, который на этот раз привез письма к фельдмаршалу от визиря и рейс-эфенди с приглашением возобновить мирные переговоры. Началась переписка между главнокомандующими об условиях мира, причем немедленно оказалось, что туркам внушено было о затруднительном положении России, которая должна согласиться на все. Визирь уступал один Азов, не хотел слышать об уступке Очакова или Кинбурна; соглашался на плавание русских торговых судов по Черному и Мраморному морям, но конструкция и размеры судов должны быть в точности определены (чтоб они не могли быть обращены в военные). О Крыме говорил в самых неопределенных выражениях, нисколько не соответствовавших русским требованиям; татары будут пользоваться свободою согласно предписаниям магометанского закона, но это ровно ничего не значило.
Панин по этому поводу писал Румянцеву длинное письмо: «С Бухарестского конгресса примечаю уже я, что Порта, говоря о вольности татар, во всех своих отзывах нечувствительно уклоняется присовокуплять к слову вольность слово независимость. Долг общего нашего бдения взыскивает, напротив, не дать ей воспользоваться сею хитрою ухваткою варварской ее политики; почему я в. с-ство сим прилежнейше прошу как во всех ваших во время негоциации отзывах неразлучно везде соединять оба слова вольности и независимости, так и при сочинении и подписании самого мирного трактата неопустительно предостеречь, дабы оные вместе оглавлены и татары именно и точно признаны были областию в политическом и гражданском состоянии никому, кроме единого бога, не подвластны». В Петербурге беспокоились насчет медленности переговоров, подозревали, что визирь нарочно хочет протянуть их, чтоб истомить наше терпение и выторговать для Порты лучшие условия или воспользоваться случаем для испытания военного счастья, кроме того, выждать благоприятной перемены обстоятельств. В этом беспокойстве Панин писал Румянцеву, что «отечеству нашему мир весьма нужен и что мы потому оного с алчностью желать и добиваться должны», и потому требовал, чтоб Румянцев изъяснил визирю, как ошибается он и все министры Порты, если верят наветам завистников мира, будто в России государственные средства истощены вконец и она не в состоянии продолжать войну с прежними успехами. Но если бы и в самом деле средства ее истощились, то Румянцев имеет способ, которого у него не может отнять никакая сила и никакая перемена европейских обстоятельств в пользу Порты; этот способ состоит в том, чтоб превратить войну из наступательной в оборонительную, но прежде все занятые турецкие крепости разорить до основания, города и селения опустошить вконец, а жителей всех с имуществом их отвести в Россию, где еще много пустых и к жизни удобных мест; такое переселение жителей Бессарабии, Молдавии и Валахии будет для России достаточным вознаграждением за все понесенные убытки, а для Порты – самым чувствительным ударом, от которого она не оправится.
Благодаря политической речи короля сейм отправил министрам трех дворов ноту: «Союзные дворы передали польскому министерству изложение оснований, почему они считают себя вправе на известные польские земли. Польское министерство отвечало изложением своих прав на эти земли, прав, основанных на доказательствах очевидных; но так как республика не видит, чтоб на ее ответ было обращено достойное внимание, а между тем три двора не отстают от своих требований, то для Польши необходимо предложить этим самым трем дворам согласиться на принятие дружеского вмешательства держав нейтральных и поручителей в наших договорах для исследования прав и притязаний, дабы три соседних двора не были истцами и судьями в собственном деле». Штакельберг отвечал: «Три двора уже передали польскому министерству изложение своих прав, основанных на доказательствах неопровержимых и ставших еще бесспорнее от недостаточного возражения, сделанного с польской стороны. Подписавшийся не может дать другого ответа, кроме содержания разных деклараций трех соседних держав, а именно 22 января (2 февраля), в которой они определили довольно замечательную алтернативу для Польши: окончательное решение дела к 7 июня или увеличение требования с их стороны. Несмотря на такой язык, решительный и неизменный, подписавшийся видит с печалью и состраданием, что сейм проводит время в пустяках, придирках и спорах о словах; между тем страшный срок приближается и виновники этих замедлений не трепещут. Они должны отвечать на коварный аргумент, что державы не должны быть истцами и судьями в своем деле. Кто виноват, что они наконец принуждены были сами себе оказывать справедливость? Виноват этот дух властолюбия, который, заимствуя все голоса, принимая все формы, возбудил смуту, воспламенил междоусобную войну и произвел кровавую борьбу между Россиею и Портою, продолжавшуюся четыре года. К этим рассуждениям присоединяю последнее: если сейм в 8 дней не назначит уполномоченных для переговоров с министрами трех дворов, то никто не отвечает за следствие».
«Мы, – писал Штакельберг Панину, – выполнили такую трудную задачу, собрали сейм, составили конфедерацию, склонили всю нацию к договору с державами – и все препятствие и замедление встречаем в особе короля!» 26 апреля министры трех дворов отправились к Станиславу-Августу упрашивать его не делать им препятствий, но Штакельберг понапрасну истощал свое красноречие; припев ко всем ответам королевским был один: «Я не могу противиться разделу, но я никогда не позволю сеймовой делегации решать вопроса о моих правах и правительственной форме». Штакельберг объявил, что переговоры о разделе Польши и переговоры о ее внутреннем устройстве нераздельны, что от них зависит спокойствие Европы и король своим сопротивлением может нанести бедствие Польше: назначенный срок пройдет и послы велят двинуться войскам. Тут король распространился о несправедливости и невозможности отнятия у него прав, о дурном правительственном устройстве, которое выйдет делом рук трех дворов, не имеющих понятия о польских законах, и делом нескольких поляков, ему, королю, враждебных. Министры дворов возражали ему, что об его правах еще ни чего не решено, что безурядица в Польше достаточно уяснила для дворов злоупотребления ее правительства и аргумент относительно врагов его неприложим, ибо он может назначить весь Сенат. Все было бесполезно: он вдруг встал со своего места и сказал, что в следующий понедельник будет говорить в последний раз в Сенате. Едва министры трех дворов успели оставить дворец, как по городу уже начали ходить красивые фразы короля. По словам Штакельберга, Станислав целый день расточал перед каждым слезы, трогательные положения и цветы риторики.
27 числа министры трех дворов распустили между поляками слух, что они заняты распоряжениями относительно движения войск, что и было совершенно справедливо; а к ним от двора приходили вести, что король готовится протестовать против всего и что даже намерен отказаться от престола. Эти вести заставляли послов решиться на какое-нибудь сильное средство, но какое именно? Бенуа и Лентулус показывали письма прусского короля, содержавшие приказания употреблять самые крайние средства при малейшем сопротивлении. Но Штакельберг представлял, что личное сопротивление короля не должно еще подвергать гибели целый народ, тем более что это сопротивление не касается раздела. Решено было распространить по городу слухи, что приказания насчет движения войск отданы, и послать русских, австрийских и прусских квартирмейстеров для назначения постоев в знатных домах. Это навело на поляков желанный страх, а появление прусского эскадрона в полумиле от города докончило впечатление.
1 мая в 8 часов утра Штакельберг собрал у себя всех сеймовых депутатов и в присутствии своих товарищей, австрийского и турецкого, постарался объяснить им, как безрассудно было бы с их стороны подвергаться военной экзекуции, тогда как относительно раздела и сам король согласен, упрямится только относительно внутренних вопросов, тогда как ни один из этих вопросов еще не решен и без совещания с ними решен не будет. В то же время по улицам путешествовали два эскадрона пруссаков и два эскадрона австрийцев, которых министры трех дворов ввели в город по условиям, вытребованным Штакельбергом, что они выйдут из Варшавы, как только цель будет достигнута, т. е. как скоро поляки будут напуганы. Вся Варшава была поражена ужасом при виде этих войск. Один король, ободренный своим маленьким советом, состоявшим из любовницы и двоих иностранцев, одного швейцарца и одного француза, вызывал на борьбу три державы, внушая депутатам, что последние хотели ввести аристократическое правление, составленное из 12 тиранов. Приехавши на сейм, король предложил на утверждение большинством голосов свой акт избрания уполномоченных для переговоров с послами; другой акт был составлен самими послами; и королевский отличался от последнего тем, что в нем уполномоченные по внутренним вопросам не могли постановлять окончательно и передавали дела на решение сейму, что вело к проволочке времени. Тут маршал конфедерации Понинский приблизился к трону и представил королю, что ему, маршалу, одному принадлежит право предлагать предметы на решение большинством голосов. Король и его партия не признали этого права. Встал епископ куявский Островский и в сильных выражениях представил королю, чему он подвергает нацию. Многие сенаторы говорили в том же смысле; маленький князь Сульковский, палатин гнезненский, подземная фигура, по выражению Штакельберга, с мужественным красноречием, произведшим сильное впечатление на толпу, обратился к королю со словами, что его величество, сидя на троне, сам не рискует ничем, а подвергает опасности жизнь, честь и собственность сограждан. Сделано было предложение отправить депутацию к министрам трех дворов с просьбою дать еще два дня сроку. Король не согласился и на это предложение, тогда пошли на голоса, и большинство сказалось против короля. Министры трех дворов исполнили просьбу сейма, дали сроку до 3 мая, поручивши депутации передать сейму протест против королевского акта как написанного без соблюдения должного уважения к их дворам.
2 мая союзные министры употребили на обеспечение для себя большинства в палате депутатов и по общему согласию издержали на этот предмет 8000 червонных, В то же время они внушили родственникам короля, что первые следствия исполнения угроз падут, естественно, на них, если они не найдут средства отвратить его величество от упорства, гибельного и бесполезного вместе. Кроме того, министры сочинили декларацию, которая должна была отнять у сейма малейшее сомнение насчет возможности принятия королевского акта. Вельможи представили эту декларацию королю с просьбою уступить и своим упорством не подвергать их верной гибели. Станислав отвечал, что скажет свое мнение Сенату, но, прибыв в собрание, он стал по-прежнему речами и жестами ободрять свою партию, чтоб проводила его акт, причем сам отмечал карандашом голоса. Несмотря, однако, на все его усилия, большинство оказалось за акт, предложенный послами трех держав. Описывая Панину все свои хлопоты по этим делам, Штакельберг жаловался на своих товарищей, преимущественно австрийского барона Ревицкого; это, по его словам, был человек вовсе не способный для такого дела, слабый, легко поддающийся и ленивый; секрет его в руках двоих итальянцев, которые употребляли во зло состояние, в каком бывал посланник после обеда. Бенуа – человек умный и действовал очень согласно с Штакельбергом, но он не имел никакого влияния на поляков.
Король со своей стороны описывал свои хлопоты и свое печальное положение маменьке Жоффрэн: «Клянусь честью, что я не дал ничего и ничего не обещал никому из тех, которые до конца держались моего мнения на сейме. 100000 иностранцев жестоко опустошают Польшу, особенно притесняют тех, которые не угождают им. Три министра роздали много денег на сейме. Иностранцы видели, что. есть люди честные к мужественные в стране, ибо почти половина сейма устояла против их золота и против их силы. Но, увы, к чему все это служит, когда нет ни денег, ни войска! На другой день после решения этого несчастного дела мне сказали: „Если бы вы получили большинство, то вы перестали бы быть королем и остальная Польша была бы поделена между нами“. Король прусский имеет это постоянно в виду. Теперь, несмотря на то что три двора взяли все, чего хотели, их войска продолжают жить в Польше, кормиться даром на ее счет. Русский министр обещает, что это скоро кончится, австрийский также ласкает надеждою, прусский не делает и этого. Его государь, кажется, занят придумыванием средств заставить своих союзников согласиться, чтоб он взял у нас еще больше земель. Император, кажется, считает себя обязанным делать нам столько же зла, как и прусский король, а русская императрица так занята турком, что не может помешать прусскому королю вредить нам. С 14 мая я совершенно завишу от милости трех дворов. Я умираю с голоду; вооружаются против всего, что мне наиболее дорого. Несмотря на то, надобно показывать наружное спокойствие, исполнять с некоторого рода достоинством худшую из ролей и думать, что может быть еще хуже, и стараться отвратить это худшее от государства, сберечь несколько зерен, которые могут прозябнуть при более благоприятной погоде».
8 мая назначены были уполномоченные для переговоров с министрами трех дворов; король назначил всех сенаторов, находившихся налицо; маршалы назначили 60 человек шляхты, что составило всего 100 человек. Когда все таким образом было улажено, открылось препятствие к начатию переговоров, и не со стороны поляков, которые, напротив, теперь торопили делом, Ревицкий не получал от своего двора никаких инструкций, и по городу пошли самые чудовищные слухи о причинах такой медленности. Наконец бумаги пришли, и переговоры начались 22 мая; а на другой день Штакельберг опять жаловался на Ревицкого: «Это человек добрый, мой друг и который во всем следовал за мною, но он не только сам держит сторону короля, но, как кажется, склоняет туда же и двор свой. Я не подозреваю, чтоб он был подкуплен, ибо считаю его честным человеком, но мне кажется, что король обещал следовать идеям императрицы-королевы относительно религии и что Ревицкий вошел в этот план посредством нунция. Решено, что диссиденты никогда не получат участия в законодательстве». Штакельберг думал, что Ревицкий по собственному побуждению держал сторону короля и склонял к тому же свой двор, тогда как, наоборот, он действовал по инструкциям своего двора, которые предписывали ему стараться об усилении королевской власти, о возможном ограничении «liberum veto», чтоб Польша могла поддержать значение посредствующего государства между Россиею, Пруссиею и Австриею (puissance intermйdiaire). Скоро Штакельберг должен был жаловаться на обоих своих товарищей. Ревицкий объявил, что границы прусской доли, представленные Бенуа, явно не согласны с конвенциею трех дворов, и потому он не знает, удержит ли его двор свой первый план; но на карте самого Ревицкого оказалась пограничною река Подгурже, которая была неизвестна, и с австрийской стороны предполагалось, что под нею надобно разуметь реку Сбруч. Ревицкий объявил, что не может продолжать переговоры как вследствие прусской карты, так и вследствие того, что еще не получил из Вены оригинала своих полномочий, а только копии да не приезжал еще инженер с верною картою. Штакельберг бросился к Бенуа, не может ли он упросить своего короля, чтоб позволил внести в договор общие выражения конвенции, объяснение же их произойдет на месте посредством комиссаров, ибо объяснение королевское останавливает все дело. Бенуа отвечал, что не только решение его короля непоколебимо и в присланной карте никакого изменения не будет, но если австрийцы примут Сбруч границею, то прусский король не удовольствуется своею настоящею долей. Дело затягивалось, а поляки, и согласные на все, выходили из терпения при виде совершенного разорения. Пруссаки заставляли давать себе съестные припасы и фураж на 30000 человек, тогда как их было всего 5000. Штакельберг писал в Берлин кн. Долгорукому, прося представить прусскому министерству, что русские войска платят за все и что между тремя дворами постановлено платить за припасы и фураж, как только поляки станут сообразоваться с желаниями союзников. Долгорукий отвечал, что король намерен сообразоваться с решением двух императорских дворов на этот счет и что Бенуа получит указы в этом смысле. Так как Ревицкий получил от своего двора приказание платить за все, то оставалось только всем троим согласиться поступать одинаково; но Бенуа постоянно уклонялся от этого решения, хотя, по словам Штакельберга, он первый был оскорблен варварством, с каким прусские офицеры поступали в Польше. Штакельберг высказывал убеждение, что если не будет постановлено, чтобы австрийцы и пруссаки платили за все потребляемое ими в Польше, то никакая сила на свете не может заставить их выйти из этой страны – такова расчетливость, Царствующая в Вене и Берлине.
По этому поводу Панин прислал Штакельбергу наставления: «Всякий раз, как прусский министр будет предлагать употребление силы и вам будет казаться, что есть еще другие средства, сдерживайте его стремления и принимайте сие мнение, только когда крайность заставит. Говорите с ним обо всем, что явится чрезмерным и слишком вопиющим в поведении прусских войск, но говорите как приятель с приятелем, как министр с министром, не давая вида, что ваш двор тут вмешивается; представьте ему, что кратковременная выгода кормить свое войско в чужой земле нейдет в сравнение с необходимостью вывести Европу из кризиса, в котором она находится. Но прямее вы можете вооружиться против равнодушия Ревицкого относительно внутренних дел. Если он действует вяло вследствие религиозного вопроса, то вы можете ему сказать, что при самом вступлении в переговоры с его двором последнему было сообщено все, чего желалось для диссидентов; что после не только не потребовалось ничего больше, но вам еще велено, не требовать уничтожения уголовного закона против отступничества, также не требовать смешанного суда, который уже не может более существовать в прежней форме вследствие присоединения Могилева к русским владениям, и потому можно будет его заменить чем нибудь другим по соглашению обеих сторон. Так как религия католическая в Польше сохраняет блеск и превосходство, какими она не пользуется в Германии, то ничто не может затрагивать венский двор ни со стороны совести, ни со стороны достоинства».
Относительно продовольствия войск три министра согласились наконец, что все будут платить с 1 июля. Но до тех пор прусский и австрийский генералы настояли, чтоб доимка была непременно выплачена; и при взыскании доимки австрийский генерал превзошел прусского, так что поляки называли русских ангелами, пруссаков – копиями с человечества, австрийцев же – дьяволами.
Только в половине июля по внушениям из Петербурга берлинский и венский дворы согласились внести в свои договоры с Польшею насчет раздела собственные слова конвенции, не толкуя ни о каких реках и речках, которые, по выражению Штакельберга, прямо привели бы их к Варшаве, ибо когда в Вене указывали какую-нибудь пограничную реку, то в Берлине говорили, что австрийцы идут слишком далеко и мы также пойдем дальше.
Когда в августе месяце дело дошло до переговоров сеймовых уполномоченных, или так называемой делегации, с Штакельбергом, то делегация подала ему письменно заметку (remarque): «Ваше пр-ство получили в свое время королевский ответ на претензию императрицы относительно Польши. Петербургская конвенция между тремя державами, решающими нашу судьбу без нашего участия, быть может, не позволяет обратить на этот ответ должного внимания, и единственная причина такого поступка заключается в слабости короля и республики, которая принуждает нас подчиниться участи, нам приготовленной. Однако делегация не может себе представить, чтоб соседние и союзные государства не приняли во внимание право короля и республики, основанное на всех самых священных законах божественных и человеческих. Польша особенно надеялась на императрицу всероссийскую, которая подобно своим предшественникам особенно интересовалась благосостоянием Польши и уверяла, что ни сама не захватит, ни другим не позволит захватить что-либо из владений республики; и хотя она теперь поступает совершенно иначе, однако мы не отчаиваемся, что она примет наши представления, тем более что республика не имела намерения нарушать древней дружбы и союза с Россиею». Штакельберг отвечал: «Польша имела право основывать свои надежды на ее и. в-стве. Эти надежды были оправданы самым искренним и самым бескорыстным участием, которое императрица с самого восшествия своего на престол оказывала Польше. Но какое было следствие дружбы, продолжавшейся так долго и купленной такими большими пожертвованиями? С прискорбием обращаю я взоры делегации на страшную картину смут и опустошений ее отечества. Что сталось бы с Польшею, жертвою корыстолюбия, частного интереса и честолюбия, прикрытых фантомом свободы, которую предполагали в опасности от гарантии, принятой Россиею для сохранения этой самой свободы? Что сталось бы с Польшею, если бы Россия из чувства справедливой мести покинула ее в ее судорогах, которые непременно привели бы ее к погибели? Несмотря на кровопролитнейшую войну с турками, которую Польша возбудила, Россия не переставала предотвращать совершенное разложение республики, бороться в продолжение многих лет с неблагодарностию и соединенными усилиями тех, которые нарочно смутили отечество, чтоб властвовать в нем и притеснять его. Половина Польши вела войну с императрицею, и правительство одобряло это своим бездействием. Голос благонамеренных граждан не имел силы, равно как и представления русских послов. При страшном столкновении интересов держав не останавливаются на метафизике множества доказательств, служащих всегда для прикрашивания тайных расположений. Судят по делам, а не по словам. События, мною указанные, говорят громко, и мне нечего распространяться в возражениях против того, будто республика вовсе не хотела нарушать старинной дружбы и союза, существовавших между нею и Россиею. Достаточно того, что императрица искренно желает их возобновления; но неоспоримые права на известные области, права, находящиеся в изложении моего двора, не потерпят никакого возражения. Я уже не говорю о правах на увеличение справедливых требований со стороны России, правах требовать вознаграждения за тяжкую войну, возбужденную против России Польшею».
Во время чтения этого ответа в делегации Островский, епископ куявский, объявил с большим жаром, что надобно остановить чтение и прежде всего спросить русского министра, кто эти люди, которых он обвиняет в погибели Польши. «Всякий верный гражданин должен оправдаться в глазах отечества, – говорил Островский. – Горе тем, которые были орудиями его бедствий. Наша обязанность употребить последние усилия, чтоб узнать их имена. Если я виноват, накажите меня первого за преступление, постыдное для того, кто имел его совершить, а еще более постыдное для нации, если она позабудет отмстить за него. Если я виноват, то пусть меня первого бросят в Вислу!» Энтузиазм Островского быстро сообщился всему собранию, и все начали заявлять свою любовь к отечеству, свою ревность к свободе и свою живую признательность к русскому двору за его попечения и покровительство, которые он во все времена оказывал Польше; слышались сильные выходки протих тех, которые воспрепятствовали добрым намерениям России, слышалось громкое прославление Великой Екатерины. Князь Антон Сульковский, депутат ломжинский, поддерживаемый князем Мартыном Любомирским, депутатом сендомирским, и всею шляхтою, предложил представить именем всего собрания ноту барону Штакельбергу, в которой просить его назвать виновных. Собрание согласилось, нота была представлена, и Штакельберг отвечал: «Очевидная правота поступков императрицы, моей государыни, должна была, естественно, поразить большую часть членов знаменитой делегации. Я вполне сочувствую жару, с каким она желает открыть виновников толиких зол. Но я, так как и два других министра, имеем приказание не заниматься никаким делом до окончания главного, для которого созван сейм. Как скоро все три договора будут подписаны, я не буду противиться исследованию поведения тех, которые разорвали священные узы, соединявшие Россию с Польшею, и которые отвергали все предложения императрицы относительно умиротворения».
Волнения, возбужденные речью Островского, страшно напугали старика Чарторыйского, канцлера литовского. Он побледнел, когда епископ произнес слова: «Если я виноват, то пусть бросят меня в Вислу!» Чарторыйскому показалось, что ему прежде всех придется испытать это купанье. Фамилия должна была вытерпеть унижение, выслушивая молча упреки и угрозы. Слышались голоса, что если злоумышленникам на жизнь королевскую будут рубить головы и руки, то было бы несправедливо щадить убийц отечества. Штакельберг хвалился Панину, что его ответ на ноту делегации, не останавливая переговоров, напугал врагов России. На другой день он имел свидание с королем, которого нашел в большом замешательстве. Штакельберг сказал ему, что он может воспользоваться обстоятельствами начать быть королем, перестав быть племянником. Король, однако, кончил разговор просьбою спасти его родственников. Штакельберг отвечал, что, быть может, это не в его уже власти, но постарается по крайней мере не компрометировать его, короля, если он хочет обеспечить дело от всякой дальнейшей интриги.
Но оставалось еще трудное дело, старое диссидентское дело. Диссиденты передали Штакельбергу просьбу к императрице: «Так как настоящий сейм должен решить и утвердить навсегда судьбу диссидентов в Польше, то мы осмеливаемся умолять о могущественном покровительстве в. и. в-ства. Наши противники, руководствуемые фанатизмом и политикою, стараются теперь более, чем когда-либо, нанести нам смертельный удар и лишить некатолическое римское дворянство, привязанное к интересам в. и. в-ства, всех прав и преимуществ, связанных с происхождением, которые одни характеризуют дворян и служат единственными средствами их сохранения в республике. Только уверенность в высочайшем покровительстве в. и. в-ства и торжественное ручательство, которое вы удостоили дать договору 1768 года, внушили нам твердость и способность претерпеть все бедствия и гонения, обрушившиеся на нас во время смут: мы жертвовали всем нашим имуществом, а многие из нас и жизнею, но не сделали ни малейшего шага, могшего навести подозрение в неблагодарности к нашей августейшей благодетельнице. После этого нам не позволительно предполагать, чтобы государыня, которой великодушие, благотворительность и мудрость составляют предмет удивления для всей Европы, захотела покинуть ту часть польского дворянства, которая боролась за правду своего дела не иначе как под высоким покровительством в. и. в-ства. Но теперь это дворянство, ненавидимое за то только, что прибегло под сень трона в. и. в-ства, хотят лишить навсегда права участвовать в законодательстве, права, которое одно может обеспечить нам свободное исповедание нашей религии и все другие преимущества, отличающие благородного гражданина». Пересылая эту просьбу, Штакельберг писал Панину: «У меня пет ни малейшего луча надежды успеть в том, чтоб диссиденты получили право быть сеймовыми депутатами, и я осмеливаюсь сказать наперед, что этот пункт невозможен. Кроме фанатизма нации, участие в этом деле венского двора, которого взгляд на дело известен, не обещает ничего утешительного для диссидентов. Папский нунций, хотя друг человечества и мира, не станет молчать: его место, характер, предмет его посольства принудят его говорить: и достаточно ему произнести слово, чтоб снова воспламенить всю нацию». Тогда же делегация подала Штакельбергу жалобу, что агенты переяславского епископа преследуют униатов, пользуясь пребыванием русских войск в польских областях, отнимают у них церкви и проч.
Панин, у которого Штакельберг просил наставлений, писал ему: «По конституции 1768 года Диссидентам должно было возвратить отнятые у них церкви, и если некоторые действительно возвращены, то их немного в сравнении с теми, которые еще находятся в руках католиков и униатов. В настоящих обстоятельствах всего лучше для нас и для делегации затушить это дело, которое может только снова поднять фанатизм в народе, уже причинивший столько смут. Мы не можем согласиться на уничтожение того, что было сделано во исполнение договора, с нами заключенного; не можем согласиться, чтоб люди, которым мы покровительствовали с таким усилием, были отданы в жертву их прежним гонителям. Фельдмаршал Румянцев пишет, что все жалобы на греков (т. е. на православных русских) преувеличены, и если мы с нашей стороны будем верить так же легко всем жалобам наших, то представим такие же важные и многочисленные известия. Что сделано относительно возвращения церквей православным, должно остаться, а для сохранения порядка и спокойствия должна быть назначена смешанная комиссия. Что касается вообще диссидентов, это очень печально, что вы теряете надежду удержать за ними участие в сеймах, тем более что от этого пункта вам нельзя отступить; и повеления императрицы, которые я вам повторяю, точны: потребуйте помощи от своих товарищей, употребите все усилия в борьбе с национальным сопротивлением и не позволяйте себе останавливаться ни пред каким затруднением. Вы можете сделать одну уступку: согласиться на ограничение числа диссидентов, избираемых на сейм, и на умолчание о необходимости их избрания; от этого произойдет, что право их не будет действительным или будет малодействительным, но по крайней мере оно будет сохранено. Если и этого нельзя будет достигнуть, объявите, что вы вовсе не хотите слышать о диссидентском деле и что вам запрещено принимать участие в чем бы то ни было его касающемся. Исключение диссидентов из законодательства, провозглашенное на сейме под ауспициями трех дворов, будет для них ударом более гибельным, чем все прежние конституции, отнимавшие у них право за правом; и ее и. в-ство, отказавшаяся из любви к миру от требования для них мест в Сенате и министерстве, не изменит правосудию и своей славе, подписывая их гибель и покидая их совершенно».
Панин требовал от Штакельберга, чтоб он обратился к своим товарищам за помощью в диссидентском деле; и Штакельберг ему писал, что как скоро переговоры об уступке земель были окончены и надобно было приступить к решению внутренних вопросов, то согласие между министрами трех союзных дворов рушилось. Бенуа продолжал действовать согласно со Штакельбергом, но барон Ревицкий вдруг переменил язык, позабыл систему, которая была принята дворами для успокоения Польши; он прямо объявил, что его двор удивляется уменьшению королевской власти. Легко понять, как это ободрило короля и его партию. Король отказывался от права назначать прямо на сенаторские и министерские места, соглашался, чтоб Постоянный совет предлагал ему троих кандидатов, из которых он будет избирать одного, но за это он требовал права назначать всех офицеров главного штаба и гвардии и начальства над гвардейскими полками, т. е. требовал права быть хозяином всего войска. Штакельберг удивлялся, как Станислав-Август не понимал, до какой степени он усиливал побуждения уменьшать его власть, открывая в своих требованиях ясно виды на господство и особенно обнаруживая план подражать при первом удобном случае королю шведскому. Члены нашей партии, по выражению Штакельберга, просили его учредить для короля новую гвардию, а не оставлять в его распоряжении старую, посредством которой он может когда-нибудь произвести революцию. Штакельбергу удалось уговорить своих товарищей предложить королю следующие условия: если король откажется от назначения военных должностей главного штаба, подчинив их порядку старшинства, и откажется от командования гвардиею республики, то для него будет учреждена личная гвардия, которою он будет располагать совершенно и которая будет на содержании республики. Если король откажется от назначения на должности судебные и доходные, то ему будет предоставлено избрание из трех кандидатов, представляемых Постоянным советом, как на должности епископов и сенаторов, так и на должности государственных министров и министров при дворах иностранных. Постоянный совет избирает кандидатов тайною баллотировкою, а сами члены Постоянного совета избираются таким же образом на сейме; король должен отказаться от раздачи староств. После переговоров с королем эти условия были изложены так: у короля остается право назначать на все должности церковные и гражданские, кроме епископов, воевод, кастелянов, министров и военных и финансовых комиссаров: все эти лица избираются им из трех кандидатов, прежде избранных Постоянным советом посредством тайной баллотировки. В войске король назначает офицеров в польских дружинах и в четырех пехотных дружинах, носящих его имя. В остальном войске офицеры назначаются по старшинству. Король отказывается от права раздавать королевские имения, доходы с которых обращаются на государственные нужды. Сейм назначит членов Постоянного совета тайною баллотировкой, но теперь на первый раз король согласится с министрами трех союзных дворов относительно назначения сенаторов, министров и шляхты, которые должны войти в Постоянный совет; четыре гвардейских полка будут под властью государства, как они были при Августе III, с тем только различием, что тогда гетманы сосредоточивали в своих руках всю власть, а теперь они разделяют ее с военною комиссией и гетманы вместе с комиссиею будут подчинены Постоянному совету. Королю будет выдаваться ежегодная сумма на содержание двухтысячного отряда войска, которым он располагает, как ему угодно.
Эти условия были выработаны королем и Штакельбергом вдвоем; Станислав-Август просил, чтоб министры австрийский и прусский тут не участвовали, на что они охотно согласились, чтоб избавиться от такого неприятного занятия. По окончании дела король прислал Штакельбергу письмо: «Вы были орудием жестокого жертвоприношения, где я был невинно заклан. Вы видели всю горечь моего страдания. Без сомнения, вы мне сострадали, вы должны желать доставить мне лекарство и облегчение. Но этого не будет, если императрица не возвратит мне своей дружбы. Умоляю, содействуйте этому. Я так и так давно несчастен, что наконец она должна быть тронута. Этот последний удар пронзил мне сердце, потому что нарушает мое достоинство и потому что направлен прямо ею, ею, против которой сердце мое ни в чем не винно. Но наконец, если бы даже она предполагала эту виновность, то я искупил это пагубное предположение, думаю, достаточно дорого». Следствием была записка Екатерины Панину: «Что касается короля и его брата, прошу вас придумать, что можно для них сделать. Прежде всего я сама охотно отдам и уговорю два другие двора отдать королю, что ему следовало до раздела; мне кажется, что граф Чернышев имел приказание составить этому счет; я потороплю его».
Варшавские события, разумеется, должны были вести к деятельным сношениям между участвующими в разделе державами; дела на Дунае продолжали находиться в тесной связи с польскими; Россия продолжала требовать у своих союзников помощи для скорейшего заключения мира с Портою.
9 февраля (н. с.) Фридрих II писал Сольмсу: «Известия о мирных переговорах в Бухаресте сильно меня беспокоят, боюсь, что конгресс уже разорвался. Упорство оттоманского уполномоченного должно приписывать французским интригам. Между тем я исполню сколько можно лучше поручение графа Панина, и, хотя я не нахожусь в непосредственной переписке с императором, Панин может быть уверен, что я передам его и. в-ству увещание, чтоб он дал точные приказания Тугуту действовать с большим жаром при Порте в пользу мира. Боюсь одного, и не без основания, что это средство придет слишком поздно, после разрыва конгресса. Если это случится, то вспомните проект венского двора, который я вам вверил, как прошлым годом я был в Силезии: этот двор сильно желает приобрести турецкие земли со стороны Венгрии и с этой целью вступить в союз с Россиею против турок. Если переговоры прервутся, знайте наверное, что венский двор употребит все усилия для проведения этого проекта, который лежит на сердце у императора. Между тем на наших переговорах в Польше сильно отзовется разрыв конгресса и мы встретим гораздо больше трудностей, чем когда бы мир был близок к заключению; я не знаю другого средства преодолеть эти затруднения, как принудивши поляков утвердить все наши требования». Это писалось для сообщения петербургскому двору; теперь послушаем, что Фридрих говорил фон-Свитену для сообщения в Вену. Разговор происходил 20 февраля (н. с.). «Известия из Константинополя, – начал король, – не подают надежды на мир. Турки никак не хотят уступить двух крепостей в Крыму (Керчи и Еникале); турки объявили, что уступка этих крепостей грозит опасностью Константинополю; они предпочитают продолжать войну, хотя бы это повело к разрушению столицы и всей империи, ибо все равно беда неизбежная через тридцать лет. С другой стороны, русские объявили, что без уступки двух крепостей в Крыму не хотят слышать о Крыме; и я жду скорого известия о разрыве Бухарестского конгресса. Турки сами. этого ждут и приготовляются, собирают войска сколько можно более. Я очень недоволен всем этим, потому что не вижу средств помочь делу». Фон-Свитен: «Но нельзя ли надеяться, что петербургский двор, который должен желать прекращения войны, сбавит свои требования, видя, что Порта решилась всем рисковать, а не подчиниться им». Король: «Нет, эти люди упоены своим счастьем; верно, что так же трудно управлять счастием, как и несчастьем. В упоении успехами они постановили самые тяжкие условия для Порты; теперь они и видят, что перешли меру, но не хотят отступить назад, считая это для себя унизительным, и они будут принуждены продолжать войну, потому что слишком много запросили; будут еще по крайней мере две кампании, которые, по-моему, не представляют для них ничего выгодного: они овладели всем на этом берегу Дуная, им не остается ничего больше здесь делать. Было бы очень опасно перенести оружие за эту реку, ибо было бы очень трудно поддерживать необходимые сообщения: на это надобно было бы употребить большую. часть армии, и остальная, которая переправилась бы за Дунай, не могла бы по своей малочисленности действовать с успехом, ибо набеги, если бы даже и простирались до Адрианополя и дальше, не решат ничего. Впрочем, несмотря на доброе согласие, существующее теперь между вашим и петербургским двором, я не знаю, очень ли вам понравится переход русских за Дунай? По крайней мере нужно было бы им прежде условиться с вами. Мне сообщили из Петербурга другой проект, и я очень советовал не приводить его в исполнение: это опустошить Молдавию и Валахию, все пожечь, забравши всех жителей, сделать из двух стран совершенную пустыню и отодвинуть войско на польские границы за Днестр, оставив 20000 или 30000 в Татарии. Этот проект совершенно противен человеколюбию, слишком отвратителен и в то же время может сделаться опасным, ибо, несмотря на опустошение, турки могут приблизиться к Польше, где поднимут сильное волнение, а нам нужно их держать подальше для успеха наших намерений. Я вижу одно средство помочь делу: это если Россия потребует вашей помощи против турок и согласится, чтобы вы взяли Боснию и Сербию. В таком случае война не будет продолжительна и вы не останетесь без барыша».
Фон-Свитен обещал донести об этом предложении своему двору и писал Кауницу, что, без всякого сомнения, тут скрываются гораздо обширнейшие замыслы прусского короля, именно дальнейшее расширение своих владений. Фон-Свитен предлагал свою догадку, что Фридрих хочет вмешаться в войну России со Швециею и приобрести шведскую Померанию, а чтоб Австрия не мешала этому, занять ее в Турции, где она может также сделать приобретения. Но австрийский посланник посмотрел не в ту сторону: Фридриху прежде всего желалось получить Данциг и Торн, и, чтоб Россия и Австрия согласились на это, он указывал им на приобретения в Турции, получить которые они могли, только предварительно отдавши ему всю Вислу. Прежде он не желал, чтоб Австрия приобрела земли от Турции, ибо прежде всего хотел совокупного действия трех держав в Польше, но теперь это совокупное действие завершилось по его желанию и он думал об одном: как бы добыть Данциг и Торн, без чего польское дело являлось для него неоконченным.
Чтобы Австрия не боялась Франции, когда станет увеличиваться на счет Турции, Фридрих говорил фон-Свитену: «Французы в бешенстве, но у них нет силы, и потому они переменили львиную кожу на лисью и пытаются всеми средствами нас разъединить. Знаете ли, что они предложили в Петербурге доставить России мир с турками, если там согласятся дать им волю работать в Константинополе; но их хитрости не удадутся, я за это отвечаю. Впрочем, их нечего бояться, они не в состоянии вести войну; правда, что они могут надеяться на испанские субсидии, но этот источник недостаточен: война, которая ведется на чужой кошелек, на милостыню, не может быть ни энергична, ни продолжительна; притом я знаю наверное, что король ненавидит самое имя войны; и министр, который ее ему предложит, несомненно, потеряет свое место; а вы знаете, что во Франции, как в некоторых других странах, министры любят больше свои места, чем государство».
Из Вены отвечали отказом вести дело в Турции вместе с Россиею, искать себе с оружием в руках приобретений, тогда как не было известно, какие приобретения прусский король захочет приобрести даром; в Вене Фридрих II имел отличных учеников, которые, следуя по стопам учителя, также намерены были приобрести от Турции кое-что даром. Получивши на свое предложение отрицательный ответ, Фридрих затронул другую сторону. «Однако, – сказал он фон-Свитену, – надобно ожидать со дня на день разрыва бухарестских конференций, и если война продолжится, то надобно же принять какое-нибудь решение, что тогда делать. Россия объявляет, что если мир не состоится, то она не будет более держаться предложенных условий, именно возвращения Молдавии и Валахии». – «Вы знаете, государь, – отвечал фон-Свитен, – что мы бы принуждены были сделать, если бы Россия пожелала сохранить Молдавию и Валахию, и вы из этого можете заключить, что мы принуждены будем сделать, если те же обстоятельства повторятся».
Фридрих понял дело так, что Австрия не хочет объявить себя против Турции из опасения Франции. «Чего вы боитесь французов?» – спросил он фон-Свитена. «Мы боимся, – отвечал тот, – верной потери наших областей на Рейне, в Италии, Нидерландах, которых мы не могли бы защищать». – «Но разве я не союзник ваш в этой всеобщей войне?» – возразил король. «Вашему в-ству достаточно будет промышлять о самих себе», – отвечал фон-Свитен. «Но почему вы верите в возможность этого всеобщего союза против нас?» – спросил опять король. «Мы не должны предполагать эту возможность, – отвечал фон-Свитен, – вследствие общего волнения и зависти, произведенных в целой Европе нашим раздельным договором и нашим союзом. Страх родил подозрения и преувеличенные опасения. Если увидят, что наш союз ограничивается разделом Польши, которому уже нельзя воспрепятствовать, волнение прекратится, подозрения и опасения исчезнут и можно надеяться сохранения всеобщего спокойствия; но если увидят в нашем союзе с русскими против турок осуществление именно тех опасных последствий, каких боялись, то нет сомнения, что вся Европа соединится против трех дворов, против обширных замыслов, которые по справедливости у них заподозрит». – «Эта опасность исчезнет, – отвечал король, – если мы еще теснее соединимся; и вот почему я бы так желал, чтобы наш тройной союз был заключен: тогда мы будем господами мира и войны; и это будет верное средство осуществить проект аббата С. Пьера» (о вечном мире).
Что Фридриху вовсе не хотелось никакой войны, а тем менее шведской, видно из его письма к Сольмсу от 24 апреля: «Если я вам говорил о подозрениях насчет интриг Дюрана и непозволительных связей, какие он мог иметь при русском дворе, то я делал это на основании моих писем из Парижа, что там хвастаются существенными услугами, оказанными Дюраном своему двору; слухи о неудовольствиях между императрицею и великим князем, о решенном удалении графа Панина и будущей революции в России вообще распространены в Версале. Что касается ваших известий, что Дюран дал знать своему двору о кронштадтских укреплениях и дурном состоянии русского флота, то Франция может воспользоваться такими известиями для воспламенения огня юности моего племянника, короля шведского. Она может воспользоваться этими анекдотами и убедить Густава III, что настоящие обстоятельства самые благоприятные для разрыва с Россиею. Так как я был бы очень огорчен, если б мои родственники ввели в новые затруднения мою союзницу, то я думал о средствах, как бы предохранить ее от этих неприятностей, и вот что придумал. Предположив, что разрыв со Швециею неизбежен и Швеция действительно нападет на Россию, последняя может рассчитывать, что я с точностью выполню мои союзнические обязательства. Но быть может, есть средство предотвратить бурю? Единственное разумное средство, которое Франция может употребить для принуждения шведского короля к разрыву, – это внушение, что Россия непременно замышляет какой-нибудь удар для восстановления прежней формы правления и гораздо выгоднее для него ее предупредить и напасть на нее во время турецкой войны, а не дожидаться мира, когда Россия, имея свободные руки, обратит все свои силы против него. Этот аргумент кажется мне очень естественным и способным произвести впечатление на шведского короля. Чтобы заставить Францию замолчать и предупредить следствия ее верных внушений, я не нахожу другого средства, как объясниться дружески со шведским королем или непосредственно, или чрез меня».
Из Петербурга королю давали знать, что в случае разрыва Бухарестского конгресса русские войска перейдут Дунай. По этому поводу Фридрих писал Сольмсу 1 мая: «Не скрою от вас, что переход через Дунай с целой армией фельдмаршала Румянцева кажется мне очень опасным и трудным. Русская армия будет подвержена тут тысяче случайностей, не говоря о трудностях при доставлении съестных припасов и оружия. Обратив внимание на ширину этой реки, понимаешь затруднения, какие встретит армия в случае, если испытает малейшую неудачу и будет принуждена отступать по той же реке. Осада Очакова, кажется мне, была бы естественна и не так опасна. Кампания нынешнего года потребует от фельдмаршала Румянцева гораздо более благоразумия и осторожности, чем предыдущие». Получив известие о разрыве Бухарестского конгресса, Фридрих писал: «Очень печально, что бухарестские переговоры опять не удались. Я имею основания предполагать, что если бы венский двор употребил более твердости в своих внушениях Порте, то переговоры, конечно, имели бы более успеха. Сколько я могу заключить из всех моих известий, венский двор, сохраняя еще слишком много прежнего уважения к Франции, не имел духа сделать более сильные представления в Константинополе». Но Фридрих противоречил самому себе. Что-нибудь одно: или Австрия не хотела настаивать на мире по отношениям к Франции, или по другим расчетам, желая воспользоваться предложением войны для своих целей. Так, Фридрих в депеше 25 мая опять возвращается к этому объяснению: «Кауниц желал выдвинуть всевозможные затруднения, чтоб заставить Россию нуждаться в помощи венского двора и продать эту помощь самою дорогою ценою». В августе гр. Иван Чернышев имел в Потсдаме длинный разговор с Фридрихом II, который рассказывал ему о своих отношениях к разным державам. Об англичанах он никак не мог говорить равнодушно, он упрекал их в том, что тайком от него заключили последний мир с Франциею, не выговорив занятых французами его земель, и заставили его отбирать эти земли оружием. Но всего обиднее было для него то, что они предлагали Кауницу союз и помощь для отнятия у Пруссии Силезии и старались охладить к нему императора Петра III. «Теперь, – говорил король, – мне нет никакой нужды входить с ними в союз; я доволен союзом с Россиею и ни в ком больше нужды не имею. Россия в другом положении и может иметь свои причины быть с Англиею в соглашении или союзе; тогда по России и я буду с нею в некоторой связи. При втором свидании моем с императором был там и Кауниц; и тот об англичанах имеет одинокое мнение со мною: считает их не очень верными союзниками, чему в пример приводил поступок их с австрийцами во время Ахенского мира». Потом Фридрих начал говорить о дружественных отношениях своих к императрице Екатерине и России и как будто бы стыдился своей попытки еще порасширить свои границы на счет Польши, говорил сквозь зубы: «Вообще принято: когда реку отдают, то разумеется верховье; императрица мне этого дать не рассудила; и я согласился». Потом продолжал с улыбкою: «Австрийцы объявили, что намерены всегда держаться в точности постановленного в конвенции о разделе; но после оказалось, будто нельзя описать границ с такою точностью, как на месте, почему и хотят этим начать. Я знаю их жадность: им хочется захватить побольше, почему и посылаю человека поприсмотреть за ними; и в случае если они поприхватят, то естественно, что и я буду определять свои границы по местным удобствам». Чернышев заметил на это: «Если ее и. в-ство рассуждает, что трем державам непременно должно держаться постановленного в конвенции, то это не для того, чтоб не дать Пруссии чего-нибудь больше, а для того, чтоб показать свету твердость намерений трех держав; потому и нельзя расширять своих границ под предлогом, что другой захватил лишнее, иначе можно поставить польские дела в такое положение, что их и окончить будет нельзя». Фридриху не хотелось продолжать этого разговора. Сказавши, что в Польше положили соглашаться на уступку требуемого и что окончание дела гораздо более подвергнуто опасности от внутренних вопросов, он перешел к войне и миру с турками. «Мир крайне надобен, – говорил он, – кампанию надобно считать оконченною, и не очень удачно; и если в настоящем году мир не может быть заключен по желанию, то, не жалея расходов, надобно употребить всевозможные меры, чтоб принудить турок к миру в будущую кампанию. Всех обстоятельств, которые могут последовать в Европе, предвидеть нельзя. Что же касается шведов, то я уверен, что они, особенно нынешний год, ничего не предпримут, да хотя бы и предприняли, то 25000 войска, находящегося в Финляндии и около Петербурга, конечно, довольно, особенно если в то же время шведы должны будут иметь дело и с датским двором. Я не раз думал о том, что шведы вам могут сделать. У них больше 45000 войска нет; из этого числа надобно кое-что оставить дома и в гарнизонах; положим, что на это пойдет 5000; десять надобно будет отделить против Норвегии; затем и останется против вас только 20000. Впрочем, не должно сомневаться, что в случае совершенной неудачи вашей против турок Франция будет стараться поднять шведов против вас. Больше всех возбуждает в короле к вам ненависть французская креатура Шефер, который с младенчества вселил в короля мысль, что он может получить известность в свете только беспредельной привязанностью к французской системе и тесным союзом с Францией. Я их обоих у себя видел. Племянник мой, король, очень неглуп, но все дурное французское так перенял, что ветрен, как молодой француз. Желательно, чтоб вы помирились с турками без чужой помощи; но в случае невозможности надобно будет прибегнуть к австрийцам. Они очень желают вмешаться в эту войну, но хотят, чтоб вы их о том много и много просили. Аппетит у них несказанный – возвратить Белград и все потерянное в прошедшую войну. Я этот двор хорошо знаю и вам вкратце опишу: император – человек молодой, нетерпеливо желает себя прославить, но человек честный и твердый; мать – такая комедиантка, какой на свете нет другой; Кауниц – человек не только двоедушный, троедушный, но и четверодушный. Я часто думал, как бы вы могли нанести туркам самый чувствительный удар, но, по несчастию, не знаю местности и потому безошибочно ничего сказать не могу. Однако мне кажется, что вам бы следовало, оставя знатный корпус войска вверху Дуная, у Журжева или выше, с остальной армией идти по правому берегу реки прямо к Варне; провиант можно было бы доставлять по Дунаю и морем. Такое движение заставило бы неприятеля или сойти с гор, выйти из щелей и дать сражение, или бежать для защиты Адрианополя. Жаль очень, что Силистрия не взята: тогда бы вы твердой ногой стояли и за Дунаем». Чернышев заметил, что Силистрию можно взять только приступом, следовательно, с большим кровопролитием. «Мало артиллерии вы употребляете, – сказал король, – надобно бы пушек сто да мортир 30 или 40, ибо турецкие укрепления состоят в крепких и высоких стенах. Хотя бы Очаков в нынешнюю кампанию можно было взять!» Чернышев заметил, что трудно перевести к нему артиллерию. 5 октября Фридрих писал об опасностях вторичного перехода через Дунай: «Если бы турки первые перешли Дунай и граф Румянцев разбил их, тогда он мог бы их преследовать за Дунай; преследование разбитой, потерявшей потому дух армии всегда бывает успешно. Но если, наоборот, турки останутся в своем лагере, то фельдмаршал ударится в большую игру: перешедши Дунай для нападения на них, он рискнет всем для всего. Я не стану утверждать, чтоб такой смелый удар никак не мог удаться. Военное счастье, которое до сих пор благоприятствовало русским, может поблагоприятствовать им и в этом случае, но жребий войны изменчив и его прошлые ласки не ручаются за будущее; неудачи так же возможны, как и успехи; и не скрою от вас, что на месте России я бы не стал так полагаться на счастье».
Сольмс передал Панину депешу прусского посланника Гольца из Парижа (от 4 ноября); по письмам из Петербурга заключают, говорилось в депеше, что Панин не пользуется большой милостью своей государыни, он должен разделять ее с князем Орловым и графом Чернышевым, которые очень дружны между собой. В письмах прибавляют, что эти вельможи не кажутся такими врагами Франции, как гр. Панин, что министры французский и испанский часто видаются с ними и подают своим дворам надежды относительно доброго расположения Орлова и Чернышева ко Франции. Герцог Эгильон, говоря с Гольцем о наградах, полученных Паниным, спрашивал его несколько раз: «Думаете ли вы, что этот министр действительно удержит заведование иностранными делами и дарованные ему милости не предвещают ли скорое Удаление от дел?» Гольца уведомили, что Дюрану дано приказание осведомиться при петербургском дворе, не согласится ли последний заключить мир с Портою при посредстве Франции, которая в таком случае может добиться у турок уступки двух крымских гаваней на Черном море.
В Вену о французских внушениях давали знать непосредственно из Петербурга, думая, что этим побудят Австрию содействовать заключению мира России с Портою! 12 февраля австрийскому послу здесь князю Лобковичу была вручена бумага под заглавием: «Содержание разговора графа Панина с князем Лобковичем». В этой бумаге говорилось: «Венскому двору известно старание Франции запутать все политические дела Европы с единственной целью воспрепятствовать соглашению трех дворов относительно Польши или, наконец, воспрепятствовать исполнению этого соглашения. Здесь Дюран не перестает выставлять выгоды, какие получила бы Россия, войдя в тесную связь с его двором: чрез это она вывела бы свои дела из нерешительного положения; Дюран прямо и открыто предлагает союз между Россией, Францией и Швецией; это предложение, очевидно, клонится к тому, чтоб охладить Россию, ослабить ее деятельность при исполнении означенного соглашения, и хотя еще ей не предлагают уклониться от соглашения, однако указывают уже на большие выгоды, которые получит она от новых связей. Нет двора, где бы Франция не интриговала против раздела Польши; даже британское министерство обольщено до такой степени, что поддерживает в Константинополе все французские интриги против мира ввиду торговли на Черном море. Известно, что русский двор отказался от Молдавии и Валахии из уважения к венскому двору, и никакие другие соображения не могли бы побудить его к принесению этой жертвы. В таком положении дел было бы действием, согласным со справедливостию и миролюбием венского двора, если б он предписал своему министру в Константинополе открыть Порте глаза насчет двойной интриги Франции, которая работает в пользу Швеции в одно время и в Петербурге, и в Константинополе, и вместе с тем объявить Порте, что если она позволит себе увлечься чуждыми видами к продолжению военных бедствий, то Австрия не только предоставит ее военному счастью, но для поддержания равновесия в случае шведской диверсии примет сторону России, как прежде принимала сторону Порты». Кауниц, уверяя кн. Голицына в искренности и усердии, с какими австрийский посланник по предписанию своего двора поддерживает русские интересы в Константинополе, прибавил, что Австрия ожидает и от России для себя услуги. «Мы были бы очень благодарны петербургскому двору, – продолжал он, – если бы Россия не подала повода к разрыву со Швецией, если бы ограничилась уничтожением неприятных ей вещей в новой правительственной форме путем мирных переговоров». Кауниц просил Голицына писать об этом почаще графу Панину. Голицын отвечал, что Россия, конечно, не начнет легкомысленно новой войны, но дело в том, что Франция своими интригами воспрепятствует королю шведскому войти в какие бы то ни было соглашения и может ли русский двор видеть хладнокровно существование в Швеции правительственной формы, противной его гарантии и его интересам? Кауниц при этих словах обнаружил некоторое волнение и сказал: «Чего России бояться, если шведский король будет одарен талантом и мужеством? Ведь он чрез это все же никогда не будет в состоянии меряться с вами: Россия бесконечно превосходит его своими средствами, притом она располагает Данией, имеет союзником короля прусского и находится в доброй дружбе с австрийским домом». Голицын заметил на это, что государства не руководятся в своем поведении настоящим положением дел, но имеют в виду будущие неудобства и предусматривают опасности издалека; ясно, что в Швеции при перемене правления аристократического на монархическое неограниченное произойдет сосредоточение власти, что даст этому государству большие средства. Это будет тем опаснее для России, что неограниченная власть шведского короля будет орудием в руках Франции для постоянной помехи русским делам. Кауниц не отвечал на это прямо, а только распространился о том, как было бы желательно избежать войны, которая может распространиться далеко. Кауниц уверял в искренности и усердии, с какими австрийский посланник поддерживает в Константинополе интересы России. Действительно, он готов был предписать Тугуту склонять Порту к примирению, но император Иосиф был другого мнения: он представлял, что Австрия не окажет этим Порте никакой услуги; если Австрия ничего не сделает против мира, то Россия не будет иметь никакого права жаловаться; Франции будет также приятнее, если Австрия не будет усердно хлопотать о мире, ибо Франция боится, что Россия, освободившись от турецкой войны, обратится против Швеции. Наконец, чем долее Россия будет находиться в войне, чем продолжительнее будет нерешительное положение и прусский король будет платить ежегодные субсидии, тем Россия и Пруссия будут уступчивее в польских делах. Кауниц был принужден в депешах Тугуту, которые тот мог показывать, настаивать на заключении мира, а в тайных давать знать, что эти увещания к миру в Вене не почитаются серьезными; внушалось, что такие настаивания на мир с австрийской стороны могут быть только выгодны для Порты, ибо если она отвергнет русские требования, то этим произведено будет сильнейшее впечатление в Петербурге: здесь увидят, что и убедительнейшие внушения Австрии ни к чему не повели.
Когда Голицын объявил Кауницу о разрыве Бухарестского конгресса, то австрийский канцлер сказал спокойно: «Из этого достойного сожаления события можно видеть, какую нужду и важность находят для себя турки в требуемых русским двором двух крымских крепостях, Керчи и Еникале». – «По моему мнению, – возразил Голицын, – такое упорство турок можно приписать только неусыпным проискам недоброхотов России. Турки своим упорством не приобретут себе никакой пользы; и я очень удивляюсь, почему Порта, несмотря на данные ей г. Тугутом новые представления, разорвала конгресс; из этого видно, как мало она уважает представления здешнего двора». Кауниц помолчал и потом завел речь о другом предмете. Получивши от Панина подробные известия о разрыве конгресса, Голицын опять поехал к Кауницу сообщить их ему. Кауниц, выслушав изложение дела, принял серьезный вид и не отвечал ни да ни нет. Тогда Голицын начал говорить: «Вспомните, князь, по крайней мере, что мое изложение дела представляет искреннее объяснение от одного дружеского двора другому, что тут нет ничего искусственного и скрытного, и мы были бы очень рады, если бы наше поведение в переговорах с Портою показалось и вашему двору столь же справедливым и последовательным, каково оно на самом деле». – «В добрый час, – отвечал Кауниц, – но чтоб судить о вашем деле беспристрастно, надобно, чтоб я поставил себя также и на место турок; по-вашему, вы требуете мало, а по их – слишком много».
В октябре по поводу перехода русского войска через Дунай император Иосиф II спросил Голицына: «Не думаете ли вы, что переход через Дунай несколько рискован?» – «Государь, – отвечал Голицын, – нет сомнения, что попытка смела и опасна, но если неприятель не шел к нам, то надобно идти к нему; впрочем, если наше войско не могло вполне достигнуть цели похода, то по крайней мере оно удержало решительное превосходство над неприятелем». – «Правда, – сказал Иосиф, – войско держало себя хорошо, и я удивляюсь постоянной славе вашего оружия, если бы только поскорее последовал мир». – «Государь, – отвечал Голицын, – это не от нас зависит». Иосиф: «Правда, турки упрямы до невозможности; что мы не делали, чтоб уговорить их, – один ответ, что русских условий принять нельзя! Ваше требование Керчи и Еникале есть один из главных камней преткновения; они думают, что посредством этих двух мест и флотов, какие у вас там будут, вы будете владеть Черным морем и держать в осаде Константинополь». Голицын: «Все эти опасения не имеют никакого основания; положение Керчи и Еникале неудобно для военного флота; да если бы было и иначе, то Порте нечего бояться в мирное время, когда наши корабли имеют право плавать по Черному морю; в случае же войны мы приведем в действие верфи Таганрога, Азова и Воронежа, причем Кафский проход, находящийся в руках наших союзников татар, будет нам всегда открыт. Порта не хочет нам отдать этих двух мест единственно потому, что они послужат нам гарантией независимости татар». Иосиф (с улыбкой): «Говорят, что татарская независимость, на которую так настаивает Россия, вовсе не по вкусу самих татар и что вы ее им навязываете». Голицын: «Дело возможное: народ, привыкший долгое время к игу, связанный с турками единством веры и нравов, может оказывать нежелание внезапного освобождения, и мы не стали бы открывать им глаза насчет выгод, которых они не понимают, если бы у нас не было прямого интереса так поступать. Освобождая этот хищный народ из-под покровительства Порты, делая его ответственным за его собственные поступки, мы чрез это доставляем нашим границам безопасность от их набегов. Да и ваши владения от этого выиграют». Иосиф: «Как это?» Голицын: «Во-первых, мы удалили многие татарские орды, переведя их из Буджака на Кубань; потом, в случае войны австрийского дома с Портой последняя не будет иметь в своем распоряжении толпы разбойников, которые прежде с необыкновенной быстротой опустошали целые области». Иосиф: «Прекрасно! Эти соображения мне кажутся основательными; однако если турки будут упорствовать, то скоро ли у вас будет мир?» Голицын: «Наш мир с Портою будет заключен очень скоро, если венский двор употребит в нашу пользу лучшее из увещаний». Иосиф (улыбаясь): «Понимаю, вы разумеете пушки». Голицын: «Именно, государь. Уже самая близость войны столь продолжительной неудобна для соседней державы; потом турки благодаря неутомимым заботам наших завистников привыкают нечувствительно к лучшей дисциплине, учатся воевать с Европою, и, соединяя эту выгоду со своими естественными средствами, они делаются гораздо опаснее, чем были прежде». Иосиф: «Я с этим не согласен. Не касаясь уже главной струны (магометанства?), живой и кипучий характер этого зверского народа в соединении с формой правления никогда не может согласоваться с дисциплиной, в какой мы держим наших солдат». Голицын: «Дай бог, чтоб предположение вашего величества никогда не допускало исключений, но, соображая все обстоятельства, осторожность в этом отношении не неуместна». Тут император вдруг переменил разговор.
Об интригах Франции толковали постоянно в Петербурге, Берлине и Вене; о чем же толковали во Франции? В марте Хотинский писал Панину: «Здесь согласие трех дворов – русского, прусского и австрийского – почитается странным для всех союзом, и неведомо, каких в нем видов не подозревают. Потому опасаюсь я, чтоб не употребил здешний двор всяких ухищрений напугать этим и англичан, которые в такую западню могут и попасться и станут если не содействовать Франции в ее предприятиях, то мироволить, а она не преминет всячески кутить и мутить». Больше всего во Франции боялись нападения на Швецию со стороны России, что заставило бы Францию помогать Швеции хотя деньгами, но и денег не было. Тщетно Хотинский уверял Эгильона, что у России нет намерения напасть на Швецию; герцог отвечал: «Это все равно как если бы вы мне говорили, что остаетесь в Версале, а я собственными глазами видел из окна, что в вашу карету лошади запряжены. Для чего вы не хотите со стороны шведов обеспечиться заключением с ними договора?» В августе пришло известие о назначении во Францию министром генерал-майора князя Ив. Серг. Борятинского. Это известие заставило утихнуть слухи о войне, и бумаги поднялись на бирже. Эгильон сказал Хотинскому, что Дюран расхваливает Борятинского. «Такое назначение, – заметил Хотинский, – может успокоить вас и относительно Швеции». – «Вы знаете, – отвечал Эгильон, – образ мыслей короля и мои намерения, знаете, что мы желаем более всего, чтоб это назначение послужило к утверждению совершеннейшего согласия». Когда Хотинский указал на вооружение Франции, то герцог сказал: «Мы не хотим, чтоб о нас подумали, что мы уже совсем бессильны».
В августе был составлен наказ новому министру кн. Борятинскому. Наказ этот замечателен как объяснение и оправдание русской политики во время панинского управления внешними делами, написанный самим Паниным: «Руководство общими делами разделяется главными державами по мере умения каждой себе его присваивать. До царствования Великой Екатерины Россия при всех своих успехах в прусской войне играла только второстепенную роль (?), выступая везде вслед за своими союзниками (?). При вступлении ее в-ства на престол в Европе были две стороны: в первой находились Франция и Австрия, за ними Испания и значительная часть имперских князей; на другой стороне была Англия и король прусский. С первой в союзе находился король португальский и некоторые имперские князья; с последним же сделался вдруг из неприятеля теснейшим союзником император Петр III; следовательно, и тут Россия, переменя политическую систему, осталась все же в значении державы, от посторонних интересов зависимой. При заключении мира Англия успела вынудить от бурбонского дома выгодные условия, удержав за собой многие и важные завоевания, а король прусский отдалился безо всякой потери. Чем меньше Россия вследствие скоропостижного перелома, совершенного в ее политике Петром III, могла иметь влияние в этих мирных переговорах, которые основывали будущее положение всей Европы, тем труднее было ей после приобрести влияние. Мудрость и твердость ее и. в-ства превозмогли, однако, скоро эту трудность, и свет увидел вдруг с удивлением, что здешний двор начал играть в общих делах роль, равную роли главных держав, а на севере – первенствующую. Англия, имея с нами одинакие государственные интересы, а сверх того, привыкнув по естественному положению острова своего смотреть в мирное время очень равнодушно на континентальные дела, увидела такую политическую перемену с чрезвычайным удовольствием по той причине, что находила в России новую соперницу Франции, облегчающую собственные ее заботы. Австрия и Пруссия были так утомлены от войны, что сначала мало помышляли о распространении влияния своего далее пределов германской империи, а после, увидя, что Россия начала сама собою и по собственной системе действовать, стали по взаимной их друг ко другу ревности наперерыв искать ее дружбы и союза, но с той разностью, что венский двор по прежней привычке руководствовать ею для собственных видов (?) старался и тут возвратить нас в зависимость от своей политики; а король прусский, оставляя ее и. в-ству первенство в общих с ними делах, хотел только приобрести себе ее дружбу и союзом ее оградить целость и безопасность владений своих на будущее время, зная по опыту, какою завистью пылает к нему венский двор, и, конечно, воспользуется. первым удобным случаем к отнятию у него Силезии. Не трудно было императрице избрать, которая сторона выгоднее и полезнее для славы и достоинства империи, тем более что венский двор находился в теснейшем соединении с Франциею, которой влияние везде господствовало и особенно на севере препятствовало усилению русского влияния. Предпочтение Россиею прусского союза не могло быть по вкусу венскому двору, и потому он начал везде способствовать французским интригам против нас, сохраняя некоторую умеренность и все наружное приличие. Но Франция оскорблялась в войне, чувствуя, что русское влияние усиливается в ущерб ее собственному; и первый министр герцог Шуазель, полагая в том личную свою честь, стал хвататься и за все позволенные и непозволенные способы. Общая французская система против нас состоит в том, чтоб влиянию и значению России, по крайней мере равняющимся теперь влиянию и значению Франции, ставить сильнейшие препятствия и стараться возвратить Россию в прежнее положение державы, действующей не собою, а повинующейся чужим интересам. По этому плану действуют теперь при всех дворах французские министры, хотя герцогу Эгильону надобно отдать справедливость, что со времени его министерства наблюдается ими все наружное приличие; и здесь Дюран уверяет о дружеском расположении своего короля к императрице и желании его оказать ей услуги, средством к чему могут служить возобновление оборонительного союза между Россиею и Швециею и посредничество для заключения мира с Портою, но все это делается с прежней целью лишить нашу политику самостоятельности. Франция увидала, что успехи ее в борьбе с нами не соответствуют ее желанию, и потому вздумала перевернуться и построить батареи свои у нас самих, пользуясь шведской революцией и порванием переговоров с турками, в надежде, что увеличение наших забот побудит нас с радостью и без размышления ухватиться за ее лестные предложения. Тонкая мысль, чтоб дать нам в собственном нашем деле почувствовать недостаток собственных наших средств. Но тонкость Франции не устояла, однако, против мудрости ее и. в-ства, проникнувшей ковы и отклонившей французские предложения». Борятинский должен был поступить соответственно этому, если б во Франции повторили ему подобные предложения. Относительно отклонения французского посредничества Панин под условием глубочайшей тайны рассказывал английскому посланнику Гуннингу следующее. Известный Дидро, гостивший в это время в Петербурге, подал императрице бумагу, содержавшую условия мира России с Турциею, который Франция обязывается доставить, если будет принято ее посредничество. Дидро объяснял, что бумагу получил он от Дюрана и не мог отказаться передать ее императрице, иначе по возвращении во Францию был бы заключен в Бастилию. Екатерина отвечала ему, что, принимая в соображение такую опасность для него, она прощает неприличие его поступка, но пусть он передаст Дюрану, какое употребление она сделала из его бумаги: при этих словах бумага была брошена в огонь. Кроме того, Дюран три раза был у Панина с предложением посредничества и союза Франции с Россиею на условиях, какие будут угодны последней. Каждый раз он получал ответ, что русский двор не считает настоящую минуту удобной для увеличения своих обязательств и довольствуется обязательствами, уже существующими, но императрица очень чувствительна к дружественным намерениям его христианнейшего величества и всего более желает иметь случай убедить короля в том, как она его уважает и ценит его дружбу. Панин уверял Гуннинга, что, пока он управляет иностранными делами, Россия не примет французского посредничества. Но Гуннинг, донося об этом своему министерству, замечает, что, несмотря на враждебность Панина ко Франции, если бы не было в Петербурге Орлова, то можно было бы очень опасаться успеха приверженцев французского союза.
В Швеции не переставали ждать нападения с русской стороны и для обеспечения себя следовали вполне французским внушениям. «Благонамеренные, – писал Остерман, – говорят, что они не оказали сопротивления перевороту потому только, что не были удостоверены в защите России, говорили, что иго, наложенное королем, русской силой так же легко будет свергнуто, как скоропостижно было наложено. Нет ни одного шведа, который бы не думал, что эта минута настанет; до ее же наступления всякое движение, как вы сами мудро и проницательно признавать изволите, было бы не только напрасным, но и самым вредным предприятием и, следовательно, по моему мнению, всякая денежная раздача на приготовление умов была бы излишня, кроме одного тайного вспоможения благонамеренным, находящимся в крайней нужде, на что из последних полученных мною денег еще довольно в остатке находится. Я должен тем более остерегаться, что и без того наши соперники приписывали мне составление заговора и теперь прямо говорить начали, что мы по окончании нашей войны намерены напасть на Швецию вместе с Пруссиею и Даниею. Зная ее и. в-ства будущее намерение, я не оставлю, сколько благопристойность позволит, под рукою усиливать настоящее неудовольствие, соразмеряя мои внушения и мою откровенность со взаимной ко мне доверенностью. Я составил список людей, в неудовольствии которых не сомневаюсь; но так как эти люди отмечены у короля русскими креатурами и удалены от правления, то от них, кроме скрытного содействия, другого ожидать нельзя, ибо за каждым их шагом следят. Пока не удастся королевского брата герцога Фридриха от короля отвратить и к нашим началам привести, ни один из больших господ себя не откроет, и если вспыхнет какое возмущение и непослушание в полках, то от мелкого офицерства, а не от больших чиновных людей. На твердость и скромность герцога Фридриха надеяться трудно. За два дня до получения королевского указа о принятии команды над полками в Остготской провинции при известии о бунте в Христианштаде принц публично за столом уверял, что он явится вождем народа в защите вольности, по получении же указа объявил, пожимая плечи: „Король мне брат, мне нельзя его оставить, поневоле должен защищать“. Выходки против короля делал и герцог Карл, но следствий никаких не было; родственное чувство в королевской фамилии очень сильно: часто и скоро ссорятся, но скоро и опять мирятся».
Известия о русских вооружениях в Финляндии заставили Густава III созвать в начале марта военный совет из сенаторов графов Ливена, Шефера, Ферзена и барона Фалькенгрена. Король предлагал отправить в Финляндию несколько полков и артиллерийскую эстляндскую команду из 400 человек с 16 пушками. Но кроме Шефера, все другие сенаторы представляли, что прежде надобно получить достовернейшее сведение, действительно ли императрица намерена напасть на Швецию, и потому они признавали полезным прежде всяких вооружений со стороны Швеции обнадежить императрицу именем короля, что у него нет ни малейшего намерения ее обеспокоить, вследствие чего можно надеяться получить и от императрицы подобные же уверения, тогда как вооружения скорее всего могут произвести холодность между дворами. Король согласился не посылать в Финляндию полков и артиллерию, но, с другой стороны, согласился с Шефером, что не нужно посылать в Петербург обнадеживания, которое может повести к неприятному для Швеции ответу. Старались всеми средствами уверить, что с шведской стороны никакого военного движения не будет. Шефер приезжал к английскому министру Гудрику и говорил о распространяемом в Европе слухе, будто шведский король заключил с Портою договор, по которому за большую сумму денег обязался сделать диверсию против России. Шефер клялся, что этот слух выдуман врагами Швеции, что не только нет никакого договора, напротив, шведскому министру при Порте Целзангу предписано не препятствовать никоим образом заключению мира между Россиею и Турциею. «Это уверение Шефера, – писал Остерман Панину, – могло бы иметь еще некоторый вид истины, если бы он так бесстыдно не уверял о своих предписаниях Целзангу». Остерман был уверен, что турецкие деньги придут в Стокгольм, как бы они ни были прикрыты, трактатом или французским плащом. После всех этих событий Шефер прислал просить свидания у Остермана и начал такой разговор именем королевским: «Вам известны неоднократно данные его величеством уверения об искреннейшем желании и непоколебимом намерении сохранить доброе согласие с императрицей. Король, имея и теперь то же самое пламенное желание, приказал мне подтвердить вам о нем с присовокуплением, что он до сих пор полагался на подобные же уверения и с ее стороны, несмотря на известие о русских вооружениях в Финляндии; теперь же, получа подтверждение этих известий о сборе 18000 человек, о вооружении 75 галер и целой эскадры, не может скрыть, как бы эти известия его обеспокоили, если б он не вполне полагался на дружбу ее величества, основанную на родстве. Между тем он принял и с своей стороны некоторые меры предосторожности, но приказал мне повторить уверение, что эти меры приняты только для обороны, а никак не для наступления, и как скоро он из ваших уст узнает, что ее величество ничего против него предпринять не намерена, то сейчас же всякие вооружения прекратятся». «Этот поступок: Шефера, – писал Остерман, – происходит от того, что он со своей шайкой пронюхал нерасположение народа к войне и старается теперь подобру выйти из этого лабиринта для успокоения нации, почему так сильно и домогается об ответе с нашей стороны, чтоб в случае благоприятного ответа пресечь все движения, в противном случае продолжать их усиленно, даже собрать и чрезвычайный сейм».
В Петербурге составлен был такой ответ Остерману для передачи Шеферу по поводу последней конференции: «С тех пор как король вступил на престол, ее импер. в-ство постоянно уверяла его в своей искренней дружбе к нему как близкому родственнику, в участии, какое она принимает в его благополучии, в доверии, какое она питает к его желанию установить совершенное согласие между двумя державами. Одушевляемая такими чувствами, императрица с новым доверием и с новым удовольствием приняла последние уверения короля. Ее импер. в-ство презирает тайные пути; во все свое царствование она вела свои дела на виду пред всей Европою; тем менее она могла изменить свое поведение относительно государя, находящегося с ней в таком близком родстве; по этому неизменному правилу своей политики она приказывает вам (Остерману) уверить, что во всем, что делалось и делается в ее государстве, не заключается ни малейшего намерения к нападению на Швецию. Первый шаг в перемене существовавшего порядка дел на Севере сделан не ею. Ее война с Турцией уже приближалась к окончанию, когда Швеция получила новую правительственную форму. От этой перемены и воинственных движений, непосредственно за нею последовавших и продолжающихся без перерыва до сего дня, враг России ободрился и мирные переговоры встретили препятствия, каких не было вначале. Императрица, естественно, должна была обратить внимание на то, что делалось в Швеции, а там велись усиленные приготовления к войне. В России же, наоборот, на северных границах постепенно являются войска, которые и прежде там были, но в последнее время были отправлены на юг вследствие неожиданного объявления турками войны; то же делается и относительно морских сил; и этим ограничиваются все военные распоряжения. Северные границы были обнажены от войска вследствие минутной необходимости, их вовсе не хотели оставить обнаженными, и они не должны были оставаться такими на основании перемены, происшедшей в соседстве. Императрица объявляет, что она не думала и не думает ни о чем Другом, кроме естественной защиты своего государства и своего союзника короля датского, и если шведский король даст торжественные уверения, что он не желает напасть на Россию, ни обеспокоить ее каким бы то ни было образом, и если эти уверения простираются и на Данию, то императрица с своей стороны уверяет короля, что она не имеет ни малейшего намерения напасть на него и желает сохранить мир и дружбу между обоими государствами. Что же касается до предложения о более тесном союзе между Россиею и Швециею, сделанного шведским посланником при русском дворе бароном Риббингом, то это дело откладывается до более спокойного времени, могущего уничтожить возможность всяких перетолковываний».
Когда Остерман прочел этот ответ Шеферу, тот сказал, что лучшего уверения и желать нельзя, и хотя можно было бы сделать много замечаний относительно шведских вооружений, упоминаемых в ответе, но он считает более приличным их оставить. В ноябре сам король наедине сказал Остерману, что единственное его желание – удостоверить императрицу в искренности своей дружбы и для отнятия всякого повода к сомнению в этом он объявляет свое намерение в начале июня месяца будущего года ехать в Финляндию. Нынешний год он отложил эту поездку единственно для избежания разных толков о ее цели, а теперь частным образом открывает свое намерение по случаю этой поездки посетить императрицу и потому спрашивает, получил ли Остерман ответ на его прежний вопрос по этому делу. Остерман отвечал, что король, конечно, припомнит, как он, посол, именем императрицы уверял его, с каким удовольствием она увидит у себя такого дорогого гостя и кровного родственника. «Правда, – сказал Густав, – но так как после того произошли здесь разные приключения, то нет возможности формально повторить прежнее предложение, и потому мне было бы очень приятно, если бы вы сообщили ответ ее и. в-ства моему министерству; и я жажду видеть такую великую, прославляемую во всем свете монархиню и уверить ее лично в моем высокопочитании и миролюбивых чувствах, а потому и желаю получить от ее в-ства приглашение», Екатерина велела Остерману отвечать, что она по-прежнему питает искреннее желание лично познакомиться с королем, своим соседом и близким родственником. Панин по этому случаю писал Остерману: «Приезд его величества был бы нам, конечно, приятнее в то время, когда у нас мир с турками заключен уже будет, нежели при настоящих наших хлопотах; однако ж когда он ныне вторичное оказал желание посетить государыню, то и не позволяет нам благопристойность препятствовать тут исполнению его намерения».
Мы видели, что императрица по отношению к Швеции нисколько не отделила себя от своего союзника датского короля. В самый первый день 1773 года новый русский министр в Копенгагене Симолин самыми блестящими красками (хотя и не блестящим французским языком) описывал отношения России к Дании. «С знанием дела смею уверить в. с-ство, – писал он Панину, – в искренности и ненарушимости чувств всей королевской фамилии и министерства относительно императрицы, ее системы и ее интересов, от которых они решились никогда не отделяться, ибо целость и благосостояние Дании неразлучны с интересами Российской империи. От нашего двора зависит располагать Даниею и всеми ее силами соответственно нашим видам и интересам. Члены королевской фамилии смотрят на Францию, как на животное (les personnes royales regardent la France comme la bеte), и я не упускаю случая укреплять такой взгляд во всех министрах. В. с-ство видите, как настоящее время благоприятно для основания и утверждения русского влияния на Севере, для исключения отсюда французского влияния. Здесь ждут только заявления воли и желаний ее и. в-ства, чтоб вполне с ними сообразоваться и доказать, что приверженность Дании к ней не имеет границ». Но скоро оказались тени в этой блестящей картине. 16 февраля Симолин писал уже о колебаниях министра иностранных дел графа Остена, о его противодействии вооружениям, которые датский двор принимал как для безопасности собственных границ, так и для выполнения союзных обязательств относительно России на случай, если бы шведский король сделал демонстрацию или диверсию против России, чтоб побудить Порту к продолжению войны. В совете, где дело шло о назначении офицеров на эскадру, вооружавшуюся к будущей весне, Остен не ограничился открытым сопротивлением мере, но выбрал потайные пути для достижения своей цели и даже внушал особам королевского дома, что успех в окончательном улажении голштинского дела еще не верен. Эта последняя попытка окончательно повредила Остену в глазах королевы и принца Фридриха, и им стало противно сноситься с ним о делах. Опасно было предоставить такому человеку конференцию с иностранными министрами и внешнюю переписку; трудно было предположить, что его разговоры с французским посланником, продолжающиеся по целым часам, ведутся только о предметах посторонних, о дожде и хорошей погоде, как он утверждал. Уже несколько времени Симолин замечал в Остене какое-то смущение в разговорах с ним, особенно желание избегать с ним разговора или прекращать начавшуюся беседу, когда посланники французский и шведский могли наблюдать за ними. Члены королевского дома чувствовали необходимость его удаления, но кем заменить? Послали за советом в Петербург к графу Панину, но, прежде чем пришел ответ, подозрения против Остена усилились. Прусский посланник барон Арним объявил Остену, что вследствие разнесшегося в Копенгагене слуха, будто прусский король смотрит неравнодушно на датские вооружения, он, Арним, писал об этом своему государю и получил в ответ, что датские вооружения не причиняют ему ни малейшего беспокойства и что он может только одобрять меры предосторожности, принимаемые копенгагенским двором в настоящих обстоятельствах. Принц Фридрих и другие, которым было известно об этом ответе Фридриха II, думали, что Остен непременно объявит о нем в совете, но министр иностранных дел промолчал о таком важном сообщении. Кроме того, пришло донесение датского посланника в Вене об отзыве французского посла там принца Рогана. «Франция и Швеция, – сказал Роган, – покойны насчет расположения копенгагенского двора, потому что в Дании скоро произойдет перемена министерства, выгодная для системы обоих этих государств». Наконец открылось, что Остен держит при дворе шпионом камер-юнкера Триберга, который в то же время находился в подозрительных сношениях с французским посланником маркизом Блоситом. Тогда решили отделаться от Остена, не дожидаясь ответа из Петербурга, и временно поручить иностранные дела тайному советнику Шаку. Когда дано было об этом знать Симолину, тот отвечал, что полагается вполне на благоразумие и проницательность принца Фридриха, тем более что Шак давно уже пользуется расположением русского двора. Потом, извещая о последовавшей уже отставке Остена, Симолин писал, что надобно окончить голштинское дело, ибо этим окончанием Россия завоевывала целое королевство, которого силы и средства будут навсегда в ее распоряжении. Спешить окончанием голштинского дела нужно было уже и потому, что Франция распускала слухи, будто великий князь Павел Петрович никогда не утвердит договора, лишавшего его отцовского владения.
Королева и принц Фридрих выразили Симолину, как им прискорбно, что Шак отказывается от департамента иностранных дел, тогда как это единственный человек, способный занимать это место. Симолин предложил им помедлить королевским назначением другого лица, а тем временем, быть может, Шак привыкнет к своей должности; беда в том, что прошлый год Шак для успокоения Остена объявил ему, что никогда не примет его места; против этого, впрочем, можно найти средство, именно оставить Шака навсегда ad interim, не называя министром иностранных дел. Королева и принц обещали не торопиться. Симолину, как видно, очень хотелось, чтоб голштинское дело кончено было при нем, при его содействии; он вторично написал Панину, что только одно голштинское дело может принудить Шака оставить за собою иностранный департамент: если он увидит, что может кончить его и заслужить этим признательность целого народа, то может уступить настояниям двора и друзей своих.
Шак не тронулся никакими увещаниями; и выбран был в министры иностранных дел граф Бернсторф, племянник покойного министра того же имени; рекомендацией служило то, что Бернсторф был воспитан во вражде ко Франции, в добром расположении к России, был другом Шака, который по-прежнему оставался душою королевского совета. При первом свидании с Симолиным новый министр заявил о своей несокрушимой приверженности к системе русского союза, говоря, что он воспитан в принципах этой системы и все его честолюбие состоит в том, чтоб сделать узы, соединяющие Данию с Россиею, нерасторжимыми. 31 мая приехал к Симолину Шак с радостною вестью, что договор о промене Голштинии на Ольденбург и Дельменгорст подписан в Петербурге. Вслед за тем Симолин сообщал Панину известие, что шведский министр в Копенгагене предложил вдовствующей королеве тесный союз между Швециею и Даниею. Королева отвечала, что дело возможное, если Швеция в то же время склонит к этому союзу и петербургский двор, без которого Дания не может принимать подобных предложений. Швед возразил, что это совершенно невозможно, потому что Россия слишком отдаленна. «Однако, – заметила королева, – Россия – соседка Швеции и по своему положению, могуществу и влиянию способна принимать участие во всех делах Европы, особенно Северной». Этим разговор и кончился.
Но поведение Остена, хотя и кончившееся его низвержением, произвело тревогу в Петербурге: оно доказывало, что Франция вовсе не отказывалась от надежды привлечь Данию на свою сторону, ко потерять союз Дании при известных шведских отношениях было тяжело для России, и потому здесь попытались предложить союз Англии с прежним условием субсидий, но чтоб эти субсидии выплачивались теперь не Швеции, а Дании; сделать это предложение считали тем более нужным, что приходили известия о стараниях Франции сблизиться с Англиею.
Из Лондона Мусин-Пушкин писал, что там с некоторого времени в публичных местах начались рассуждения о честолюбивых замыслах России, о робости Англии, о склонности ее заключить тесный союз с Франциею, о здравой политике, правилам которой следует Пруссия. 20 марта в разговоре с лордом Суффольком Мусин-Пушкин спросил его шутя, когда союзный договор их с Франциею будет подписан. Министр также шутя отвечал, что это дело уже решенное, но потом, приняв серьезный вид, стал обнадеживать Мусина-Пушкина самыми сильными уверениями, что немыслимое Дело для Англии забыть свое положение, когда-либо предпочесть французский союз русскому, к которому обязывают ее самые осязательные интересы, но, чтоб составить решительную систему, надобно иметь полные сведения о дальнейших желаниях императрицы как по турецким, так и по шведским делам. Настоящее согласие Англии с Франциею происходит единственно оттого, что нет ни малейшей причины к какому-нибудь неудовольствию между ними; но это положение нисколько не уничтожает оснований соперничества и недоверия, которые останутся навсегда неодолимыми препятствиями к союзу. Суффольк прибавил, что все это он говорит не от одного своего имени, а от имени короля и министерства. Но по известиям из Парижа и по собственным наблюдениям Мусин-Пушкин пришел к мысли, что существуют какие-то переговоры между Франциею и Англиею. Он сказал об этом Суффольку, и тот, не подтверждая и не отрицая прямо сомнений русского министра, отвечал: «Не удивительно, если при настоящих критических и нимало не определенных обстоятельствах были бы какие-нибудь с французской стороны предложения английскому двору; но я еще не смею о них вам говорить. Благоразумие требует, чтоб вы подождали выводить свои заключения. Молчание графа Панина пред нашим министром Гуннингом служит мне доказательством, что у вас нет еще намерения начать новую войну; а Швеция сама никогда не посмеет подать к ней ни малейшего повода, особенно когда Франция еще не в состоянии подать ей действительной и беспрепятственной помощи и когда Дания своими вооружениями приготовилась немедленно напасть на Швецию».
Между тем в марте месяце Панин в разговоре с Гуннингом упомянул о союзе, который прежде всего необходим для ограждения Дании от французских покушений: если Англия согласится вступить в обязательства с Даниею, то союз ее с Росснею будет необходимым следствием. Гуннинг прямо отвечал ему, что не может донести своему двору об этом предложении, ибо здесь имя Дании стоит вместо имени Швеции, тогда как английское правительство объявило раз навсегда, что никакому государству платить субсидий не будет. Панин спросил, неужели не должно обращать внимания на великую перемену в положении Европы, происшедшую уже после того, как требовались субсидии для Швеции, и неужели не должно обращать внимания на то, что в Швеции своими субсидиями Англия приобретала для себя только одну партию, тогда как теперь она будет иметь в своем распоряжении весь датский флот. По мнению Панина, всеобщая война была недалека, если не будут приняты меры предотвратить ее, причем прежде всего надобно отделить Данию от Швеции, которая одна будет для Франции только слабою союзницей, и когда будет заключен союз между Россиею и Англиею, то обоим государствам нечего будет более бояться интриг Франции. Гуннинг «из уважения к Панину» донес о его словах своему министерству, которое опять только «из личного уважения к Панину» отвечало – впрочем, вовсе не уважительно, а сухо и резко, – что русское предложение противоречит английскому плану, английским решениям, много раз объявленным, и потому не может быть никогда принято. Принять его – это значило бы уступить главную роль тем, которые при заключении союза между Россиею и Англиею должны были бы по необходимости за ними последовать.
В мае сама императрица решилась говорить с Гуннингом о союзе на том же основании, т. е. чтоб прежде Англия заключила субсидный договор с Даниею. Быть может, подозрение, что Панин, в угоду прусскому королю, враждебному Англии, ведет дело не с должною настойчивостью, заставило Екатерину сделать этот шаг, не совсем согласный с представлениями ее о достоинстве русской государыни. «Посмотрим, нельзя ли нам окончить наши скучные переговоры о союзе», – сказала она Гуннингу. Тот отвечал, что дело трудное. «Как же сделать? – продолжала Екатерина, – Дания нуждается в помощи, ваш интерес не менее моего требует оказать ей эту помощь; никакая система для Севера не может быть составлена без нее, она представляет нам случай оказать наш союз». Гуннинг отвечал, что английское министерство непреклонно в своем решении не допускать никакого обязательства в пользу Дании как условия союза с Россиею, что этот союз рассматривается как основание великой системы и надобно прежде всего положить это основание, а потом уже возводить на нем дальнейшие постройки. «Не вижу, – возразила Екатерина, – почему мы не можем сделать этих двух дел вместе или посредством секретной и отдельной статьи, или в двух разных договорах». Посланник отвечал, что прежде что-то подобное предлагалось относительно шведской субсидии и было отвергнуто в Англии. «В таком случае зачем же договор, – сказала Екатерина, – разве в нем не будет никаких условий? Из чего же он будет состоять?» – «Подобно всем оборонительным договорам он будет определять взаимную помощь», – отвечал Гуннинг. «В чем же я найду эту взаимность? – спросила Екатерина. – Вы вследствие сложности своих интересов, торговых и политических, бесконечно более меня подвержены спорам и разрывам с разными державами; у меня только один враг – турки, а вы отказываетесь включить их в случае союза». – «По моему мнению, – отвечал Гуннинг, – Россия имеет столько же врагов, как Великобритания, и хотя наши враги сильны, однако по нашему положению при нападении их мы не очень боимся стать в тягость нашим союзникам». На это Екатерина сказала: «Что же хорошего может выйти из договора такого общего свойства, какая польза будет мне от него?» На этот вопрос Гуннинг отвечал вопросом, полагает ли императрица, что союзный договор России с Англиею не произведет никакого впечатления на большинство европейских кабинетов, не сохранит мира на Балтийском море, и неужели последнее обстоятельство не важно для владений ее величества. Екатерина кончила разговор словами: «Я нахожу, что дела представляются в Лондоне иначе, чем здесь; ни Россия, ни Англия не может, однако, оставаться долго в подобном положении». Но в Англии решили, что лучше остаться в этом положении, и отвечали, что субсидия Дании не может служить основанием союзного договора с Россиею; кроме того, Гуннингу дано было знать, что в договор не может быть внесена гарантия захваченного в Польше (usurpations in Poland) и по-прежнему нападение на Россию со стороны Турции не составляет случая союза.
Было ясно, что безопасность на севере зависела исключительно от хода дел на юге, зависела от успехов Румянцева в 1774 году.
Мы видели, что в самом конце 1773 года Екатерина велела написать Румянцеву рескрипт, чтоб он по взятии Варны и разбитии визиря не останавливался перед Балканами, а шел далее для завоевания мира. Мир был необходим, ибо на востоке надобно было тушить пугачевский пожар. Когда в январе 1774 года Штакельберг из Варшавы переслал константинопольское письмо, где говорилось об ожидании смерти султана, то Екатерина написала Панину: «Почитаю последние чрез Штакельберга из Царяграда здесь приложенные известия такой важности, что мое мнение есть, чтоб оные немедленно сообщены были к графу Румянцеву с таким предписанием, чтоб он по всевозможности старался сей пункт времени сделать полезным, что, по моему рассуждению, быть может, если он не видом, но самым делом приступит к завоеванию Силистрии и Варны, а по завоевании, чего боже дай, визирю предложит о трактовании мира, уполномочивая графа Румянцева к трактованию оного, в какой силе желаю я, чтоб вы заготовить велели к фельдмаршалу рескрипт к моему подписанию, не теряя времени, ибо потерянный подобный случай не возвращается».
Штакельбергово известие оказалось справедливым: султан Мустафа умер, а место его занял брат его Абдул-Гамид. К Румянцеву из Петербурга отправлен рескрипт: «Так как по прежним примерам можно думать, что такая важная перемена произведет какое-нибудь волнение в серале и потому некоторое расстройство в общих политических и военных мерах Порты, то благоразумная прозорливость требует от нас поставить себя как можно скорее в готовность воспользоваться наилучшим образом могущею быть оплошностью неприятеля вследствие перемены правления. От избытка желания нашего содействовать всеми мерами истинной пользе империи, т. е. скорейшему доставлению ей драгоценного мира, препоручаем вам устроить по возможности заблаговременно и без всякой, конечно, огласки достаточный корпус войск таким образом, чтоб он по первому вашему приказу мог немедленно перенестись на противоположный берег Дуная и ударить вдруг или порознь на Силистрию и Варну в таком случае, если бы между неприятельскими войсками начали являться оплошность и расстройство вследствие перемены правительства. Наше соизволение есть, как только оба эти города, если и один из них, захвачены будут нашими войсками, вы, пользуясь ужасом неприятеля, должны предложить визирю от себя возобновление мирных переговоров, но с тем чтоб эти переговоры велись для сокращения времени и отстранения всяких затруднений между вами обоими как главными военными начальниками».
Пришло известие, что новый султан передал все дела в полное заведование великого визиря Муссин-Заде, и в то же время получены были из Вены и Берлина обнадеживания, что Зегелин и Тугут единодушно, оставя всякую между собою личную зависть, будут стараться, чтоб заключение мира было передано визирю, ибо к известному миролюбию последнего должно будет присоединиться желание быть в Константинополе для предупреждения серальских интриг. Екатерина писала Панину: «Постскрипт кн. Кауница, который вам. прочел кн. Лобкович, кажется, так сочинен, что он должен у нас отнять всякое сумнение о двоякости венского двора. Мне пришло на мысли воспользоваться вступлением нового султана: с ним не настоят все те опасения в рассуждении гордости, и других его собственных обстоятельств и чувствований, коих мы опасаться имели в умершем, и для того я думаю, чтоб вы снова кн. Кауница просили, чтоб он готовность нашу к поспешению мира предъявил туркам всякий раз, что они к трактованию оного охоту иметь будут, и что для того к фельдмаршалу снова ныне отправлены как рескрипт, так и полномочие».
При таком нетерпении получить как можно скорее мир, разумеется, должны были смягчить его условия до последней степени; и в заседании Совета 10 марта в присутствии императрицы гр. Панин предложил отказаться от Керчи и Еникале в пользу татар, ограничиться одним Кинбурном и свободным плаванием одних торговых судов, которые в случае нужды могут быть превращены в военные. Все члены Совета согласились, кроме гр. Григория Орлова. Екатерина отложила решение вопроса. В следующее заседание (13 марта) положили не вдруг предъявлять туркам эти условия, но спускаться к ним постепенно ввиду упорства турок и «сущей государственной надобности скорейшего возвращения отечеству тишины и мира». В Петербурге много надеялись на обещание венского двора приказать Тугуту объявить Порте, что, видя упорство ее в принятии русских условий, венский двор находит себя принужденным возвратить русскому двору полученное от него слово относительно Молдавии и Валахии, судьба которых будет теперь зависеть единственно от хода войны. «Даруй боже, – писала императрица Румянцеву, – чтобы руки ваши, лаврами увенчанные, равномерно увенчались и ветвиями мира. Когда дело при помощи божией дойдет у вас до действительного трактования с верховным визирем, тогда откроется сама по себе дорога, которою, применяясь к его мыслям и желаниям, надобно будет начать негоциацию. Мы мним, однако ж, что короче всего будет пойти с пункта, где Бухарестский конгресс остановился, утвердя наперед все те статьи, кои на оном или действительно уже подписаны, или по крайней мере в существе своем одержаны были объявленным согласием рейс-эфенди. Вся трудность замирения стала только на двух пунктах: на уступке России Керчи и Еникале с их уездами да на свободе всякого кораблеплавания по Черному морю. Познав довольно, что турецкое сопротивление в этих обоих пунктах непреодолимо, ибо Порта считает их крайне опасными для самого бытия своего, решились уже мы для возвращения отечеству драгоценного покоя снизойти на ограничение кораблеплавания по Черному мерю и на оставление татарам Керчи и Еникале, если Порта согласится, признав их вольность и независимость, отдать им в полное владение все крепости в Крыму, на Тамане и на Кубани со всею землею от реки Буга по реку Днестр и если уступит нам город Очаков да замок Кинбурнский с окрестностями и степями по Буг-реку. В случае нужды можете требовать только разорения Очакова, а в случае крайней необходимости – оставить туркам Очаков, а себе взять один Кинбург с округом по Буг-реку; плавание по Черному морю выговорить одно торговое».
Визирь, живший в Шумле, прислал за Дунай своего чиновника с письмом к пашам, которые находились в плену у русских. Румянцев с ответными письмами пашей отправил турка назад в Шумлу и с ним своего офицера. Последний возвратился опять с тем же турецким чиновником, который на этот раз привез письма к фельдмаршалу от визиря и рейс-эфенди с приглашением возобновить мирные переговоры. Началась переписка между главнокомандующими об условиях мира, причем немедленно оказалось, что туркам внушено было о затруднительном положении России, которая должна согласиться на все. Визирь уступал один Азов, не хотел слышать об уступке Очакова или Кинбурна; соглашался на плавание русских торговых судов по Черному и Мраморному морям, но конструкция и размеры судов должны быть в точности определены (чтоб они не могли быть обращены в военные). О Крыме говорил в самых неопределенных выражениях, нисколько не соответствовавших русским требованиям; татары будут пользоваться свободою согласно предписаниям магометанского закона, но это ровно ничего не значило.
Панин по этому поводу писал Румянцеву длинное письмо: «С Бухарестского конгресса примечаю уже я, что Порта, говоря о вольности татар, во всех своих отзывах нечувствительно уклоняется присовокуплять к слову вольность слово независимость. Долг общего нашего бдения взыскивает, напротив, не дать ей воспользоваться сею хитрою ухваткою варварской ее политики; почему я в. с-ство сим прилежнейше прошу как во всех ваших во время негоциации отзывах неразлучно везде соединять оба слова вольности и независимости, так и при сочинении и подписании самого мирного трактата неопустительно предостеречь, дабы оные вместе оглавлены и татары именно и точно признаны были областию в политическом и гражданском состоянии никому, кроме единого бога, не подвластны». В Петербурге беспокоились насчет медленности переговоров, подозревали, что визирь нарочно хочет протянуть их, чтоб истомить наше терпение и выторговать для Порты лучшие условия или воспользоваться случаем для испытания военного счастья, кроме того, выждать благоприятной перемены обстоятельств. В этом беспокойстве Панин писал Румянцеву, что «отечеству нашему мир весьма нужен и что мы потому оного с алчностью желать и добиваться должны», и потому требовал, чтоб Румянцев изъяснил визирю, как ошибается он и все министры Порты, если верят наветам завистников мира, будто в России государственные средства истощены вконец и она не в состоянии продолжать войну с прежними успехами. Но если бы и в самом деле средства ее истощились, то Румянцев имеет способ, которого у него не может отнять никакая сила и никакая перемена европейских обстоятельств в пользу Порты; этот способ состоит в том, чтоб превратить войну из наступательной в оборонительную, но прежде все занятые турецкие крепости разорить до основания, города и селения опустошить вконец, а жителей всех с имуществом их отвести в Россию, где еще много пустых и к жизни удобных мест; такое переселение жителей Бессарабии, Молдавии и Валахии будет для России достаточным вознаграждением за все понесенные убытки, а для Порты – самым чувствительным ударом, от которого она не оправится.