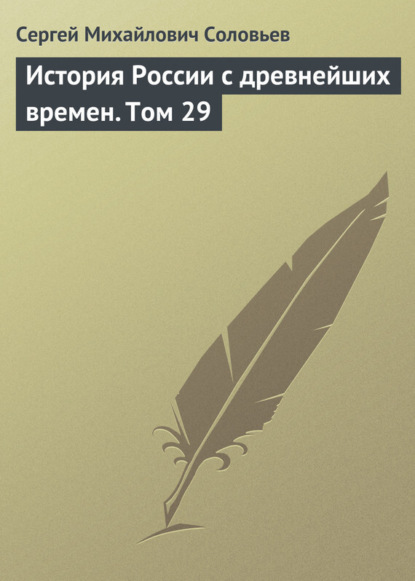По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России с древнейших времен. Том 29
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы видели, что Екатерина при своем основном стремлении: действовать против безнравственных явлений средствами нравственными, а не жестокостию наказаний, обращалась за помощью к церкви, как то поступлено было в деле Жуковым. И в описываемое время она продолжала поступать таким же образом преимущественно в делах по убийствам крестьян своими помещиками. О дворянке Мориной, убившей свою крепостную, Екатерина написала: «Посадить на 6 недель на хлеб и на воду и сослать в женский монастырь на год в работу». По решению Екатерины белозерские помещики Савины за убийство крестьянина посажены в тюрьму на полгода и потом преданы церковному покаянию. Капитанша вдова Кашинцева за прижитие с человеком своим младенца и несносное телесное наказание служанки, от которого та повесилась, приговорена была на шесть недель в монастырь на покаяние. Жена унтер-шахмейстера Гордеева была присуждена к содержанию месяц в тюрьме и церковному покаянию за истязание своей дворовой, от которого та скоро умерла. Сенат при этом приказал взять с нее подписку, чтоб она вперед от таких наказаний удержалась; но императрица переменила сенатское решение и написала: отдать ее мужу, с тем чтоб он ее впредь до такой суровости под своим ответом не допускал.
Сенат подал доклад о наказании генерал-майорши Эттингер за побои крестьянину, от которых тот умер; императрица написала на докладе: «Вдова Эттингерша сама на себя показывает, что она человека своего секла за такие дела, кои исследовать не ей, но городской юстиции надлежит, и тако присвоивала себе судейской власти, ибо побеги, воровство и подобное не подлежит домашнему следствию и наказанию, чего приметить дать надлежит второму сенатскому департаменту, дабы сходственно законам власть судебная была охраняема от особенных вступлений в оной». Сенат отвечал: «Чтоб и другие владельцы в принадлежащие гражданской юстиции дела собою не вступали, как на то точного положения нет, собирать о сем в комиссии о сочинении проекта нового уложения для положения на сие закона». Но Екатерина написала на это: «Которой комиссии и о том положение сделать, что с такими чинить, кои суровость против человека употребляют». По известиям о дурном обращении со своими крепостными генерал-майорши Храповицкой Сенат получил именной указ определить опекуна, который бы, отобрав, от кого надлежит, о ее доходах сведение, принял дом ее в свое содержание и определил людям ее такое пропитание и одежду, которых бы без излишества довольно было, а достальное отдавать ей на содержание, и чтоб оные люди в случае их преступления наказанием зависели от него, сохраняя притом должное от них ей почтение и повиновение.
Кроме приведенных случаев дурного обращения с крепостными людьми, истязаний и смертоубийств, крепостные отношения, составляя главный интерес землевладельцев, увлекали их в другого рода преступления; кроме того, крепостные люди являются удобными, послушными орудиями преступлений. Сенат приговорил к наказанию кнутом и ссылке на поселение в Сибирь жену прапорщика Федосью Чегодареву за подговор ею к побегу дворовой девицы жены лейтенанта Тормасова и за прочие непорядки. Екатерина написала на докладе: «Вместо телесного наказания содержать ее две недели на хлебе и воде, а потом, лиша дворянства, послать в Сибирь». Такому же наказанию по решению императрицы была подвергнута дворянка Ингельдеева за то, что продала беглого, переменив ему имя. Сенат приговорил к смертной казни отставного подпоручика Карпова за то, что он с людьми своими приходил на сотского из однодворцев Кутепова, ранил его сам из ружья и бил дубинами, от чего Кутепов через сутки умер. Екатерина переменила этот приговор так: «Лишить дворянства и чинов и, поставя под виселицу, заклеймить лоб словом „разбойник“ и потом сослать вечно в работу». Сенат приговорил ко кнуту и ссылке в Нерчинск отставного сержанта кн. Ивана Мещерского за сочинение для проезда подложного письма и за кражу у разных людей пожитков; Екатерина переменила: «Лиша дворянства, сослать в Сибирь». То же наказание определила императрица дворянам Сущову и девице Чертановой за содержание ими в домах своих разбойников и краденых пожитков. Лишение дворянства и чинов, заклеймение под виселицею буквою «У» (убийца) и вечную работу на Нерчинских заводах императрица определила отставному капитану Отяеву за то, что он людям своим позволил убить до смерти свою жену. Отставной поручик Лесков убил беглого человека; жена его и свояченица Родичева знали об этом и не донесли; императрица написала решение: «Лескова, лишив чинов и дворянства, заклеймить под виселицею буквою „У“ и сослать на Нерчинские заводы в работу; жену освободить; Родичеву заключить на покаяние в тюрьму». По решениям императрицы содержана две недели на хлебе и на воде и сослана в Сибирь прапорщица Васильева за подговор к краже и побегу чужой крепостной девушки. Лишен дворянства, чина и сослан в Сибирь прапорщик Ильин за держание в доме своем разбойников и за взятие от них себе пожитков. Посажена на четыре недели на хлеб и воду, лишена дворянства и сослана в Сибирь капитанша Моуринова за подговор людей своих, чтоб они первого мужа ее поручика Епанчина спящего задушили подушкою, что они и сделали. Лишен чина и сослан в ссылку прапорщик Симбирский за битье пономаря, который через два дня умер. Лишен дворянства, чинов и сослан в Сибирь полковник Рачинский за убийство. Посажена на четыре недели на хлеб и на воду, лишена мужней и отцовской фамилии, заклеймена буквою «У» и сослана в Сибирь жена отставного прапорщика Авдулова за убийство мужа; дочь ее, соумышленница матери, держана две недели на хлебе и воде и сослана в Сибирь. Одинакому с Авдуловой наказанию за убийство мужа подверглась подпоручица Симонова. Лишены дворянства и сосланы в Сибирь гвардии сержант Варахеев за заложенное в банк чужое имение и склонение чужого дворового человека к воровству, гвардии капрал Юрьев за ложно проданного чужого дворового человека, поручик Тяпкин за продажу беглых, прапорщик Стоханов за подложную продажу чужого человека в рекруты. О прапорщице Скрипицыной, продавшей беглого чужого человека, императрица написала: «Посадить на две недели на хлеб и на воду и, если муж взять ее к себе не пожелает, сослать в Сибирь, лиша дворянства». Помещик Култашев лишен дворянства, заклеймен и сослан в каторжную работу вечно за убийство двоих родных братьев; жена его, бывшая виновницею ссоры, окончившейся убийством, сослана в женский монастырь в работу; сын их подпоручик Прохор, который хотя и отговаривал отца и мать от злого предприятия, однако принужден был сделать невольное послушание, лишен чина и записан в солдаты до выслуги. Лишен дворянства, чинов, фамилии, выведен на эшафот, положен на плаху, заклеймен и сослан вечно в работу отставной капитан Турбин за убийство крепостной своей девушки. Сослан в монастырь на покаяние отставной провиантмейстер Нелединский за то, что сек мать свою плетьми, а сестру бил палкою.
Этот длинный скорбный лист может быть объяснен скороспелым указом Петра III, которым позволялось дворянам выходить в отставку, когда захотят. На службе человек и с дурными наклонностями сдерживался дисциплиною служебною, не мог предаваться праздности, сдерживался самим обществом, в котором постоянно должен был находиться и которое необходимо расширяло его умственную сферу, увеличивало количество высших интересов, развивало его. Но теперь он имел возможность в молодых летах вырваться из-под служебной дисциплины и поселиться в деревне; из подчиненного, трепетавшего перед гневным взглядом старшего офицера, он становился полновластным господином над рабствующим, безгласным населением; чем более он был принижен на службе, ибо находился в низших чинах, тем более он должен был разнуздываться теперь; господином становился раб. Совершенная праздность, невежество, неуменье заняться чем-нибудь умственно и нравственно развивающим, отсутствие общества, которое могло бы развивать, в этих отношениях вели к нравственному падению. Женщины по страстности своей природы, по легкости, с какою они поднимаются вверх и спускаются вниз, были тут еще ближе к искушению, чем мужчины. Должно прибавить, что бедность при отсутствии нравственных сдержек могла сильно побуждать к преступлениям вроде сманивания крепостных, продажи беглых, пристанодержательства. Пронский дворянский предводитель доносил Сенату, что при собрании дворян для раскидки жеребьев к поставке рекрут явилось к нему более 200 дворянских сыновей с объявлением, что усердно желают вступить в службу, но только не в состоянии явиться, где надлежит, ибо некоторые из них ни платья, ни обуви не имеют. Сенат приказал: для сохранения вольности дворянства московскому губернатору поручить, чтоб он от этих недорослей отобрал челобитные об определении на службу. Новгородский губернатор Сиверс требовал указа, что повелено будет делать с малолетними дворянскими детьми, которых отцы по бедности своей пропитать не могут; Сенат приказал определять их в гарнизонные школы на казенное содержание.
Но, приводя этот скорбный лист, мы не можем не заметить, что преступления помещиков относительно крестьян не могли быть утаены и наказывались. Относительно преступлений крестьян против помещиков любопытно решение Сената в 1769 году: когда прочтена была выписка губернаторских рапортов, которыми доносилось о происходивших от крестьян и крепостных людей против помещиков непослушаниях, смертоубийствах, разбоях и грабежах, то Сенат приказал сдать выписку в архив, потому что об отвращении таких злодейств губернаторами надлежащие распоряжения сделаны. Отметим важнейшие случаи. В 1769 году в Симбирской провинции наказаны были крестьяне села Ишевки за непослушание помещице Кротковой. В то же время воронежский губернатор доносил о непослушании владельцам Нарышкиным малороссиян, поселившихся в слободах Красовке, Елани, Рудне и Краснояровке, из которых живущие в первых двух слободах командою в послушание приведены. В 1771 году подтверждено было постановление Петра Великого о непродаже крестьян без земли; в именном указе Екатерины говорилось: учинить запрещение как конфискации, так и всем авкционистам, чтоб отнюдь от сего числа одних людей без земли с молотка не продавали, чего всем градоначальникам смотреть накрепко. Относительно приписных к заводам крестьян было определено давать им деньги за те дни, которые они употребят на дорогу к заводам; и относительно приписки крестьян стали наблюдать осторожность, что видно из следующего решения Сената о Вознесенском медеплавильном заводе: послать указы к казанскому и оренбургскому губернаторам, чтоб они, снесясь друг с другом, представили сообща свое мнение, какие из крестьянских государственных селений, состоящих в их губерниях, удобнее приписать к Вознесенскому заводу, в каком расстоянии от заводов и одно от другого они находятся и сколько в каждом селении душ; причем губернаторы должны объявить, как они полагают: полезнее ли перевести крестьян к заводу или только приписать; Берг-коллегии приказать донести Сенату, есть ли при Вознесенском заводе столько пашенных и сенокосных земель и других угодий, чтоб ими душ до 1000 переведенцев безнужно можно было удовольствовать; коллегия должна донести и о том, какой способ к переселению крестьян она находит удобнейшим, и какое сделать им для этого вспоможение, и на каком основании. На востоке волнений заводских крестьян не видим, но зато обнаружилось сильное волнение на западе, на Петровских Олонецких заводах.
Первою причиною к волнениям здесь было принуждение крестьян сверх обычных работ ломать еще мрамор для построения Исаакиевского собора. Эта работа была с них сложена, но другие работы были усилены. С них стали требовать поставки 1000 куч уголья, тогда как кузницы могли издерживать только треть этого количества; они видели, что хотят строить четыре новые кузницы, тогда как руды на них не стало бы и на один год. Тут является между ними искатель приключений, известный банкрот Иван Назаров Елагин и начинает им внушать, что если они подадут просьбу императрице и предложат платить по три рубля с души, то будут освобождены от работы. Крестьяне поверили, послали просьбу и в ожидании ответа на нее начали отказываться от работы; это было летом 1770 года. Сенат отправил в приписные. селения следственную комиссию, которая донесла, что объявляли во всех селениях сенатский указ крестьянам о непременном и безотговорочном повиновении в исполнении всех налагаемых на них работ и прилагали всевозможное старание, чтоб крестьяне повиновались указу, но они отговариваются разными причинами и в работу идти не хотят, всего более виноваты в этом регистратор Назимов и крестьянин Калистратов; комиссия оканчивала свое донесение тем, что надобно употребить какую-нибудь строгость. Сенат был недоволен этим донесением, нашел, что комиссия не вступила ни в какое настоящее рассмотрение дела по данной ей инструкции, не исследовала, действительно ли крестьяне не в состоянии отбывать работы, не исследовала, достаточно ли их число для этого отбывания, также не видно в производстве дела комиссиею того усердия, какого требует важность порученного ей следствия, и потому решил, что так как заводы и крестьяне находятся в Новгородской губернии, то и предложить губернатору Сиверсу, чтоб он как хозяин губернии отправился на место, где комиссия производится, взял ее в свое ведомство и, рассмотря причину крестьянского ослушания, прежде всего постарался всевозможными средствами привести непослушных в должное повиновение, способы же, как удобнее это сделать, Сенат возлагает на известное его благоразумие и попечение. Потом, приведя крестьян в повиновение, губернатор должен рассмотреть их жалобы и отягощения заводскими работами и в случае действительной невозможности для крестьян исправлять заводские работы должен сделать вновь обо всем надлежащее и с благосостоянием крестьян сходственное учреждение.
Сиверс не отправился на место производства следствия. В письме своем к императрице он говорит, что его оклеветали перед нею, будто бы он не хотел ехать на место следствия, тогда как он именно просился туда ехать. Немного дней спустя он получил приказание императрицы ехать на польскую границу. Несмотря на то, он рассмотрел дело и высказал свое мнение о средствах успокоить умы, но мнение это было отвергнуто с жесткостью. Сиверс оканчивает письмо словами: «Я решился молчать и молчал бы, если бы не слыхал глухих жалоб, которые причины должны быть важны, если жалобы слышатся так издалека». Мнение Сиверса, пересланное им в Сенат, состояло в следующем: главная причина ослушания крестьян состояла в чрезвычайно тягостном и беспорядочном наряде работников и поставке материалов в самую рабочую пору; крестьяне, лишаясь таким образом возможности снискивать пропитание от своих земледельческих занятий, пришли в отчаяние, тем более, что хотя и состоялась новая оценка для уплаты за работу на заводах, но до них известие об этом еще не дошло. Другою причиною отчаяния этого несчастного народа были непорядки правления Петрозаводской канцелярии. Третьею причиною можно принять посланную туда потом комиссию из трех разного звания людей, которые упражнялись в переписках и действовали не с тем согласием, какого можно было бы надеяться в том случае, если б отправлена была одна знатная особа. Сенат, получа это донесение, подал императрице доклад: «Хотя Сиверс о главных причинах неустройства и непослушания доносит, но так как он сам на месте не был, то Сенат мнения его утвердить не может и решает отправить туда из генералитетских чинов особу, которой поручить ту комиссию в полную дирекцию, и для этого избирает генерал-майора Лыкошина». Императрица утвердила доклад.
Это распоряжение об отправке Лыкошина было последним в 1770 году. В самом начале 1771 года генерал-прокурор получил именной указ: из прошения государственных крестьян ведомства канцелярии петровских заводов ее в-ство усмотреть изволила, что из тех же крестьян определены и к каменной ломке вновь для строения здешней соборной Исаакиевской церкви, и потому указать соизволила, что такое этих крестьян определение нимало с намерением ее в-ства не сходствует, тем более что ее в-ство и стат. совет. Кожину, представлявшему о таком распоряжении, именно отказала, повелев мраморную ломку производить вольнонаемными людьми. Но через неделю после этого Сенат слушал донесение следственной комиссии при петровских заводах, что крестьяне еще в начале 1770 года освобождены от мраморной ломки и напрасно утруждали императрицу своим челобитьем, что, как мы видели, подтверждается и письмом Сиверса.
С марта начались донесения Лыкошина. Он причиною всех неустройств, запущенных доимок и отчасти дерзости полагал то, что хотя старосты определяются по мирскому выбору, но эти выборы превратились в один обряд, а в действительности старосты определяются теми крестьянами, которые почитаются в волостях первейшими и богачами, большею частью из преданных им креатур, исполняющих потому их волю, безграмотные и такие бедные, что по начетам взыскать с них нечего; сами же богачи, управляя ими, что хотят, то и делают. В доказательство Лыкошин представил поданное ему от Шуйского погоста донесение с указанием, какую власть и силу имеет в том погосте крестьянин Коротяев. Чрез несколько дней после этого Лыкошин доносил, что все его старания усмирить волнующихся крестьян безуспешны, что с крестьян сказки взяты. Из этих сказок было видно, что надворный советник Елагин брал подписку от крестьян, обнадеживая их, что представит ее в собственные руки императрицы и исходатайствует удовлетворение их желанию, чтоб вместо зарабатывания положенных на них окладов заводскими работами платить им по три рубля с души; и вообще своими разговорами Елагин подал немалый повод ко крестьянскому волнению и ослушанию; кроме того, укрывал в своей квартире приходивших в Петербург просителей, несмотря на данную им в Сенате подписку. Лыкошин требовал также отрешения полковника Винтера, который, будучи главным членом комиссии и зная поступки Елагина, не удерживал его от них. Сенат исполнил требования Лыкошина.
Вследствие безуспешности увещаний Лыкошин отправил для усмирения крестьян команду под начальством капитана Ламсдорфа. Прибыв в село Кижи, команда нашла толпу народа тысяч до пяти, вооруженную винтовками, рогатинами и другим оружием; толпа встретила команду бранью и угрозами перебить всех солдат, требовала, чтоб именной указ был прислан прямо в руки крестьян. Ламсдорф, находя свою команду слабою, принужден был отступить; крестьяне провожали отступавших верст восемь криками: «Счастливы, что стрельбы не начали!» Сенат, получив об этом известие, приказал отправить к возмутившимся капитан-поручика Ржевского с подлинным манифестом, если не будут верить печатному. Но Ржевский не должен был отдавать манифеста никому из крестьян в руки, а хранить при себе; должен был читать печатный манифест там, где будет больше волнующегося народа, не обращая внимания на многолюдность скопища и вооружение; где есть церкви, заставлять читать священников или дьяконов, а где нет, то старост в земских избах; если же будет очень много народу, то на сборных площадях, внушая всем и каждому, что преступление их было следствием научения коварных людей из их же братьи; что как скоро все придут в повиновение, то жалобы их немедленно будут рассмотрены; в противном же случае не будет им никакой милости. После этого Лыкошин уведомил Сенат, что крестьянам по жалобам их делается всякое удовлетворение. Понявши это, они 15 июня при доношении от 8990 душ подали в комиссию объявление, где говорили, что признают свой проступок, что были обмануты ложными обнадеживаниями своих же собратий, и так как теперь они приведены в лучшее положение, то обязываются быть послушными во всем. Лыкошин писал, что со времени прибытия Ржевского пришли еще в повиновение 3105 душ и безотговорочно вступили в работы; для приведения же в повиновение остающихся непослушными крестьян послан полковник кн. Урусов. И на это донесение Сенат отвечал: стараться, сколько возможно, привести в повиновение и остальных крестьян без строгости и жестокостей; все силы употребить для скорейшего рассмотрения и удовлетворения крестьянских жалоб и тем окончить все их неудовольствия. Но желание Сената не исполнилось: комиссия донесла, что кн. Урусов, прибыв с командою в Кижскую треть, сколько ни прилагал старания привести крестьян к должному повиновению кроткими средствами, цели своей не достиг, почему принужден был приказать выстрелить из пушки и лишить жизни некоторых крестьян, после чего остальные объявили себя послушными и уже вступили в работу.
Сиверс не переставал ходатайствовать за крепостных крестьян; он писал императрице: «Позволение, данное дворянам посылать на поселение, кого им угодно, из своих крестьян, причем судья не смеет спрашивать: за что? – это позволение производит ежедневно трогательные зрелища. Крестьянин, которого нельзя сдать в рекруты по малому росту или другому какому-нибудь недостатку, должен отправляться в ссылку в зачет будущего набора, которого помещик боится в будущем году, и многие даже продают эти квитанции. Признаюсь, не проходит дня, чтоб сердце мое не вооружалось против такой привилегии. Сибирь выигрывает относительно мало, если обратить внимание на расстояние и потери в людях на дороге». Сенат принял другую меру для заселения Сибири. Он сделал запрос Коллегии экономии, сколько в Московской провинции таких экономических сел и деревень, которых жители имеют недостаток в земле, и сколько из них в другие места выселить можно. Коллегия отвечала, что она представит об этом немедленно по собрании справок, прибавив, что и по одному Московскому уезду оказывается значительный недостаток в землях. На это Сенат приказал: предписать Коллегии экономии, чтоб она представила как можно скорее сведение, сколько крестьянских семей за недостатком земель можно выселить в Сибирь, чтоб Сенат мог основательно донести императрице, как удобнее заселить ими нужные места в Сибири и как, напротив того, мало пользы может принести прием на поселение помещичьих людей и крестьян, когда бы он возобновился.
Заводские крестьяне волновались, жалуясь на невыносимую тягость работ, и в то же время крестьяне, бегавшие от разного рода тягостей, находили убежище на заводах. Серпейская воеводская канцелярия доносила, что на заводах Демидова явно принимают и содержат в работе беглых, а притом дают им и подложные паспорты.
В городах не было спокойно. Новгородский губернатор Сиверс донес Сенату об обидах, озорничествах, побоях и убийствах, причиненных разным помещикам тихвинскими жителями. Сенат приказал назначить следствие и прибавил: так как из этого представления и из прежних дел усматривается, что такое неустройство, драки и убийства происходят от колокольного набата, производимого безо всякой нужды и без дозволения властей, тогда как звон в набат позволяется только в случаях пожаров, неприятельских и разбойничьих нападений, то обнародовать указы, чтоб впредь, кроме означенных случаев, никто не смел бить в набат при начале частных ссор и драк. Подполковник Рязанов, посланный с командою для доставления в Саратов подрядных лесов для колонистов, подал жалобу, что на дороге в Сызрани городские жители прибили его, ограбили и сожгли бывшие при нем бумаги. Но в то же время поступили доношения от сызранских купцов, пахотных солдат и городового депутата, что Рязанов и команда его сильно обижали граждан, позволяя себе насилия над женщинами и девицами. Смоленский губернатор доносил, что в Вязьме у тамошнего купечества и магистратских присутствующих происходят большие ссоры и драки с находящимися там воинскими чинами; кроме того, откупщик Барышников жалуется на учрежденного там от купечества под магистратским ведомством полицейского старосту Зуева, который поступает против заключенного с Барышниковым контракта, попускает купцам производить многие драки для защиты корчемников. Для прекращения этого губернатор предлагал не раз вяземскому магистрату сдать полицейское управление воеводскому товарищу, который будет зависеть от губернатора, но магистрат не слушается и употребляет в своих представлениях неприличные выражения и нарекания, относящиеся к нему, губернатору. В то же время вяземский магистрат, жалуясь на губернатора, просил оставить полицейское управление в своем ведомстве по силе магистратского регламента. Сенат решил: довольно видны вяземского магистрата губернатору ослушания, укоризны и дерзкие выражения, лицу и власти губернатора как хозяина в губернии неприличные, и для того послать указ в главный магистрат об отрешении настоящих членов вяземского магистрата и определения на место их других по выбору тамошнего купечества, причем Главный магистрат должен нарядить от себя нарочного депутата для произведения следствия над смененными; других следователей должен назначить губернатор. Дерзость вяземского магистрата состояла в том, что он писал к губернатору, как три раза доносил ему о незаконных высылках вина и причиненных Барышниковым двоим купцам разорениях, о других обидах и неплатеже положенного оклада; но губернатор оправдал во всем Барышникова и поручил полицейское управление вяземскому воеводскому товарищу Богданову, большому приятелю Барышникова, на что магистрат не согласился и послал просьбы в Главный магистрат и самый Сенат.
Но далеко не так остался доволен Сенатом белгородский губернатор Фливерн в столкновении своем с членами курского магистрата. Фливерн жаловался, что курский магистрат не допустил записаться в купечество и в цех курских однодворцев, которые уже устроили кожевенные заводы, сапожное и другие ремесла; губернатор просил наказать членов курского магистрата и подтвердить Главному магистрату, чтоб в приписке этих однодворцев в цех не было запрещения. Но Сенат решил: так как из показанных с обеих сторон обстоятельств он не находит побудительных причин к наказанию курского магистрата, напротив, представляемые последним основания находит справедливыми, то означенных однодворцев, исключа из цехов, возвратить опять в прежнее состояние, и так как подобные дела по существу своему принадлежат исключительно магистратам, то губернатору вперед отнюдь в них не вступаться.
Из Каргополя пришло известие, что там страшные непорядки между купечеством, по соляному сбору и по прочим делам упущения и казнокрадства; купцы били тирански секретаря Пятницкого, и когда губернатор назначил следствие, то доноситель копиист Попов найден в реке с камнем на шее; а крестьяне, одобряя воеводу, товарища его и секретаря, просили, чтоб купеческим затейным просьбам не верить, купцы несправедливо показывают, будто воевода, товарищ его и секретарь притесняли крестьян. Рыльская воеводская канцелярия доносила, что тамошние купцы Выходцевы, собравшись многолюдством, не пустили к себе команду, посланную для выемки у них корчемного вина, и вообще делают откупщикам многие обиды и озорничества, а рыльский магистрат, потворствуя им, нужных к следствию людей не присылает.
Продолжавшиеся жалобы на мироедов по-прежнему обличали слабость городовой общины, недостаточную еще способность к самоуправлению. Гжатские купцы Санбуровы, Гурьев и Емельянов жаловались на присутствующих тамошней ратуши, что они завладели принадлежащими купечеству землями; с тех амбаров и лавок, которыми владеют, десятой части в казну не платят; места отводят под поселение неудобные; в торгах делают препятствия; двоих капитальных купцов по злобе отдали на поселение с зачетом в рекруты. Тамбовские купцы Иван Меньшой Кузьмин, Василий Расторгуев, Матвей Бородин и Григорий Беляев доносили, что бургомистр тамбовского магистрата Толмачев тамбовским купцам Бородиным, Расторгуевым и Беляеву дал аттестаты для их торговых промыслов и подрядов не против их капиталов, но с большим излишеством и теперь из тех купцов Расторгуев поехал для откупа питейных сборов. Сенат приказал: 35 человек тамбовских купцов показали, что аттестаты подписаны Толмачевым без согласия всего купечества, единственно только потому, что Бородин и Расторгуев без совету прочих купцов, ходя по домам и лавкам, собирают подписки, чтоб быть Толмачеву бургомистром, чего купечество не желает; следовательно, заключает Сенат, нельзя увериться, чтоб означенные аттестаты были справедливы, тем более что и по нынешнему содержанию упомянутыми купцами питейных сборов состоит на них доимки около 9000 рублей; так как поэтому к торгам питейных сборов их допускать сомнительно, то пусть Главный магистрат рассмотрит немедленно, аттестаты им даны согласно ли камер-коллежскому регламенту.
Мы видели, что с самого начала войны внутренняя охрана была ослаблена, вследствие чего надобно было ожидать умножения разбоев. Лихвинская воеводская канцелярия дала знать о разбитии 7 человек купцов разбойническою шайкою в 30 человек. Вслед за тем Сенат получил известие, что по рекам Волге, Каме и Белой оказались великие разбои, железным караванам Демидовых и Твердышева чинятся грабежи и находящимся на них людям разные мучительства; Сенат приказал казанскому и нижегородскому губернаторам препятствовать и ловить, но легко ли было исполнять приказание? Около Саратова в колониях явились разбойничьи шайки, двух человек убили, несколько селений с хлебом и скотом сожгли, грозя и вперед делать то же. На Каме насчитывали 14 разбойничьих шаек, в каждой от 7 до 15 человек. Разбои начались в Шатском и Касимовском уездах и в Темниковском лесу. Так было в 1769 году. В следующем 1770 казанский губернатор донес, что по рекам Вятке, Каме, Волге и Суре весною появились разбойничьи многолюдные шайки, которые убивают и разоряют обывателей, для поимки отправлены команды и 38 разбойников поймано. Осенью разбойники напали на Фролищеву пустынь (Владимирской епархии), всю разграбили, строителя били мучительски, допытываясь денег. Тогда же получены были известия о разбоях в Слободско-Украинской, Воронежской губернии, в Уфимской и Галицкой провинциях. Потом появились в Балахне, в Тамбовском уезде. Сила и дерзость их дошла до того, что они напали на Кайгород, разорили и пожгли обывательские дома, пограбили деньги соляного сбора.
Но недостаточность войска для охранения порядка всего яснее оказалась в Москве во время бедствия, причиненного также турецкою войною. Мы видели, что русское войско по вступлении в Молдавию встретило там врага гораздо опаснее турок – чуму. В конце лета 1770 года она перешла русские границы, быстро распространилась по Малороссии, начала появляться и на границах Великой России, в Севске и Брянске. Московскую губернию с юга окружили заставами, приняли обычные карантинные меры, велено было и самую Москву обнести палисадником или рогатками, но последняя мера осталась без исполнения. В конце года (17 декабря) чума появилась в отдаленной части Москвы, в Лефортове, в малом госпитале, находившемся на Введенских горах. Главный доктор госпиталя Шафонский дал знать медицинской конторе об опасной болезни, дал знать и обер-полицеймейстеру Бахметеву, а тот донес главнокомандующему в столице графу Петру Семен. Солтыкову, что, по словам доктора, с 17 декабря в госпитале умерло 14 человек опасною болезнею и двое больных остаются. 22 декабря Солтыков писал императрице: «Имеющий дирекцию над госпиталью генерал-майор Фаминцын приехал только сегодня поутру и подал рапорт, ничего значащий и что у них ничего опасного нет. В. и. в-ство изволит усмотреть из рапортов обер-полицеймейстера, да и от медицинской конторы, что зараза уже началась в ноябре месяце. Фаминцын все знал и для чего таил? Г. обер-полицеймейстер – человек весьма проворный и рачительный; я бы желал, чтоб все здешние правители так были исправны и мне в таких нужных обстоятельствах помогали».
В тот же самый день, 22 декабря, собрали совет из медиков – Эразмуса, Шкиадана, Кульмана, Мертенса, фон-Аша, Венемианова, Зыбелина и Ягольского; единогласно было решено, что болезнь должно считать моровою язвою. То же самое доктор Мертенс подтвердил Солтыкову и советовал ему оцепить госпиталь, что и было исполнено. 25 декабря, донося об этом распоряжении, Солтыков писал императрице: «Не надеясь на себя, призывал я доктора Мертенса и требовал его совету, который мне и дал на все то, что уже сделано; кроме того, он требует, чтоб въезд в Москву всем запретить, что никоим образом сделать неможно: в таком великом городе столько людей, кои питаются привозным харчем, кроме помещиков, и те получают из своих деревень; товары к портам везут чрез Москву; все – мясо, рыба и прочее – все через здешний город идет; низовые города – Украйна – со всех сторон едут; воспретить невозможно. Из Украйны же проезд, кажется, необходим: кроме курьеров армия требует многого, необходимо посылать должно кого для подрядов и приему вещей в полки».
Наступил 1771 год. Из Москвы стали приходить успокоительные известия; 4 января Солтыков писал: «Ныне оная болезнь утихает, холодное время немало тому способствует, уже несколько дней на Введенских горах более о ней не слышно. Приезжающих из опасных мест велено везде гвардии офицерам накрепко осматривать; но из едущих ни один не имеет нималого виду, хоть бы билет или паспорт; здесь же, около Москвы, от полиции заставы, а как ныне зима, все рвы снегом занесло, то везде переезды, а конного разъезда учредить не из чего, ибо и последний полк почти весь в расходе». 15 января главнокомандующий доносил: «В госпитале на Введенских горах, где было оказалась язва, и там все кончилось. О болезни же прямо донесть не могу, там была или нет, пока же, кроме двух подлекарей, кои и ныне там заперты, никто там не бывал. Главного госпиталя доктор (Шафонский) просил медицинскую контору, чтоб освидетельствовать, но ни один доктор не поехал, и рассуждали заочно. Ныне я призывал здешнего физикуса (Риндера) и посылал туда; он ездил, но только с госпитальным доктором через огонь говорил, и тот его упрекал, что по многим посылкам ни один не был».
Холода прекратили болезнь; но вот уже февраль, начинает таять, с теплом язва может вернуться; и Солтыков предлагает против этого меры. 7 февраля он пишет императрице: «Весна приближается; не изволите ли приказать всех больных (т. е. из госпиталя) из Москвы вывесть по разным монастырям верст от 15 до 50 по малому числу в каждый, отрядив лекарей, что монастырям никакой тягости не учинит, ибо малое число больных будет на чистом воздухе, а Москва и без госпиталей довольно нечистот имеет, оный же госпиталь весьма в неудобном месте, вверху Яузы, откуда нечистота идет в город. Не худо бы и праздношатающихся из города к весне убавить: город людный, строение мелкое и тесное». Императрица не согласилась на перемещение больных в окрестные монастыри, и Солтыков от 28 февраля дал знать, что главный госпиталь от караула освобожден и больных туда принимать велено; в малом же госпитале на Введенских горах два покоя, где была заразительная болезнь, а с прочими находящимися в той же связи ветхими и почти ничего не стоящими покоями, со всем, что в них было, сожжены по совету генерал-кригс-комиссара Глебова и обер-полицеймейстера Бахметева.
В то время как огонь истреблял ветхое строение малого госпиталя на Введенских горах, язва похищала свои жертвы в самой средине Москвы. 13 марта Солтыков донес: «Сего марта 10-го получил я от доктора Ягельского рапорт о оказавшейся в Большом суконном дворе, что близ Каменного моста на берегу Москвы-реки, прилипчивой болезни, коею померло с января месяца по нынешнее число 123 человека да больных осталось 21». Солтыков послал туда пять лекарей, которые по осмотру заключили, что болезнь есть гниючая, прилипчивая, заразительная и очень близко подходит к язве. В Москве, как мы знаем, с 1763 года было два департамента Сената, пятый и шестой, которым принадлежало принятие мер в важнейших случаях. Главнокомандующий созвал всех сенаторов, и решили: 1) хотя больных по монастырям развести указом ее и. в-ства и не позволено, однако по крайней нужде надобно всех больных вывесть из Суконного двора в Угрешский монастырь (на что согласился и московский архиепископ Амвросий); 2) здоровых всех вывесть в наемный дом за Мещанскою улицею в поле, определя к ним лекаря и оцепив их; 3) покинутый Суконный двор оцепить. Но прежде чем были приняты эти меры, около 2000 фабричных с Суконного двора разбежались и стали жить по всему городу, вследствие чего уже поднято было на улицах несколько трупов. Доктор Ореус и штаб-лекарь Граве, наблюдавшие чуму на юге в армии, донесли Солтыкову, что на московских больных те же самые знаки, какие они видели на чумных в Хотине. Солтыков объявил об этом сенаторам московских департаментов, и было решено: как содержащихся в карантинных домах, так и ушедших с Большого суконного двора фабричных с их хозяевами, у которых они имели пристанище, перевесть в три монастыря, отдаля больных от здоровых, и действительно зараженных язвою поместить в Угрешском монастыре; служителей, назначенных к отводу опасно больных, также медиков одеть в приличное платье, которое бы предохранило их от опасности. Чтоб фабричные на св. неделе не шатались по городу и не сообщались с бежавшими с Суконного двора, всем фабрикантам объявлено, чтоб они всю неделю не пускали своих рабочих с фабрик. Пока укрывшиеся с Большого суконного двора фабричные не будут собраны и не восстановится безопасность, во всем городе закрыть торговые бани; внутри города запрещено погребать вообще умерших.
Получив эти известия, императрица приказала предложить Совету следующие меры, чтоб, сколько возможно, остановить распространение заразы: 1) установить карантин для всех выезжающих из Москвы верстах в тридцати от этой столицы как по большим, так и проселочным дорогам; 2) Москву, если возможность есть, запереть и не впускать никого без дозволения гр. Солтыкова; 3) обозы со съестными припасами останавливать в семи верстах от Москвы в назначенных местах: сюда московским жителям приходить и закупать то, что им нужно, в назначенные дни и часы; 4) на этих местах московская полиция должна между покупщиками и продавцами разложить большие огни и сделать надолбы; должна наблюдать, чтоб городские жители до приезжих не дотрогивались и не смешивались вместе, деньги обмакивать в уксус; 5) московский архиерей должен по отправленному из Синода формуляру приказать читать по церквам молитвы о прилипчивой болезни во всей своей епархии, дабы народ еще больше остерегался от опасности; то же велеть делать во Владимирской, Переяславской, Тверской и Крутицкой епархиях. Для города Петербурга установить на Тихвинской, Старорусской, Новгородской и Смоленской дорогах во ста верстах карантин, хотя семидневный, и если не окажется болезни, то пропускать, окуривая людей и вещи, обмакивая в уксус письма и прочее, как положено будет. Тотчас после просухи вывести все воинские команды в лагерь не в ближнем и не в дальнем расстоянии от города, всякий полк или команду особо, и для того заранее выбрать места и дать повеления. Хорошо было бы, если бы и морское начальство то же сделало. Под воинскими командами разумеются здесь и полки гвардии. Совет, рассуждая об этих мерах, решил представить императрице, не угодно ли будет в Петербурге назначить особу, которая была бы в состоянии независимо от предписаний своею расторопностию принимать все нужные меры: В ведении этой особы будут заставы, которых всего лучше устроить три: в Чудове, Бронницах, Твери и Ладоге; что же касается Москвы, то пункты ее в-ства послать фельдмаршалу Солтыкову с тем, что «сие предписание предподается яко способы ко употреблению по усмотрению на месте, поелику распространение болезни требовать будет по оным исполнения».
В то же заседание Совета 28 марта приглашены были доктор Ореус и московский губернатор Юшков. Первый объявил, что по долгу и званию своему признает болезнь заразительною и что сам больных осматривал. Юшков донес, что московские медики на этот счет между собою не согласны.
Императрица согласилась со мнением Совета, и карантинное устройство было поручено генерал-поручику гр. Брюсу. Совет еще прежде, 21 марта, рассуждал, что по старости гр. Солтыкова охранение Москвы от заразы надобно поручить кому-нибудь другому, но остановился затем, что это будет предосудительно главному командиру. Но императрица не остановилась, и распоряжение всеми мерами против чумы в Москве было поручено генерал-поручику сенатору Петру Дмитр. Еропкину.
Солтыков признавал необходимость внутренних мер очищения Москвы как от зачумленных, так и от условий, благоприятствующих распространению заразы, но по-прежнему стоял против оцепления столицы как невозможного по ничтожному количеству войска, крайне стеснительному и могущему потому повести к волнениям. Он писал императрице 4 апреля: «В установлении карантина для всех выезжающих, кажется, надобности нет, а более в том неудобство; также въезд в Москву запретить весьма опасно: почти весь город питается покупным хлебом; ежели привозу не будет, то будет голод, все работы станут, за семь же верст никто не пойдет покупать, а будет грабить; и без того воровства довольно. Москву запереть способу нет, городу нет, Белый разломан, войска нет, кем окружить? Лучше, чтоб разъезжались по деревням на чистый воздух, в городе тесноты менее будет».
Солтыкову не понравилось назначение Еропкина, что видно из письма его от 21 апреля: «Как по повелению в. в-ства все оное поручено генерал-поручику сенатору Еропкину, предосторожности же все сначала взяты, кажется, больше нечего делать, только ему остается наблюдать учрежденное, того ради все от меня ему попечение поручено, только чтобы меня уведомлять в известие».
Между тем ход болезни в Москве был такой: от 7 апреля Солтыков доносил, что, кроме Угрешского и Симонова монастырей, умерших и больных нет. 18 апреля писал, что вывелено из Москвы фабричных в Симонов, Данилов и Покровский монастыри 943 человека обоего пола. 25 мая в Петербурге в первом департаменте Сената читалось ведение московских департаментов, что так как теперь большая часть работников, бежавших с Суконного двора в карантины, уже собрана и несысканных осталось очень немного, то в удовольствие обществу разрешено топить бани. 30 мая Солтыков прислал утешительное известие, что в карантинных монастырях умерших и вновь заболевших никого нет, только в Угрешском 9 человек больных. Поэтому последовал указ императрицы распустить фабричных, содержавшихся по карантинам в Покровском и Даниловом монастырях, и позволить им жить всюду по частным квартирам, что и было исполнено. Но с двадцатых чисел июня в Симонове монастыре опять появилась язва: умерло 10 фабричных, заболело 6. С этих пор болезнь начала усиливаться. Еропкин действовал неутомимо, сделал все, что мог, учредив крепкий, по-видимому, надзор за тем, чтоб каждый заболевший немедленно препровождался в больницу, или так называемый карантин, вещи, принадлежавшие чумным, истреблялись немедленно; но ни Еропкин, никто другой не мог перевоспитать народ, вдруг вселить в него привычку к общему делу, способность помогать правительственным распоряжениям, без чего последние не могут иметь успеха; с другой стороны, ни Еропкин, никто другой не мог вдруг создать людей для исполнения правительственных распоряжений и надзора за этим исполнением – людей, способных и честных, которые бы не позволяли себе злоупотреблений. Жители Москвы не столько боялись чумы, сколько больниц, или так называемых карантинов, и потому скрывали больных, не объявляли о них начальникам, которых Еропкин поставил в каждой части города. Другие, оставляя больных одних в домах безо всякой помощи и попечения, сами разбегались и разносили повсюду болезнь и ужас. Иные скрытно выносили из домов мертвых и кидали на улице для того, чтоб не лишиться зараженных пожитков и не подвергнуться осмотру назначенных для того людей. Какого же рода злоупотребления позволяли себе последние, это обозначено в манифесте императрицы: «Наша воля есть, чтоб при осмотре домов и при вывозе в карантин и тако на месте со всеми поступлено было со стороны начальников и приставленников со всем возможным человеколюбием и попечением и чтоб всякий по своему состоянию все к жизни нужные выгоды имел. Всякое же угнетение, утеснение, грубость и нахальство всем и каждому запрещаем употребить, наипаче же паки и паки наистрожайше запрещаем всем начальникам и подчиненным брать взятки, вынуждать у кого бы то ни было деньги и лихоимствовать под каким бы то предлогом ни было как при осмотрах, так и при выводе в карантин… Слух же есть, что таковых беспорядков много ныне на Москве».
От 2 августа Солтыков писал, что в доме у самого Еропкина оказалась чума и потому этот генерал отказывается от исполнения своих обязанностей; Еропкин писал Брюсу, что с таким малым числом людей, какое у него, нет возможности действовать с успехом. Совет решил послать Еропкину рескрипт с убеждением остаться при должности, несмотря на то что чума оказалась у него в доме; решил также назначить в помощь Еропкину сенатора Собакина и, кроме того, отправил к нему из Петербурга 12 человек гвардейских офицеров для исполнения его поручений. Московский медицинский совет представил о необходимости в кабаках продавать вино из окон, не впуская покупателей в двери, перевести экономическую слободу, построенную подле Земляного вала, выбрать из хороших господских людей в десятские для ежедневного осмотра домов; для погребения умерших от чумы и к отвозу зараженных в больницы употребить каторжных. В Петербурге Совет одобрил все эти меры, кроме последней, соглашаясь на употребление каторжных только разве для копания могил. Тогда же запрещено было вывозить из Москвы какие бы то ни было товары, зараженные домы велено окуривать преимущественно серою; едущие в Петербург курьеры должны были объезжать Москву.
Мы видели, что весною оцепление Москвы было предложено Солтыкову на его благоусмотрение, во сколько этого будет требовать распространение болезни, и тогда Солтыков признал оцепление бесполезным и невозможным. Но теперь при усилении болезни, ввиду опасности, которая грозила другим областям и Петербургу, императрица сочла необходимым предписать московскому начальству это оцепление. 25 августа, присутствуя в Совете, она объявила, что «хотя не надеется, чтоб была в Москве действительная язва, но за потребно почла, однако ж, принять все к истреблению продолжающейся там болезни меры, дабы не быть ответственною в упущении оных». Солтыков и тут не соглашался на оцепление. 30 августа он писал: «Карантины ныне учреждать нужды не видится, да уже и поздно: из Москвы почти все выехали, да и подлость вся бежит, маркитантов и хлебников мало осталось, и все боятся карантинов, магазейнов запасных нет, никто в город не едет, не без опасности голоду, зима приходит, дров не везут, народ уже и так уныл и обробел, карантины здешнему народу всего тяжеле, уже несколько и грозились на заставы». Московские сенаторы разделяли взгляд фельдмаршала и представили императрице о невозможности оцепления Москвы, ибо тому препятствуют положение города, состояние домов, жителей, их нравы и обычаи. 5 сентября Екатерина сама принесла в Совет только что полученные из Москвы реляцию Солтыкова и доклад московских департаментов Сената о невозможности оцепления, также письмо Еропкина к Брюсу, где говорилось, что в Москве в двое суток умерло опасною болезнею 207, а другими болезнями – 615 человек. Совет определил предписать Московскому сенату и тамошнему начальству: 1) что карантинные домы необходимы, и потому не только надобно оставить все прежние, но учреждать и новые, причем обнародовать, чтоб все жители объявляли тотчас частным надзирателям о больных для медицинского освидетельствования и отдаления заболевших, если болезнь окажется опасною или сомнительною; что всем тем, которые будут это исполнять, отдается на волю идти в карантин или оставаться дома, не сообщаясь, однако, ни с кем в продолжение 16 дней, но утаивающие о болезни непременно будут отвозимы в карантины; для одной комнаты, где кто умрет опасною болезнею, целые дома не запирать, особенно когда строение разделено на части; 2) карантинные около Москвы заставы также нужны для охранения всей империи и должны быть учреждены по всем дорогам из Москвы в первых от Камер-коллежского вала селениях; 3) отнюдь не надобно впускать в Москву приходящие из других мест с запасами обозы, а определять им места вне Камер-коллежского вала, где они от городских жителей должны быть отделены еще надолбами, и торг должен производиться в присутствии полиции; 4) харчевники, хлебники и квасники – одним словом, все торгующие съестным не могут считаться праздными и излишними в городе людьми, а потому и нельзя их оттуда выпускать свободно, особливо в таком бедственном состоянии; нужно по крайней мере, собравши там остающихся, распределить их на части и установить между ними старост, которые бы за ними смотрели и за них отвечали; 5) хотя и нельзя ожидать, чтоб теперь в Москве мог случиться недостаток в съестных припасах, потому что обыкновенно там все запасается от зимы до зимы, а теперь тем более быть может достаточно, что значительная часть жителей разъехались по другим местам, однако на случай крайности можно сделать наряд поставки туда припасов с ближних городов и селений и назначить места этим подвозам, где бы высылаемые из города, платя им деньги по обыкновенной цене, принимали от них припасы.
Императрица сама сочинила ответ Московскому сенату в опровержение его мнения о невозможности оцепления Москвы. «За первый долг, – говорилось здесь, – почитаем мы пред богом и от него нам вверенным народом иметь попечение о благополуции и здравии наших верных подданных. И для того и при нынешних трудных обстоятельствах не с унылым духом, но с душою, наполненною памятствованием о должности своей и любви к государству, с духом, который в печали своей о теперешних московских обстоятельствах не может находить спокойствия и утешения в пустых сожалениях и воздыханиях, но находить отраду, единственно ища с бодростию и предписуя с твердостию все те меры и осторожности, кои человеческий смысл может только привести в память, для пресечения в столице нагубы рода человеческого и для предостережения, чтоб далее в империи не распространилась. Из сих источников вышли те предписания, кои наш Сенат находит неудобными. Мы ведаем из опытов, что, бесспорно, великая препона быть может скорому учреждению наших предписаний обширность города, но мы притом же ведаем, что наипаче вредно оставлять полезное учреждение для того, что трудно его учредить. Состояние домов, нравы, застарелые обычаи преумножают трудности по причине той, что надлежит входить в подробности, дабы сравнивать с одной стороны выгодности и покой жителей с ненарушимостию того, что установить желается. Но как для порока или слабости, какого бы то звания ни были, не должно отстать, еще менее уничтожить доброе и полезное учреждение, то и в нынешнем случае надлежит преодолеть препятствия, а не ими стращаться и наипаче стараться, чтоб исполнители честные точно, бескорыстно и усердно исполняли всякий то, что ему поручено, за чем начальники смотреть имеют наикрепчайше; да и не токмо они, но и всякий в правительстве участвующий, ибо все присягою и честию обязаны всякий вред пресечь и всякому добру подать руку помощи для истребления зла, вредящего обществу, следовательно, самому ему. Не ныне нам ослабевать и опускать обремененные руки для собственного покоя, но да приложат всякий смысл помогать учреждению, сделанному для общей безопасности от мора».
Между тем в Москве 1 сентября Еропкин предложил сенаторам: не угодно ли будет для скорейшего истребления заразительной болезни московскому купечеству приказать, чтоб оно для занемогающих купцов учредило по возможности на свой кошт карантинные домы и лазареты. Приказали: призвать в Сенат из Московского магистрата президента и с ним лучших первостатейных купцов человек с 10 и, объявя им упомянутое предложение, увещевать, чтоб они согласились принять на свой кошт учреждение карантинов и лазарета; кроме того, склонять через полицию и других слободских обывателей, не пожелают ли и они учредить карантины и лазарет на свой счет. Потом Еропкин предложил, что по множеству умирающих от заразительной болезни осужденных на поселение преступников, назначенных для вывоза и погребения тел, слишком мало, и потому, так как теперь работа на фабриках прекратилась, не угодно ли будет Сенату определить для этого фабричных в каждую часть по 20 человек с платою по 6 коп. на день. Сенат согласился. Этот Сенат состоял кроме самого Еропкина еще из трех членов: Собакина, графа Ив. Воронцова и Рожнова; но тогда же, 1 сентября, Собакин, назначенный, как мы видели, помощником Еропкина, объявил, что у него в доме оказалась на людях опасная болезнь, почему он больше не будет исполнять порученной ему комиссии и присутствовать в Сенате. На другой день, 2 сентября, в Сенате присутствовали трое: кн. Козловский, Рожнов и Еропкин; и последний сообщил печальное известие: во время осмотра доктором Шафонским и гвардии капитаном Волоцким в Лефортовской слободе опасно больных и умерших госпитальный комиссар поручик Кафтырев, Вотчинной коллегии канцелярист Прытков, конторы строения домов и садов капрал Раков, отставные конюхи Петров и Пятницкий, собравшись большою толпою, наглым и дерзким образом не допустили Шафонского и Волоцкого до осмотру, крича, будто Шафонский и другие лекари дают в госпитале больным и здоровым порошки с мышьяком и от них заражаются жители тамошних слобод. Сенат приказал Кафтырева содержать две недели на хлебе и на воде, других наказать плетьми. Обер-полицеймейстер Бахметев донес, что при запечатании на Красной площади ларей со старым платьем, которым про изводится торговля, один из продавцов, синодальной конторы солдат, бросил из-за людей камнем и проломил голову солдату, и хотя продавцы ветошья и были схватываемы, но по малочисленности команд всегда их отбивали разных чинов люди. Сенат приказал высечь плетьми солдата синодальной конторы.
Купцы согласились на предложение Еропкина; за ними выступили раскольники. Они подали Еропкину записку за руками, в которой просили позволить им купить или построить против Преображенского в Земляном валу карантин и содержать его на свой счет, только с тем чтоб все они освобождены были от докторских осмотров и офицерских распоряжений. Двое из просителей – Пимен Алексеев и Иван Прохоров – были введены в Сенат, где им объявлено, что больницу в означенном месте им построить можно, но уволить от докторских осмотров и офицерских распоряжений нельзя. Просители согласились. В этот день, 7 сентября, в Сенате присутствовали четверо: Рожнов, Похвиснев, кн. Козловский и Еропкин. 12 сентября присутствовали только трое: Рожнов, Еропкин и сам фельдмаршал Солтыков; на другой день, 13 числа, Солтыков приехал в Сенат и опять застал только двоих – Рожнова и Еропкина.
Старик не выдержал и 14 числа отправил императрице отчаянное донесение: «Болезнь уже так умножилась и день ото дня усиливается, что никакого способу не остается оную прекратить, кроме чтобы всяк старался себя охранить. Мрет в Москве в сутки до 835 человек, выключая тех, коих тайно хоронят, и все от страху карантинов, да и по улицам находят мертвых тел по 60 и более. Из Москвы множество народу подлого побежало, особливо хлебники, калачники, маркитанты, квасники, и все, кои съестными припасами торгуют, и прочие мастеровые; с нуждою можно что купить съестное, работ нет, хлебных магазинов нет; дворянство все выехало по деревням. Генерал-поручик Петр Дмитр. Еропкин старается и трудится неусыпно оное зло прекратить, но все его труды тщетны, у него в доме человек его заразился, о чем он меня просил, чтоб донесть в. и. в-ству и испросить милостивого увольнения от сей комиссии. У меня в канцелярии также заразились, кроме что кругом меня во всех домах мрут, и я запер свои ворота, сижу один, опасаясь и себе несчастия. Я всячески генерал-поручику Еропкину помогал, да уже и помочь нечем: команда вся раскомандирована, в присутственных местах все дела остановились и везде приказные служители заражаются. Приемлю смелость просить мне дозволить на сие злое время отлучиться, пока оное по наступающему холодному времени может утихнуть. И комиссия генерал-поручика Еропкина ныне лишняя и больше вреда делает, и все те частные смотрители, посылая от себя и сами ездя, более болезнь развозят. Ныне фабриканты делают свои карантины и берут своих людей на свое смотрение. Купцы также соглашаются своих больных содержать, раскольники выводят своих в шалаши». Не дожидаясь ответа на свою просьбу, того же 14 сентября Солтыков уехал в подмосковную на два дня Разумеется, этот поступок оправдать было нельзя; он объяснялся тяжким положением начальника при чувстве своей беспомощности, одиночества: все разъезжаются, мог думать старик, бросают свои должности, оставляют меня одного, но что я один сделаю, чем помогу? Распоряжается всем Еропкин, он останется, а я вздохну два дня на чистом воздухе. Разумеется, его двухдневное отсутствие не было бы замечено, если бы на другой же день отъезда фельдмаршала, 15 сентября, не произошел в Москве бунт.
Бунт сопровождался страшным, отвратительным, небывалым явлением – убийством архиерея.
В 1767 году умер московский митрополит Тимофей, принадлежавший к числу людей, которых называют добрыми и этим словом отделываются от более точного определения характера. При добром митрополите сильная власть у консистории, ее злоупотребления – понаровка явлениям непозволенным, понаровка из-за взяток. Преемником Тимофея был Амвросий Зертис-Каменский, человек с другим характером. Энергический Амвросий, знавший хорошо московские беспорядки, потому что перед этим был архиереем крутицким, следовательно, жил в Москве, решился искоренить эти беспорядки, дать силу регламентам, указам – предприятие трудное, потому что одним из главных источников беспорядков была крайняя бедность белого духовенства. Обязательная женитьба в ранней молодости условливала многочисленное семейство, обеспечить содержание которого, обеспечить приличное воспитание детей – задача тяжелая и для государства побогаче России; отсюда искание средств жизни с ущербом достоинства, отсюда та алчность, которую издавна так легкомысленно порицали, над которою так жестоко смеялись в литературе, не давая себе труда объяснить явление. Амвросий ввел порядок в консистории, ибо за нарушение порядка предстоял «штраф цепью, скованием в железы и вычет жалованья без всякого послабления»; кто не хотел подчиняться новым порядкам, того немедленно удаляли. Амвросий запретил вступать в брак молодым людям духовного звания, не кончившим богословского курса, не выдержавшим экзамена у преосвященного, запретил духовенству меняться домами и переходить от церкви к церкви, исходатайствовал у Синода возобновление указа Петра Великого, чтоб духовенство не тратилось на покупку своих домов, а имело дома церковные. Особенно остался памятен Амвросий своим гонением на так называемых крестцовых попов в Москве: он усмотрел, что «в Москве праздных священников и прочего духовного причта людей премногое число шатается, которые к крайнему соблазну, стоя на Спасском крестце для найму к служению по церквам, великие делают безобразия, производят между собою торг и при убавке друг перед другом цены вместо надлежащего священнику благоговения произносят с великою враждою сквернословную брань, иногда же делают и драку. А после служения, не имея собственного дому и пристанища, остальное время или по казенным питейным домам и харчевням провождают, или же, напившись допьяна, по улицам безобразно скитаются». Старики передавали нам, что у этих крестцовых попов был такой обычай: стояли они с калачами в руках, и когда нанимающий служить обедню давал мало, то они кричали ему: «Не торгуйся, а то сейчас закушу!» (т. е. калач, и тем лишусь способности служить обедню).
Легко понять, что такой архиерей, как Амвросий, не мог приобрести расположения в низших слоях московских жителей, среди которых, с одной стороны, явления, им гонимые, не производили большого соблазна, а с другой – среди этих именно слоев накоплялись жалобы на строгого архиерея и принимались с сочувствием по самой близости обиженных к этим слоям. Амвросий должен был знать, что его не любят и кто собственно не любит, и нерасположение, естественно, вызывало нерасположение. При таких-то отношениях Амвросию доносят, что у Варварских ворот на площади происходит безобразное явление, против которого так гремит духовный регламент, так вопиет просвещенный век. У Варварских ворот на стене был давно образ боголюбской богородицы; вдруг с начала сентября начались пред ним беспрестанные молебны и всенощные. Какой-то фабричный рассказывал, что видел во сне богородицу, которая объявила ему: «Так как 30 лет уже у ее образа никто не только не отпел молебна, но и свечи не поставил, то за это Христос хотел наслать на Москву каменный дождь, но она упросила заменить каменный дождь трехмесячным мором». Мы приведем любопытные слова племянника архиерейского Бантыша-Каменского, обличающие сильную вражду к белому духовенству: «Праздность, корыстолюбие и проклятое суеверие прибегло к вымыслу. В начале сентября поп у всех святых, что на Кулишках, выдумал чудо с помощью фабричного (следует рассказ о сне фабричного). Мерзкие козлы (а попами их грех назвать!), оставив свои приходы и церковные требы, собирались тут налоями, делая торжище, а не богомолие». Заметим здесь одно, что доказательств выдумки чуда священником, а не самим фабричным нет, обвинение остается голословным.
Бантыш-Каменский верно описывает первое впечатление, произведенное на архиепископа известием о событиях у Варварских ворот: суеверие, ложное видение – все это запрещено регламентом, указами, надобно прекратить. «Он (Амвросий) почитал за долг, а регламентом и монаршими указами предписанный, пресечь сие позорище. Первое его по сему делу было намерение удалить оттуда попов и икону перенести (ибо в воротах ни проходу, ни проезду не было по причине приставленной лестницы) во вновь построенную ее в-ством тут же у Варварских ворот Кира и Иоанна церковь и собранные там деньги употребить на богоугодные дела, а всего ближе отдать в Воспитательный дом, в коем он опекуном был. Требованные в консисторию попы не только отреклись идти, но еще и угрожали присланным побитием их каменьями». Здесь оканчивается первая часть рассказа Бантыша-Каменского о мерах Амвросия, который поступает как архиерей, обязанный прекращать суеверные явления, и поступает по своим средствам: священники требуются в консисторию отдать отчет в своем поведении; священники ослушались и тем отняли у архиерея средство вести дело надлежащим порядком. Жаль, что Бантыш-Каменский примешивает чисто полицейское побуждение: архиерей хотел икону перенести, ибо в воротах ни проходу, ни проезду не было по причине приставленной лестницы.
Когда ослушание священников не дало возможности производить консисторские исследования и распоряжения, Амвросий взглянул на дело с санитарной точки зрения. «Между тем, – говорит Бантыш-Каменский, – язва так усилилась в граде, что по 900 с лишком в день умирало; и как по предписанию докторскому запрещено было прикосновение и тесные между народом всякие сборища, то и не мог обойтись преосвященный, чтоб о способах к прекращению у Варварских ворот народного сборища не посоветоваться с г. Еропкиным, который один только в городе и был начальник. Страх, дабы не обратить на себя простолюдинов, произвел у них таковое по сему делу решение; чтоб оставить до времени перенесение иконы; а дабы собираемые у Варварских ворот деньги чрез фабричных не могли быть расхищены, то приложить к ящикам консисторскую печать; для безопаснейшего же исполнения сего дела обещал г. Еропкин прислать от себя несколько солдат». По свидетельству Еропкина, Амвросий приезжал к нему 14 сентября и говорил, что намерен деньги у Боголюбской запечатать в том рассуждении, что явление образа вымышлено от священников, которые за молебны начали приобретать великую прибыль. Здесь неясность. Явление ложное, говорит Амвросий, оно выдумано священниками из корыстных побуждений. Надобно прекратить запрещенное законом явление; если же это опасно, то как из ложности явления следует, что к денежным ящикам надобно приложить консисторские печати? Бантыш-Каменский дает такое объяснение: решились ящики запечатать из страха, чтоб деньги не были расхищены фабричными; но оказывается, что при ящиках находился военный караул. Как бы то ни было, это несчастное распоряжение насчет денег было причиною бунта.
По донесению фельдмаршала Солтыкова, основанному на рапорте обер-полицеймейстера Бахметева, 15 сентября, в четверг, в 8 часов пополудни раздался городовой набатный бой и при рогаточных караулах на улицах бой трещоток. Обер-полицеймейстер послал узнать, что такое, и получил донесение, что у Варварских ворот великое множество черни производит шум и драку. Бахметев в сопровождении троих драгунов и двоих гусар поехал сам и нашел, что от Ильинских до Варварских ворот по обе стороны стены стоит множество народа, тысяч до десяти, и большая часть вооружена дубьем. На вопрос, зачем сбежался народ, обер-полицеймейстеру отвечали, что народ сбежался по набатному бою, а набат произошел оттого, что шестеро солдат с архиерейским подьячим пришли для вынутая из ящиков денег, подаваемых богомольцами на боголюбскую икону богородицы. Около ящиков стоял караул от московского гарнизона; эти караульные объявили, что не позволят распоряжаться ящиками без позволения своего командира (плац-майора); от этого сначала произошел шум, а потом драка: злодеи побиты, которые хотели образ ободрать и казну, принадлежащую богоматери, покрасть, а народ собрался стоять за мать пресвятую богородицу до последнего издыхания. Видя, что с своим конвоем из пяти человек он не в состоянии ничего сделать, Бахметев поехал к Еропкину, который жил в своем доме на Стоженке. В Воскресенских воротах он встретил толпу тысяч до трех, бегущую с дубьем по Тверской, Моховой и из Охотного ряда под предводительством мужика с бородою, в синем китайчатом балахоне, который постоянно кричал что есть мочи: «Ребята, поспешайте постоять за мать пресвятую богородицу и не допустите ограбить божию матерь!» Бахметев успел остановить толпу, человек двадцать или больше из нее стали на сторону обер-полицеймейстера и сделались совершенно ему послушными, так что с их помощью «синий балахон» был схвачен и посажен в будку; на Моховой схватили также другого горлана с помощью господских людей. Приехавши к Еропкину, Бахметев услыхал от него: «Делайте все то, что предусмотрите к лучшему; а я вам ни команды, ни способов дать не могу», Бахметев поехал назад, заехал в будку, где посадил «синий балахон», но вместо него нашел в будке только изувеченных людей, приставленных караулить «балахон». Еще прежде, отправляясь к Еропкину, Бахметев послал полицейского майора к народу с требованием, чтоб отдали под полицейский караул архиерейского подьячего и команду, пришедших к образу за деньгами, потому что такие злодеи должны быть наказаны публично, а что прибиты народом – этого мало. Теперь майор явился к Бахметеву и донес, что народ не только согласен, но и сам просит об этом; только караульные московского гарнизона, стоящие у Варварских ворот, говорят, что сделать этого не смеют без своего командира, т. е. плац-майора. Бахметев послал донесть об этом Еропкину, тот приказал как можно скорее сыскать плац-майора или губернатора Юшкова; но, в то время как происходили эти пересылки и рассылки, разнеслись слухи, что толпа черни в Кремле, грабят в Чудове монастыре архиерейский дом, ищут убить самого хозяина.
Как скоро начались перекоры между караульными московского гарнизона и архиерейским подьячим относительно денег, в толпе, вмешавшейся в споры, уже послышались выходки против Амвросия. «Архиерей, – кричали, – ни один раз должного почтения божией матери с служением по своему чину не сделал; а как сведал, что можно взять 1000 рублей, которые доброхотные датели, некоторые почти из последнего имения своего, сложили, то уже взять деньги безо всяких замедлительств себе готов; он безбожник, надлежит предать его смерти перед этим самым образом!» Возбужденная этими криками толпа двинулась в Кремль. Амвросию, как видно, дали знать об этих выходках и угрозах, и он уехал из Чудова в Донской монастырь. Толпа, ища его в Чудове монастыре, что могла, пограбила, остальное переломала, перебила, исковеркала; большой винный погреб, снимаемый в Чудове монастыре купцом Птицыным, был разграблен, и началось пьянство. Но на другой день, 16 числа, вспомнили, зачем пришли в Кремль, в Чудов; кто-то дал знать, что архиерей в Донском монастыре; и толпа в 300 человек двинулась туда. Амвросий, узнав о разграблении Чудова монастыря, велел находившемуся при нем племяннику Николаю Бантыш-Каменскому написать об этом Еропкину и просить билета для свободного выезда из города. Вместо билета Еропкин прислал офицера конной гвардии, который объявил, чтоб преосвященный переоделся и поскорее выезжал из Донского монастыря, что он, присланный, будет дожидаться его в конце сада кн. Трубецкого и оттуда велит проводить на село Хорошево в Воскресенский монастырь. Пока сыскали платье, пока Амвросий переодевался, пока заложили кибитку, услыхали шум, крики и пальбу у монастыря. Амвросий вышел, чтоб садиться в кибитку, но в это время народ стал уже ломать монастырские ворота со всех сторон; все бывшие с Амвросием разбежались; тогда он пошел прямо в большую церковь, где служили обедню, приобщился и хотел было спрятаться на хорах сзади иконостаса; но толпа, ворвавшаяся в церковь, открыла это убежище; несчастного вытащили из церкви, из монастыря, и перед задними воротами умертвили самым варварским образом: били в восемь кольев целые два часа, так что, по словам очевидца, «ни виду, ни подобия не осталось».
Между тем Еропкин весь этот день, пятницу 16 числа, собирал у себя на Стоженке кусочками команду. Главную военную силу, которою располагало московское начальство, составлял Великолуцкий полк; но во всем этом полку числилось только 350 человек, а из них 300 человек расположены были в 30 верстах от Москвы для безопасности от чумы и только 50 человек находилось в Москве. К ним Еропкин присоединил гвардейские команды, присланные из Петербурга, и таким образом составился отряд из 130 человек; но при этом маленьком отряде было две пушки, которые обеспечивали успех против толпы, вооруженной дубьем и каменьями. В половине шестого часа пополудни Еропкин со своею командою двинулся в Кремль, на улице захватил священника с крестом и заставил идти с собою. При входе в Кремль чрез Боровицкие ворота отряд был встречен дубьем и кирпичами; Еропкин послал увещевать мятежников обер-коменданта царевича грузинского, но увещатель был встречен также каменьями. Той же участи подвергся бригадир Мамонов, который по доброй воле явился в Чудов монастырь со своими людьми и начал уговаривать мятежников: ему разбили голову и лицо. Видя, что увещание не помогает, Еропкин велел стрелять в толпу из пушек и ружей; не менее ста человек пало от этой стрельбы, 249 человек взяты под караул, остальные разбежались. Но Еропкин, раненный в двух местах шестом и камнем, истомленный, в лихорадочном припадке, принужден был слечь в постель и не принимал участия в дальнейших распоряжениях.
На другой день, в субботу 17 сентября, на рассвете толпы начали ломиться в Кремль, в Спасские ворота, в которых стоял губернатор Юшков. Мятежники требовали, чтоб им отдали всех товарищей, захваченных войском накануне; чтоб бани были распечатаны, карантины уничтожены, лекарей к их должности не употребляли. Накануне, 16 числа, Еропкин уведомил Солтыкова о бунте, и в 9 часов утра 17 числа фельдмаршал был уже в Москве; одновременно с ним по его распоряжению накануне вступал в Москву и Великолуцкий полк, т. е. 300 человек солдат. Солтыков поручил начальство над полком обер-полицеймейстеру Бахметеву и велел ему вести солдат на Красную площадь, чтоб прекратить бунт. Бахметев, выстроив полк на площади, сказал окружающим толпам: «Советую вам расходиться по домам, в противном случае все побиты будете». Чрез полминуты площадь опустела, и этим бунт кончился.
Главная причина печальных событий 15 и 16 сентября была очевидна: ничтожность военных сил, хотя, с другой стороны, естественно представляется вопрос: почему Еропкин с вечера 15 числа не начал собирать войско, не употребил на это всю ночь и не явился в Кремль на рассвете 16 числа, тогда событие в Донском монастыре было бы предупреждено? Как бы то ни было, старик фельдмаршал имел полное право жаловаться на недостаточность своих средств и опасность положения. «Кажется, все утихло, – писал он 19 сентября, – однако на сие надежду полагать неможно: народ пьяный, раскольщики, подьячие, холопы господские; сами все разъехались по деревням, людей оставили, кои по их праздной жизни непрестанно в кабаках. Я нашел Чудов монастырь в жалком состоянии: окна все выбиты, пуховики распороты и улица полна пуху, образа расколоты. Бунтовщики грозятся на многих, а паче на лекарей, и хотя на многих злятся и грозят убить, в том числе и меня, и первого Петра Дмитр. Еропкина, но главный пункт – карантины; сего имени народ терпеть не может. В Сенат никто не ездит, только были мы двое. Граф Воронцов пишет, что в его деревне люди заразились, для чего он и поехал в другую, дальше; князь Козловский уволен; Похвиснев болен; Еропкин заболел и лежит в постели. Господа президенты (коллегий), не спросясь никого, так как их члены и прокуроры разъехались по деревням; приказать некому, по кого ни пошлю, отвечают: в деревне. Мне одному, не имея ни одного помощника, делать нечего: военная команда мала, город велик, подлости еще для зла довольно. Между пойманными злодеями множество подьячих почти изо всех коллегий, и их солдаты, старики отставного батальона гвардии, кои содержат караул в Кремле, более всех бунтовали и воровали, чему свидетель архитектор Баженов: он все видел из модельного дома и многие речи слышал. Сейчас получена ведомость, что на Пахре собирается много всякого народа и хочет идти в Москву со всяким оружием, и разбежавшиеся отсель по деревням пьяные грозятся все разорять. Я один в городе и Сенате, помощников нет, команды военной недостает, окружен заразительною болезнию, подвержен ей более других; все ко мне приезжают, принужден пустить, всякому нужда, помочь мне некому. Один обер-полицеймейстер везде бегает, всего смотрит, спать время не имеет. Я не в состоянии в. в-ству подробно донесть, слышу и вижу все разное; народ такой, с коим, кроме всякой строгости, в порядок привесть невозможно». 21 сентября Солтыков писал: «Нельзя быть без начальника, ибо не токмо в Москве, но по уезду несколько тех злодеев, нарядясь в солдатский мундир, ходят по дворцовым и экономическим вотчинам, показывая указы, якобы из губернской канцелярии посланы, и велят попам перед народом читать, старост и выборных принуждают подписываться в том, что как скоро услышат в Москве набат или пушечную стрельбу, то бы все в Москву бежали с дубинами и рогатинами. Я оставил (в Москве) Великолуцкий полк, главный пост на Красной площади с пушками и в нужных местах пикеты; ежели б команды было довольно, особенно конницы для разъездов, то б можно оное зло скорее искоренить. Наставник должен быть из раскольщиков, потому что они всегда противились карантину, да и то примечания достойно, что церковь архиерейская вся разорена и утварь разбита и разметана». Так как главный недостаток был в военной силе, то по предложению президента Главного магистрата Протасова составлена была стража из купцов.
Но в тот же самый день, 21 сентября, когда Солтыков писал: «Нельзя быть без начальника», вышел манифест императрицы об отправлении в Москву гр. Григория Орлова. В манифесте говорилось: «Видя прежалостное состояние нашего города Москвы и что великое число народа мрет от прилипчивой болезни, мы б сами поспешно туда прибыть за долг звания нашего почли, если б сей наш поход по теперешним военным обстоятельствам самым делом за собою не повлек знатного расстройства и помешательства в важных делах империи нашей. И тако, не могши делить опасности обывателей, сами подняться отселе, заблагорассудили мы туда отправить особу, от нас поверенную, с властию такою, чтоб по усмотрению на месте нужды и надобности мог сделать все те распоряжения к спасению жизни и к достаточному прокормлению жителей. К сему избрали мы, по нашей к нему отменной доверенности и по довольно известной его ревности, усердию и верности к нам и отечеству, нашего генерал-фельдцейхмейстера и генерал-адъютанта гр. Гр. Орлова, дав ему полную мочь поступать во всем так, как общее благо того во всяком случае требовать будет, и отменять ему тамо то из сделанных учреждений, что ему казаться будет или не вместно, или не полезно, и снова установить может всего того, что он найдет поспешительно общему благу; в чем во всем повелеваем не токмо всем и каждому его слушать и вспомогать, но и точно всем начальникам быть под его повелением и ему по сему делу иметь вход в Сенат московских департаментов. Запрещаем всем и каждому сделать препятствие и помешательство как ему, так и тому, что от него повелено будет, ибо он, зная нашу волю, которая в том состоит, чтоб прекратить, колико смертных силы достанет, погибель рода человеческого, имеет в том поступать с полною властию и без препоны».
Орлов по природе своей не мог удовлетвориться тем значением, какое он имел при дворе, не мог удовлетворяться ни административною деятельностью как генерал-фельдцейхмейстер, ни деятельностию как член Совета, его тянуло на место войны, где одерживались блистательные победы, где родной брат его жег турецкий флот. Удалиться надолго, на все время войны не было возможности, но он не переставал мечтать о роли начальника отдельного предприятия, которое быстро могло бы положить конец войне; теперь же, когда Москва и вся Россия потребовала энергического действия для спасения их от страшного бича, Орлов не хотел упустить случая оказать великую услугу, приобрести громкую известность. Накануне отъезда в Москву Орлов говорил английскому посланнику лорду Каткарту, что, по его убеждению, главнейшее несчастие Москвы состоит в паническом страхе, охватившем как высшие, так и низшие слои жителей, откуда проистек беспорядок и недостаток распорядительности. Когда Каткарт стал просить его отложить поездку, говоря, что в Москве найдет не один недостаток распорядительности, но и чуму, то Орлов отвечал: «Все равно, чума или не чума, во всяком случае я завтра выезжаю; я давно уже с нетерпением ждал случая оказать значительную услугу императрице и отечеству; эти случаи редко выпадают на долю частных лиц и никогда не обходятся без риска; надеюсь, что в настоящую минуту я нашел такой случай и никакая опасность не заставит меня от него отказаться».
«Чума или не чума», – говорил Орлов. Действительно, до последнего времени вследствие несогласия медиков остерегались официально говорить о чуме. Доктор Кулеман подал доклад, что осмотр больных в Симоновом монастыре утвердил его в прежнем мнении о несуществовании моровой язвы, ибо и на умерших, и на живых, кроме пятен, не находил никаких знаков моровой язвы, почему признает болезнь горячкою с пятнами злейшего рода.
28 сентября в Московском сенате было первое заседание в присутствии гр. Орлова. Из сенаторов находились Рожнов, Похвиснев, фельдмаршал Солтыков, Еропкин, Всеволожский и вновь назначенный сенатор, знаменитый делец двух предшествовавших царствований Дмитр. Вас. Волков. Орлов объявил именной указ присутствовать ему в Сенате московских департаментов и быть всем и каждому в его послушании; словесно объявил, что велено присутствовать в Сенате и Волкову. Губернатор Юшков донес, что можайское дворянство согласилось ехать в Москву со своими служителями и значительным числом крестьян. Приказали: ревность приемлется за благо; нужды, однако, теперь в чрезвычайном подвиге не настоит, ибо порядок восстановлен. При том значении, с каким Орлов был прислан, Солтыков, разумеется, не мог оставаться московским главнокомандующим. Екатерина имела слабость не любить знаменитых дел и людей елисаветинского царствования. Куннерсдорфский победитель раздражил ее указанием на опасность приложения санитарных мер к Москве, указанием на необходимость увеличить военные силы в столице, и Солтыкову нельзя было, как Румянцеву, указывать на римлян, которые не спрашивали, сколько неприятеля, но где он: приемы внешней войны разнились от приемов внутренней охраны и наблюдения за порядком на обширных пространствах. Но старик сам себя выдал головою Екатерине, позволив себе уехать в деревню, и хотя быстрое возвращение его и быстрое стянутие войска в Москву, чем и прекращено было волнение, могли бы заглаживать первую неосторожность, но не в глазах Екатерины, которая в письме к Бельке прямо приписывает убиение Амвросия тому, что Солтыкова не было в городе. Но естественно рождается вопрос: как бы Солтыков без войска мог действовать; разве предположить, что он собрал бы небольшой отряд с пушками и двинулся в Кремль гораздо скорее, чем прославленный Еропкин? Екатерина употребляет в письме к Бельке любопытное выражение: «Москва не город, а целый мир». Но о чем же постоянно толковал Солтыков, как не об этом, жалуясь на недостаток войска? В письме к Бибикову Екатерина Дала полную свободу своему нерасположению к Солтыкову: «Слабость фельдмаршала Солтыкова превзошла понятие, ибо он не устыдился просить увольнения тогда, когда он своею персоною нужнее там был и, не ожидав дозволения, выехал, чаять можно, забавляться со псами. Меж тем ханжи выдумали народ лечить чудесами образа под Варварскими воротами. Тут толпы черни молящейся пуще заразились, и во время того богомолья по 900 человек на день мерло. Архиерей с генерал-поручиком Еропкиным положили, чтоб исподволь умалить течение народное к сему месту, и для того архиерей 15 сентября к вечеру послал своих людей опечатать сбор у сего образа. Тут сделалась драка, и обыкновенная полиция стала коротка, мать наша Москва велика. Главы нету в городе, унимать некому, обер-полицеймейстер стал короток, а отчасти и оплошал. Я, видя, колико нужно туда послать особу с полною властью, по усильной просьбе г. генерала-фельдцейхмейстера г. Орлова его туда послала. Там до его приезда все по образцу гр. Солтыкова (?), получа terreur panique, от язвы по норам расползлись, но теперь паки возвратились по местам… Позабыто в письме сказать, что старый хрыч фельдмаршал уволен». В указе об отставке фельдмаршала говорилось, что императрица, «снисходя на прошение, уволить его соизволила от всех дел, похваляя его предкам ее в-ства учиненную знатную службу».
30 сентября Орлов объявил в Сенате, где теперь настоит нужда: 1) имеющихся в здешнем городе мастеровых и ремесленных людей в необходимом случае пропитанием снабдить; 2) доставить в Москву уксусу в таком количестве, которым бы жителей без всякого недостатка продовольствовать было можно. Потом вывозчикам мертвых тел к 6 копейкам на день прибавили еще 2 копейки. 12 октября Орлов предложил в Сенате: известно ему учинилось, что некоторые находятся столь злостные люди, что, невзирая на бедственное состояние, в котором жители Москвы теперь состоят, забыв страх божий, дерзают входить в вымершие домы и грабить оставшиеся после несчастных пожитки, и для того объявить каждому и всем, ежели таковые безбожники и враги рода человеческого открыты будут в сем преступлении, то без пощады казнены будут смертию у того самого места, где сие преступление учинено будет, дабы смертию одного злодея отвратить смертоносный от зараженных вещей вред и гибель многих невинных, ибо в крайних зла обстоятельствах и меры к уврачеванию крайние принимаются. Через четыре дня после этого решения Полицеймейстерская канцелярия подала рапорт: ведомства Конюшенной канцелярии крестьянин Тимофей Матвеев, беглые солдаты Главного комиссариата Акутин, Денисов, лейб-гвардии неслужащий солдатский сын Еремин, собравшись партиею в числе 9 человек, пограбили три выморочных дома. Канцелярия на основании указа 12 октября приговорила повесить преступников, но Сенат на том основании, что преступление было совершено до публикования указа, приговорил виновных ко кнуту и определению в погребатели чумных. В то же время Орлов предложил, что умерших чумно провожают неосторожно, садятся в одни роспуски с телами, и потому объявить, что замеченные в такой неосторожности мущины будут взяты в погребатели, а женщины – в лазарет для ухаживания за больными.
Для детей-сирот, остающихся после умерших от чумы, был учрежден приют под ведомством вице-президента Мануфактур-коллегии Сукина. Но оказалось, что больше 100 детей поместить в этом доме нельзя, тогда как каждый почти день привозили сирот. Сенат приказал Сукину занять дом француза Лиона, который отстраивался для пикника на деньги составившегося для этого общества; Сенат объяснял свое распоряжение тем, что пропитание сирот установляется для общества и по освобождении дома от сирот он возвратится для пикника. Мы видели, что Орлов уже распорядился покупкою в казну ремесленных произведений, чтоб дать пропитание работникам. 25 октября он сделал Сенату новое предложение: находится в городе немалое число таких людей, которые, не имея никакого рукомесла, питались прежде самыми черными или грубыми работами, а по настоящим обстоятельствам лишились и их; чтобы доставить и этим людям благозаслуженное пропитание и истребить праздность, всяких зол виновницу, для этого надобно: 1) окружающий Москву Камер-коллежский вал увеличить, углубляя его ров, и к этой работе призываются все охочие люди из московских жителей; 2) платеж за работу будет производиться поденный – мущине по 15, а женщине по 10 копеек на день; 3) кто придет со своим инструментом, тому прибавляется по 3 копейки на день; 4) главный надзор за этою работою будет иметь генерал-поручик сенатор Алекс. Петр. Мельгунов.
Сенат подал доклад о наказании генерал-майорши Эттингер за побои крестьянину, от которых тот умер; императрица написала на докладе: «Вдова Эттингерша сама на себя показывает, что она человека своего секла за такие дела, кои исследовать не ей, но городской юстиции надлежит, и тако присвоивала себе судейской власти, ибо побеги, воровство и подобное не подлежит домашнему следствию и наказанию, чего приметить дать надлежит второму сенатскому департаменту, дабы сходственно законам власть судебная была охраняема от особенных вступлений в оной». Сенат отвечал: «Чтоб и другие владельцы в принадлежащие гражданской юстиции дела собою не вступали, как на то точного положения нет, собирать о сем в комиссии о сочинении проекта нового уложения для положения на сие закона». Но Екатерина написала на это: «Которой комиссии и о том положение сделать, что с такими чинить, кои суровость против человека употребляют». По известиям о дурном обращении со своими крепостными генерал-майорши Храповицкой Сенат получил именной указ определить опекуна, который бы, отобрав, от кого надлежит, о ее доходах сведение, принял дом ее в свое содержание и определил людям ее такое пропитание и одежду, которых бы без излишества довольно было, а достальное отдавать ей на содержание, и чтоб оные люди в случае их преступления наказанием зависели от него, сохраняя притом должное от них ей почтение и повиновение.
Кроме приведенных случаев дурного обращения с крепостными людьми, истязаний и смертоубийств, крепостные отношения, составляя главный интерес землевладельцев, увлекали их в другого рода преступления; кроме того, крепостные люди являются удобными, послушными орудиями преступлений. Сенат приговорил к наказанию кнутом и ссылке на поселение в Сибирь жену прапорщика Федосью Чегодареву за подговор ею к побегу дворовой девицы жены лейтенанта Тормасова и за прочие непорядки. Екатерина написала на докладе: «Вместо телесного наказания содержать ее две недели на хлебе и воде, а потом, лиша дворянства, послать в Сибирь». Такому же наказанию по решению императрицы была подвергнута дворянка Ингельдеева за то, что продала беглого, переменив ему имя. Сенат приговорил к смертной казни отставного подпоручика Карпова за то, что он с людьми своими приходил на сотского из однодворцев Кутепова, ранил его сам из ружья и бил дубинами, от чего Кутепов через сутки умер. Екатерина переменила этот приговор так: «Лишить дворянства и чинов и, поставя под виселицу, заклеймить лоб словом „разбойник“ и потом сослать вечно в работу». Сенат приговорил ко кнуту и ссылке в Нерчинск отставного сержанта кн. Ивана Мещерского за сочинение для проезда подложного письма и за кражу у разных людей пожитков; Екатерина переменила: «Лиша дворянства, сослать в Сибирь». То же наказание определила императрица дворянам Сущову и девице Чертановой за содержание ими в домах своих разбойников и краденых пожитков. Лишение дворянства и чинов, заклеймение под виселицею буквою «У» (убийца) и вечную работу на Нерчинских заводах императрица определила отставному капитану Отяеву за то, что он людям своим позволил убить до смерти свою жену. Отставной поручик Лесков убил беглого человека; жена его и свояченица Родичева знали об этом и не донесли; императрица написала решение: «Лескова, лишив чинов и дворянства, заклеймить под виселицею буквою „У“ и сослать на Нерчинские заводы в работу; жену освободить; Родичеву заключить на покаяние в тюрьму». По решениям императрицы содержана две недели на хлебе и на воде и сослана в Сибирь прапорщица Васильева за подговор к краже и побегу чужой крепостной девушки. Лишен дворянства, чина и сослан в Сибирь прапорщик Ильин за держание в доме своем разбойников и за взятие от них себе пожитков. Посажена на четыре недели на хлеб и воду, лишена дворянства и сослана в Сибирь капитанша Моуринова за подговор людей своих, чтоб они первого мужа ее поручика Епанчина спящего задушили подушкою, что они и сделали. Лишен чина и сослан в ссылку прапорщик Симбирский за битье пономаря, который через два дня умер. Лишен дворянства, чинов и сослан в Сибирь полковник Рачинский за убийство. Посажена на четыре недели на хлеб и на воду, лишена мужней и отцовской фамилии, заклеймена буквою «У» и сослана в Сибирь жена отставного прапорщика Авдулова за убийство мужа; дочь ее, соумышленница матери, держана две недели на хлебе и воде и сослана в Сибирь. Одинакому с Авдуловой наказанию за убийство мужа подверглась подпоручица Симонова. Лишены дворянства и сосланы в Сибирь гвардии сержант Варахеев за заложенное в банк чужое имение и склонение чужого дворового человека к воровству, гвардии капрал Юрьев за ложно проданного чужого дворового человека, поручик Тяпкин за продажу беглых, прапорщик Стоханов за подложную продажу чужого человека в рекруты. О прапорщице Скрипицыной, продавшей беглого чужого человека, императрица написала: «Посадить на две недели на хлеб и на воду и, если муж взять ее к себе не пожелает, сослать в Сибирь, лиша дворянства». Помещик Култашев лишен дворянства, заклеймен и сослан в каторжную работу вечно за убийство двоих родных братьев; жена его, бывшая виновницею ссоры, окончившейся убийством, сослана в женский монастырь в работу; сын их подпоручик Прохор, который хотя и отговаривал отца и мать от злого предприятия, однако принужден был сделать невольное послушание, лишен чина и записан в солдаты до выслуги. Лишен дворянства, чинов, фамилии, выведен на эшафот, положен на плаху, заклеймен и сослан вечно в работу отставной капитан Турбин за убийство крепостной своей девушки. Сослан в монастырь на покаяние отставной провиантмейстер Нелединский за то, что сек мать свою плетьми, а сестру бил палкою.
Этот длинный скорбный лист может быть объяснен скороспелым указом Петра III, которым позволялось дворянам выходить в отставку, когда захотят. На службе человек и с дурными наклонностями сдерживался дисциплиною служебною, не мог предаваться праздности, сдерживался самим обществом, в котором постоянно должен был находиться и которое необходимо расширяло его умственную сферу, увеличивало количество высших интересов, развивало его. Но теперь он имел возможность в молодых летах вырваться из-под служебной дисциплины и поселиться в деревне; из подчиненного, трепетавшего перед гневным взглядом старшего офицера, он становился полновластным господином над рабствующим, безгласным населением; чем более он был принижен на службе, ибо находился в низших чинах, тем более он должен был разнуздываться теперь; господином становился раб. Совершенная праздность, невежество, неуменье заняться чем-нибудь умственно и нравственно развивающим, отсутствие общества, которое могло бы развивать, в этих отношениях вели к нравственному падению. Женщины по страстности своей природы, по легкости, с какою они поднимаются вверх и спускаются вниз, были тут еще ближе к искушению, чем мужчины. Должно прибавить, что бедность при отсутствии нравственных сдержек могла сильно побуждать к преступлениям вроде сманивания крепостных, продажи беглых, пристанодержательства. Пронский дворянский предводитель доносил Сенату, что при собрании дворян для раскидки жеребьев к поставке рекрут явилось к нему более 200 дворянских сыновей с объявлением, что усердно желают вступить в службу, но только не в состоянии явиться, где надлежит, ибо некоторые из них ни платья, ни обуви не имеют. Сенат приказал: для сохранения вольности дворянства московскому губернатору поручить, чтоб он от этих недорослей отобрал челобитные об определении на службу. Новгородский губернатор Сиверс требовал указа, что повелено будет делать с малолетними дворянскими детьми, которых отцы по бедности своей пропитать не могут; Сенат приказал определять их в гарнизонные школы на казенное содержание.
Но, приводя этот скорбный лист, мы не можем не заметить, что преступления помещиков относительно крестьян не могли быть утаены и наказывались. Относительно преступлений крестьян против помещиков любопытно решение Сената в 1769 году: когда прочтена была выписка губернаторских рапортов, которыми доносилось о происходивших от крестьян и крепостных людей против помещиков непослушаниях, смертоубийствах, разбоях и грабежах, то Сенат приказал сдать выписку в архив, потому что об отвращении таких злодейств губернаторами надлежащие распоряжения сделаны. Отметим важнейшие случаи. В 1769 году в Симбирской провинции наказаны были крестьяне села Ишевки за непослушание помещице Кротковой. В то же время воронежский губернатор доносил о непослушании владельцам Нарышкиным малороссиян, поселившихся в слободах Красовке, Елани, Рудне и Краснояровке, из которых живущие в первых двух слободах командою в послушание приведены. В 1771 году подтверждено было постановление Петра Великого о непродаже крестьян без земли; в именном указе Екатерины говорилось: учинить запрещение как конфискации, так и всем авкционистам, чтоб отнюдь от сего числа одних людей без земли с молотка не продавали, чего всем градоначальникам смотреть накрепко. Относительно приписных к заводам крестьян было определено давать им деньги за те дни, которые они употребят на дорогу к заводам; и относительно приписки крестьян стали наблюдать осторожность, что видно из следующего решения Сената о Вознесенском медеплавильном заводе: послать указы к казанскому и оренбургскому губернаторам, чтоб они, снесясь друг с другом, представили сообща свое мнение, какие из крестьянских государственных селений, состоящих в их губерниях, удобнее приписать к Вознесенскому заводу, в каком расстоянии от заводов и одно от другого они находятся и сколько в каждом селении душ; причем губернаторы должны объявить, как они полагают: полезнее ли перевести крестьян к заводу или только приписать; Берг-коллегии приказать донести Сенату, есть ли при Вознесенском заводе столько пашенных и сенокосных земель и других угодий, чтоб ими душ до 1000 переведенцев безнужно можно было удовольствовать; коллегия должна донести и о том, какой способ к переселению крестьян она находит удобнейшим, и какое сделать им для этого вспоможение, и на каком основании. На востоке волнений заводских крестьян не видим, но зато обнаружилось сильное волнение на западе, на Петровских Олонецких заводах.
Первою причиною к волнениям здесь было принуждение крестьян сверх обычных работ ломать еще мрамор для построения Исаакиевского собора. Эта работа была с них сложена, но другие работы были усилены. С них стали требовать поставки 1000 куч уголья, тогда как кузницы могли издерживать только треть этого количества; они видели, что хотят строить четыре новые кузницы, тогда как руды на них не стало бы и на один год. Тут является между ними искатель приключений, известный банкрот Иван Назаров Елагин и начинает им внушать, что если они подадут просьбу императрице и предложат платить по три рубля с души, то будут освобождены от работы. Крестьяне поверили, послали просьбу и в ожидании ответа на нее начали отказываться от работы; это было летом 1770 года. Сенат отправил в приписные. селения следственную комиссию, которая донесла, что объявляли во всех селениях сенатский указ крестьянам о непременном и безотговорочном повиновении в исполнении всех налагаемых на них работ и прилагали всевозможное старание, чтоб крестьяне повиновались указу, но они отговариваются разными причинами и в работу идти не хотят, всего более виноваты в этом регистратор Назимов и крестьянин Калистратов; комиссия оканчивала свое донесение тем, что надобно употребить какую-нибудь строгость. Сенат был недоволен этим донесением, нашел, что комиссия не вступила ни в какое настоящее рассмотрение дела по данной ей инструкции, не исследовала, действительно ли крестьяне не в состоянии отбывать работы, не исследовала, достаточно ли их число для этого отбывания, также не видно в производстве дела комиссиею того усердия, какого требует важность порученного ей следствия, и потому решил, что так как заводы и крестьяне находятся в Новгородской губернии, то и предложить губернатору Сиверсу, чтоб он как хозяин губернии отправился на место, где комиссия производится, взял ее в свое ведомство и, рассмотря причину крестьянского ослушания, прежде всего постарался всевозможными средствами привести непослушных в должное повиновение, способы же, как удобнее это сделать, Сенат возлагает на известное его благоразумие и попечение. Потом, приведя крестьян в повиновение, губернатор должен рассмотреть их жалобы и отягощения заводскими работами и в случае действительной невозможности для крестьян исправлять заводские работы должен сделать вновь обо всем надлежащее и с благосостоянием крестьян сходственное учреждение.
Сиверс не отправился на место производства следствия. В письме своем к императрице он говорит, что его оклеветали перед нею, будто бы он не хотел ехать на место следствия, тогда как он именно просился туда ехать. Немного дней спустя он получил приказание императрицы ехать на польскую границу. Несмотря на то, он рассмотрел дело и высказал свое мнение о средствах успокоить умы, но мнение это было отвергнуто с жесткостью. Сиверс оканчивает письмо словами: «Я решился молчать и молчал бы, если бы не слыхал глухих жалоб, которые причины должны быть важны, если жалобы слышатся так издалека». Мнение Сиверса, пересланное им в Сенат, состояло в следующем: главная причина ослушания крестьян состояла в чрезвычайно тягостном и беспорядочном наряде работников и поставке материалов в самую рабочую пору; крестьяне, лишаясь таким образом возможности снискивать пропитание от своих земледельческих занятий, пришли в отчаяние, тем более, что хотя и состоялась новая оценка для уплаты за работу на заводах, но до них известие об этом еще не дошло. Другою причиною отчаяния этого несчастного народа были непорядки правления Петрозаводской канцелярии. Третьею причиною можно принять посланную туда потом комиссию из трех разного звания людей, которые упражнялись в переписках и действовали не с тем согласием, какого можно было бы надеяться в том случае, если б отправлена была одна знатная особа. Сенат, получа это донесение, подал императрице доклад: «Хотя Сиверс о главных причинах неустройства и непослушания доносит, но так как он сам на месте не был, то Сенат мнения его утвердить не может и решает отправить туда из генералитетских чинов особу, которой поручить ту комиссию в полную дирекцию, и для этого избирает генерал-майора Лыкошина». Императрица утвердила доклад.
Это распоряжение об отправке Лыкошина было последним в 1770 году. В самом начале 1771 года генерал-прокурор получил именной указ: из прошения государственных крестьян ведомства канцелярии петровских заводов ее в-ство усмотреть изволила, что из тех же крестьян определены и к каменной ломке вновь для строения здешней соборной Исаакиевской церкви, и потому указать соизволила, что такое этих крестьян определение нимало с намерением ее в-ства не сходствует, тем более что ее в-ство и стат. совет. Кожину, представлявшему о таком распоряжении, именно отказала, повелев мраморную ломку производить вольнонаемными людьми. Но через неделю после этого Сенат слушал донесение следственной комиссии при петровских заводах, что крестьяне еще в начале 1770 года освобождены от мраморной ломки и напрасно утруждали императрицу своим челобитьем, что, как мы видели, подтверждается и письмом Сиверса.
С марта начались донесения Лыкошина. Он причиною всех неустройств, запущенных доимок и отчасти дерзости полагал то, что хотя старосты определяются по мирскому выбору, но эти выборы превратились в один обряд, а в действительности старосты определяются теми крестьянами, которые почитаются в волостях первейшими и богачами, большею частью из преданных им креатур, исполняющих потому их волю, безграмотные и такие бедные, что по начетам взыскать с них нечего; сами же богачи, управляя ими, что хотят, то и делают. В доказательство Лыкошин представил поданное ему от Шуйского погоста донесение с указанием, какую власть и силу имеет в том погосте крестьянин Коротяев. Чрез несколько дней после этого Лыкошин доносил, что все его старания усмирить волнующихся крестьян безуспешны, что с крестьян сказки взяты. Из этих сказок было видно, что надворный советник Елагин брал подписку от крестьян, обнадеживая их, что представит ее в собственные руки императрицы и исходатайствует удовлетворение их желанию, чтоб вместо зарабатывания положенных на них окладов заводскими работами платить им по три рубля с души; и вообще своими разговорами Елагин подал немалый повод ко крестьянскому волнению и ослушанию; кроме того, укрывал в своей квартире приходивших в Петербург просителей, несмотря на данную им в Сенате подписку. Лыкошин требовал также отрешения полковника Винтера, который, будучи главным членом комиссии и зная поступки Елагина, не удерживал его от них. Сенат исполнил требования Лыкошина.
Вследствие безуспешности увещаний Лыкошин отправил для усмирения крестьян команду под начальством капитана Ламсдорфа. Прибыв в село Кижи, команда нашла толпу народа тысяч до пяти, вооруженную винтовками, рогатинами и другим оружием; толпа встретила команду бранью и угрозами перебить всех солдат, требовала, чтоб именной указ был прислан прямо в руки крестьян. Ламсдорф, находя свою команду слабою, принужден был отступить; крестьяне провожали отступавших верст восемь криками: «Счастливы, что стрельбы не начали!» Сенат, получив об этом известие, приказал отправить к возмутившимся капитан-поручика Ржевского с подлинным манифестом, если не будут верить печатному. Но Ржевский не должен был отдавать манифеста никому из крестьян в руки, а хранить при себе; должен был читать печатный манифест там, где будет больше волнующегося народа, не обращая внимания на многолюдность скопища и вооружение; где есть церкви, заставлять читать священников или дьяконов, а где нет, то старост в земских избах; если же будет очень много народу, то на сборных площадях, внушая всем и каждому, что преступление их было следствием научения коварных людей из их же братьи; что как скоро все придут в повиновение, то жалобы их немедленно будут рассмотрены; в противном же случае не будет им никакой милости. После этого Лыкошин уведомил Сенат, что крестьянам по жалобам их делается всякое удовлетворение. Понявши это, они 15 июня при доношении от 8990 душ подали в комиссию объявление, где говорили, что признают свой проступок, что были обмануты ложными обнадеживаниями своих же собратий, и так как теперь они приведены в лучшее положение, то обязываются быть послушными во всем. Лыкошин писал, что со времени прибытия Ржевского пришли еще в повиновение 3105 душ и безотговорочно вступили в работы; для приведения же в повиновение остающихся непослушными крестьян послан полковник кн. Урусов. И на это донесение Сенат отвечал: стараться, сколько возможно, привести в повиновение и остальных крестьян без строгости и жестокостей; все силы употребить для скорейшего рассмотрения и удовлетворения крестьянских жалоб и тем окончить все их неудовольствия. Но желание Сената не исполнилось: комиссия донесла, что кн. Урусов, прибыв с командою в Кижскую треть, сколько ни прилагал старания привести крестьян к должному повиновению кроткими средствами, цели своей не достиг, почему принужден был приказать выстрелить из пушки и лишить жизни некоторых крестьян, после чего остальные объявили себя послушными и уже вступили в работу.
Сиверс не переставал ходатайствовать за крепостных крестьян; он писал императрице: «Позволение, данное дворянам посылать на поселение, кого им угодно, из своих крестьян, причем судья не смеет спрашивать: за что? – это позволение производит ежедневно трогательные зрелища. Крестьянин, которого нельзя сдать в рекруты по малому росту или другому какому-нибудь недостатку, должен отправляться в ссылку в зачет будущего набора, которого помещик боится в будущем году, и многие даже продают эти квитанции. Признаюсь, не проходит дня, чтоб сердце мое не вооружалось против такой привилегии. Сибирь выигрывает относительно мало, если обратить внимание на расстояние и потери в людях на дороге». Сенат принял другую меру для заселения Сибири. Он сделал запрос Коллегии экономии, сколько в Московской провинции таких экономических сел и деревень, которых жители имеют недостаток в земле, и сколько из них в другие места выселить можно. Коллегия отвечала, что она представит об этом немедленно по собрании справок, прибавив, что и по одному Московскому уезду оказывается значительный недостаток в землях. На это Сенат приказал: предписать Коллегии экономии, чтоб она представила как можно скорее сведение, сколько крестьянских семей за недостатком земель можно выселить в Сибирь, чтоб Сенат мог основательно донести императрице, как удобнее заселить ими нужные места в Сибири и как, напротив того, мало пользы может принести прием на поселение помещичьих людей и крестьян, когда бы он возобновился.
Заводские крестьяне волновались, жалуясь на невыносимую тягость работ, и в то же время крестьяне, бегавшие от разного рода тягостей, находили убежище на заводах. Серпейская воеводская канцелярия доносила, что на заводах Демидова явно принимают и содержат в работе беглых, а притом дают им и подложные паспорты.
В городах не было спокойно. Новгородский губернатор Сиверс донес Сенату об обидах, озорничествах, побоях и убийствах, причиненных разным помещикам тихвинскими жителями. Сенат приказал назначить следствие и прибавил: так как из этого представления и из прежних дел усматривается, что такое неустройство, драки и убийства происходят от колокольного набата, производимого безо всякой нужды и без дозволения властей, тогда как звон в набат позволяется только в случаях пожаров, неприятельских и разбойничьих нападений, то обнародовать указы, чтоб впредь, кроме означенных случаев, никто не смел бить в набат при начале частных ссор и драк. Подполковник Рязанов, посланный с командою для доставления в Саратов подрядных лесов для колонистов, подал жалобу, что на дороге в Сызрани городские жители прибили его, ограбили и сожгли бывшие при нем бумаги. Но в то же время поступили доношения от сызранских купцов, пахотных солдат и городового депутата, что Рязанов и команда его сильно обижали граждан, позволяя себе насилия над женщинами и девицами. Смоленский губернатор доносил, что в Вязьме у тамошнего купечества и магистратских присутствующих происходят большие ссоры и драки с находящимися там воинскими чинами; кроме того, откупщик Барышников жалуется на учрежденного там от купечества под магистратским ведомством полицейского старосту Зуева, который поступает против заключенного с Барышниковым контракта, попускает купцам производить многие драки для защиты корчемников. Для прекращения этого губернатор предлагал не раз вяземскому магистрату сдать полицейское управление воеводскому товарищу, который будет зависеть от губернатора, но магистрат не слушается и употребляет в своих представлениях неприличные выражения и нарекания, относящиеся к нему, губернатору. В то же время вяземский магистрат, жалуясь на губернатора, просил оставить полицейское управление в своем ведомстве по силе магистратского регламента. Сенат решил: довольно видны вяземского магистрата губернатору ослушания, укоризны и дерзкие выражения, лицу и власти губернатора как хозяина в губернии неприличные, и для того послать указ в главный магистрат об отрешении настоящих членов вяземского магистрата и определения на место их других по выбору тамошнего купечества, причем Главный магистрат должен нарядить от себя нарочного депутата для произведения следствия над смененными; других следователей должен назначить губернатор. Дерзость вяземского магистрата состояла в том, что он писал к губернатору, как три раза доносил ему о незаконных высылках вина и причиненных Барышниковым двоим купцам разорениях, о других обидах и неплатеже положенного оклада; но губернатор оправдал во всем Барышникова и поручил полицейское управление вяземскому воеводскому товарищу Богданову, большому приятелю Барышникова, на что магистрат не согласился и послал просьбы в Главный магистрат и самый Сенат.
Но далеко не так остался доволен Сенатом белгородский губернатор Фливерн в столкновении своем с членами курского магистрата. Фливерн жаловался, что курский магистрат не допустил записаться в купечество и в цех курских однодворцев, которые уже устроили кожевенные заводы, сапожное и другие ремесла; губернатор просил наказать членов курского магистрата и подтвердить Главному магистрату, чтоб в приписке этих однодворцев в цех не было запрещения. Но Сенат решил: так как из показанных с обеих сторон обстоятельств он не находит побудительных причин к наказанию курского магистрата, напротив, представляемые последним основания находит справедливыми, то означенных однодворцев, исключа из цехов, возвратить опять в прежнее состояние, и так как подобные дела по существу своему принадлежат исключительно магистратам, то губернатору вперед отнюдь в них не вступаться.
Из Каргополя пришло известие, что там страшные непорядки между купечеством, по соляному сбору и по прочим делам упущения и казнокрадства; купцы били тирански секретаря Пятницкого, и когда губернатор назначил следствие, то доноситель копиист Попов найден в реке с камнем на шее; а крестьяне, одобряя воеводу, товарища его и секретаря, просили, чтоб купеческим затейным просьбам не верить, купцы несправедливо показывают, будто воевода, товарищ его и секретарь притесняли крестьян. Рыльская воеводская канцелярия доносила, что тамошние купцы Выходцевы, собравшись многолюдством, не пустили к себе команду, посланную для выемки у них корчемного вина, и вообще делают откупщикам многие обиды и озорничества, а рыльский магистрат, потворствуя им, нужных к следствию людей не присылает.
Продолжавшиеся жалобы на мироедов по-прежнему обличали слабость городовой общины, недостаточную еще способность к самоуправлению. Гжатские купцы Санбуровы, Гурьев и Емельянов жаловались на присутствующих тамошней ратуши, что они завладели принадлежащими купечеству землями; с тех амбаров и лавок, которыми владеют, десятой части в казну не платят; места отводят под поселение неудобные; в торгах делают препятствия; двоих капитальных купцов по злобе отдали на поселение с зачетом в рекруты. Тамбовские купцы Иван Меньшой Кузьмин, Василий Расторгуев, Матвей Бородин и Григорий Беляев доносили, что бургомистр тамбовского магистрата Толмачев тамбовским купцам Бородиным, Расторгуевым и Беляеву дал аттестаты для их торговых промыслов и подрядов не против их капиталов, но с большим излишеством и теперь из тех купцов Расторгуев поехал для откупа питейных сборов. Сенат приказал: 35 человек тамбовских купцов показали, что аттестаты подписаны Толмачевым без согласия всего купечества, единственно только потому, что Бородин и Расторгуев без совету прочих купцов, ходя по домам и лавкам, собирают подписки, чтоб быть Толмачеву бургомистром, чего купечество не желает; следовательно, заключает Сенат, нельзя увериться, чтоб означенные аттестаты были справедливы, тем более что и по нынешнему содержанию упомянутыми купцами питейных сборов состоит на них доимки около 9000 рублей; так как поэтому к торгам питейных сборов их допускать сомнительно, то пусть Главный магистрат рассмотрит немедленно, аттестаты им даны согласно ли камер-коллежскому регламенту.
Мы видели, что с самого начала войны внутренняя охрана была ослаблена, вследствие чего надобно было ожидать умножения разбоев. Лихвинская воеводская канцелярия дала знать о разбитии 7 человек купцов разбойническою шайкою в 30 человек. Вслед за тем Сенат получил известие, что по рекам Волге, Каме и Белой оказались великие разбои, железным караванам Демидовых и Твердышева чинятся грабежи и находящимся на них людям разные мучительства; Сенат приказал казанскому и нижегородскому губернаторам препятствовать и ловить, но легко ли было исполнять приказание? Около Саратова в колониях явились разбойничьи шайки, двух человек убили, несколько селений с хлебом и скотом сожгли, грозя и вперед делать то же. На Каме насчитывали 14 разбойничьих шаек, в каждой от 7 до 15 человек. Разбои начались в Шатском и Касимовском уездах и в Темниковском лесу. Так было в 1769 году. В следующем 1770 казанский губернатор донес, что по рекам Вятке, Каме, Волге и Суре весною появились разбойничьи многолюдные шайки, которые убивают и разоряют обывателей, для поимки отправлены команды и 38 разбойников поймано. Осенью разбойники напали на Фролищеву пустынь (Владимирской епархии), всю разграбили, строителя били мучительски, допытываясь денег. Тогда же получены были известия о разбоях в Слободско-Украинской, Воронежской губернии, в Уфимской и Галицкой провинциях. Потом появились в Балахне, в Тамбовском уезде. Сила и дерзость их дошла до того, что они напали на Кайгород, разорили и пожгли обывательские дома, пограбили деньги соляного сбора.
Но недостаточность войска для охранения порядка всего яснее оказалась в Москве во время бедствия, причиненного также турецкою войною. Мы видели, что русское войско по вступлении в Молдавию встретило там врага гораздо опаснее турок – чуму. В конце лета 1770 года она перешла русские границы, быстро распространилась по Малороссии, начала появляться и на границах Великой России, в Севске и Брянске. Московскую губернию с юга окружили заставами, приняли обычные карантинные меры, велено было и самую Москву обнести палисадником или рогатками, но последняя мера осталась без исполнения. В конце года (17 декабря) чума появилась в отдаленной части Москвы, в Лефортове, в малом госпитале, находившемся на Введенских горах. Главный доктор госпиталя Шафонский дал знать медицинской конторе об опасной болезни, дал знать и обер-полицеймейстеру Бахметеву, а тот донес главнокомандующему в столице графу Петру Семен. Солтыкову, что, по словам доктора, с 17 декабря в госпитале умерло 14 человек опасною болезнею и двое больных остаются. 22 декабря Солтыков писал императрице: «Имеющий дирекцию над госпиталью генерал-майор Фаминцын приехал только сегодня поутру и подал рапорт, ничего значащий и что у них ничего опасного нет. В. и. в-ство изволит усмотреть из рапортов обер-полицеймейстера, да и от медицинской конторы, что зараза уже началась в ноябре месяце. Фаминцын все знал и для чего таил? Г. обер-полицеймейстер – человек весьма проворный и рачительный; я бы желал, чтоб все здешние правители так были исправны и мне в таких нужных обстоятельствах помогали».
В тот же самый день, 22 декабря, собрали совет из медиков – Эразмуса, Шкиадана, Кульмана, Мертенса, фон-Аша, Венемианова, Зыбелина и Ягольского; единогласно было решено, что болезнь должно считать моровою язвою. То же самое доктор Мертенс подтвердил Солтыкову и советовал ему оцепить госпиталь, что и было исполнено. 25 декабря, донося об этом распоряжении, Солтыков писал императрице: «Не надеясь на себя, призывал я доктора Мертенса и требовал его совету, который мне и дал на все то, что уже сделано; кроме того, он требует, чтоб въезд в Москву всем запретить, что никоим образом сделать неможно: в таком великом городе столько людей, кои питаются привозным харчем, кроме помещиков, и те получают из своих деревень; товары к портам везут чрез Москву; все – мясо, рыба и прочее – все через здешний город идет; низовые города – Украйна – со всех сторон едут; воспретить невозможно. Из Украйны же проезд, кажется, необходим: кроме курьеров армия требует многого, необходимо посылать должно кого для подрядов и приему вещей в полки».
Наступил 1771 год. Из Москвы стали приходить успокоительные известия; 4 января Солтыков писал: «Ныне оная болезнь утихает, холодное время немало тому способствует, уже несколько дней на Введенских горах более о ней не слышно. Приезжающих из опасных мест велено везде гвардии офицерам накрепко осматривать; но из едущих ни один не имеет нималого виду, хоть бы билет или паспорт; здесь же, около Москвы, от полиции заставы, а как ныне зима, все рвы снегом занесло, то везде переезды, а конного разъезда учредить не из чего, ибо и последний полк почти весь в расходе». 15 января главнокомандующий доносил: «В госпитале на Введенских горах, где было оказалась язва, и там все кончилось. О болезни же прямо донесть не могу, там была или нет, пока же, кроме двух подлекарей, кои и ныне там заперты, никто там не бывал. Главного госпиталя доктор (Шафонский) просил медицинскую контору, чтоб освидетельствовать, но ни один доктор не поехал, и рассуждали заочно. Ныне я призывал здешнего физикуса (Риндера) и посылал туда; он ездил, но только с госпитальным доктором через огонь говорил, и тот его упрекал, что по многим посылкам ни один не был».
Холода прекратили болезнь; но вот уже февраль, начинает таять, с теплом язва может вернуться; и Солтыков предлагает против этого меры. 7 февраля он пишет императрице: «Весна приближается; не изволите ли приказать всех больных (т. е. из госпиталя) из Москвы вывесть по разным монастырям верст от 15 до 50 по малому числу в каждый, отрядив лекарей, что монастырям никакой тягости не учинит, ибо малое число больных будет на чистом воздухе, а Москва и без госпиталей довольно нечистот имеет, оный же госпиталь весьма в неудобном месте, вверху Яузы, откуда нечистота идет в город. Не худо бы и праздношатающихся из города к весне убавить: город людный, строение мелкое и тесное». Императрица не согласилась на перемещение больных в окрестные монастыри, и Солтыков от 28 февраля дал знать, что главный госпиталь от караула освобожден и больных туда принимать велено; в малом же госпитале на Введенских горах два покоя, где была заразительная болезнь, а с прочими находящимися в той же связи ветхими и почти ничего не стоящими покоями, со всем, что в них было, сожжены по совету генерал-кригс-комиссара Глебова и обер-полицеймейстера Бахметева.
В то время как огонь истреблял ветхое строение малого госпиталя на Введенских горах, язва похищала свои жертвы в самой средине Москвы. 13 марта Солтыков донес: «Сего марта 10-го получил я от доктора Ягельского рапорт о оказавшейся в Большом суконном дворе, что близ Каменного моста на берегу Москвы-реки, прилипчивой болезни, коею померло с января месяца по нынешнее число 123 человека да больных осталось 21». Солтыков послал туда пять лекарей, которые по осмотру заключили, что болезнь есть гниючая, прилипчивая, заразительная и очень близко подходит к язве. В Москве, как мы знаем, с 1763 года было два департамента Сената, пятый и шестой, которым принадлежало принятие мер в важнейших случаях. Главнокомандующий созвал всех сенаторов, и решили: 1) хотя больных по монастырям развести указом ее и. в-ства и не позволено, однако по крайней нужде надобно всех больных вывесть из Суконного двора в Угрешский монастырь (на что согласился и московский архиепископ Амвросий); 2) здоровых всех вывесть в наемный дом за Мещанскою улицею в поле, определя к ним лекаря и оцепив их; 3) покинутый Суконный двор оцепить. Но прежде чем были приняты эти меры, около 2000 фабричных с Суконного двора разбежались и стали жить по всему городу, вследствие чего уже поднято было на улицах несколько трупов. Доктор Ореус и штаб-лекарь Граве, наблюдавшие чуму на юге в армии, донесли Солтыкову, что на московских больных те же самые знаки, какие они видели на чумных в Хотине. Солтыков объявил об этом сенаторам московских департаментов, и было решено: как содержащихся в карантинных домах, так и ушедших с Большого суконного двора фабричных с их хозяевами, у которых они имели пристанище, перевесть в три монастыря, отдаля больных от здоровых, и действительно зараженных язвою поместить в Угрешском монастыре; служителей, назначенных к отводу опасно больных, также медиков одеть в приличное платье, которое бы предохранило их от опасности. Чтоб фабричные на св. неделе не шатались по городу и не сообщались с бежавшими с Суконного двора, всем фабрикантам объявлено, чтоб они всю неделю не пускали своих рабочих с фабрик. Пока укрывшиеся с Большого суконного двора фабричные не будут собраны и не восстановится безопасность, во всем городе закрыть торговые бани; внутри города запрещено погребать вообще умерших.
Получив эти известия, императрица приказала предложить Совету следующие меры, чтоб, сколько возможно, остановить распространение заразы: 1) установить карантин для всех выезжающих из Москвы верстах в тридцати от этой столицы как по большим, так и проселочным дорогам; 2) Москву, если возможность есть, запереть и не впускать никого без дозволения гр. Солтыкова; 3) обозы со съестными припасами останавливать в семи верстах от Москвы в назначенных местах: сюда московским жителям приходить и закупать то, что им нужно, в назначенные дни и часы; 4) на этих местах московская полиция должна между покупщиками и продавцами разложить большие огни и сделать надолбы; должна наблюдать, чтоб городские жители до приезжих не дотрогивались и не смешивались вместе, деньги обмакивать в уксус; 5) московский архиерей должен по отправленному из Синода формуляру приказать читать по церквам молитвы о прилипчивой болезни во всей своей епархии, дабы народ еще больше остерегался от опасности; то же велеть делать во Владимирской, Переяславской, Тверской и Крутицкой епархиях. Для города Петербурга установить на Тихвинской, Старорусской, Новгородской и Смоленской дорогах во ста верстах карантин, хотя семидневный, и если не окажется болезни, то пропускать, окуривая людей и вещи, обмакивая в уксус письма и прочее, как положено будет. Тотчас после просухи вывести все воинские команды в лагерь не в ближнем и не в дальнем расстоянии от города, всякий полк или команду особо, и для того заранее выбрать места и дать повеления. Хорошо было бы, если бы и морское начальство то же сделало. Под воинскими командами разумеются здесь и полки гвардии. Совет, рассуждая об этих мерах, решил представить императрице, не угодно ли будет в Петербурге назначить особу, которая была бы в состоянии независимо от предписаний своею расторопностию принимать все нужные меры: В ведении этой особы будут заставы, которых всего лучше устроить три: в Чудове, Бронницах, Твери и Ладоге; что же касается Москвы, то пункты ее в-ства послать фельдмаршалу Солтыкову с тем, что «сие предписание предподается яко способы ко употреблению по усмотрению на месте, поелику распространение болезни требовать будет по оным исполнения».
В то же заседание Совета 28 марта приглашены были доктор Ореус и московский губернатор Юшков. Первый объявил, что по долгу и званию своему признает болезнь заразительною и что сам больных осматривал. Юшков донес, что московские медики на этот счет между собою не согласны.
Императрица согласилась со мнением Совета, и карантинное устройство было поручено генерал-поручику гр. Брюсу. Совет еще прежде, 21 марта, рассуждал, что по старости гр. Солтыкова охранение Москвы от заразы надобно поручить кому-нибудь другому, но остановился затем, что это будет предосудительно главному командиру. Но императрица не остановилась, и распоряжение всеми мерами против чумы в Москве было поручено генерал-поручику сенатору Петру Дмитр. Еропкину.
Солтыков признавал необходимость внутренних мер очищения Москвы как от зачумленных, так и от условий, благоприятствующих распространению заразы, но по-прежнему стоял против оцепления столицы как невозможного по ничтожному количеству войска, крайне стеснительному и могущему потому повести к волнениям. Он писал императрице 4 апреля: «В установлении карантина для всех выезжающих, кажется, надобности нет, а более в том неудобство; также въезд в Москву запретить весьма опасно: почти весь город питается покупным хлебом; ежели привозу не будет, то будет голод, все работы станут, за семь же верст никто не пойдет покупать, а будет грабить; и без того воровства довольно. Москву запереть способу нет, городу нет, Белый разломан, войска нет, кем окружить? Лучше, чтоб разъезжались по деревням на чистый воздух, в городе тесноты менее будет».
Солтыкову не понравилось назначение Еропкина, что видно из письма его от 21 апреля: «Как по повелению в. в-ства все оное поручено генерал-поручику сенатору Еропкину, предосторожности же все сначала взяты, кажется, больше нечего делать, только ему остается наблюдать учрежденное, того ради все от меня ему попечение поручено, только чтобы меня уведомлять в известие».
Между тем ход болезни в Москве был такой: от 7 апреля Солтыков доносил, что, кроме Угрешского и Симонова монастырей, умерших и больных нет. 18 апреля писал, что вывелено из Москвы фабричных в Симонов, Данилов и Покровский монастыри 943 человека обоего пола. 25 мая в Петербурге в первом департаменте Сената читалось ведение московских департаментов, что так как теперь большая часть работников, бежавших с Суконного двора в карантины, уже собрана и несысканных осталось очень немного, то в удовольствие обществу разрешено топить бани. 30 мая Солтыков прислал утешительное известие, что в карантинных монастырях умерших и вновь заболевших никого нет, только в Угрешском 9 человек больных. Поэтому последовал указ императрицы распустить фабричных, содержавшихся по карантинам в Покровском и Даниловом монастырях, и позволить им жить всюду по частным квартирам, что и было исполнено. Но с двадцатых чисел июня в Симонове монастыре опять появилась язва: умерло 10 фабричных, заболело 6. С этих пор болезнь начала усиливаться. Еропкин действовал неутомимо, сделал все, что мог, учредив крепкий, по-видимому, надзор за тем, чтоб каждый заболевший немедленно препровождался в больницу, или так называемый карантин, вещи, принадлежавшие чумным, истреблялись немедленно; но ни Еропкин, никто другой не мог перевоспитать народ, вдруг вселить в него привычку к общему делу, способность помогать правительственным распоряжениям, без чего последние не могут иметь успеха; с другой стороны, ни Еропкин, никто другой не мог вдруг создать людей для исполнения правительственных распоряжений и надзора за этим исполнением – людей, способных и честных, которые бы не позволяли себе злоупотреблений. Жители Москвы не столько боялись чумы, сколько больниц, или так называемых карантинов, и потому скрывали больных, не объявляли о них начальникам, которых Еропкин поставил в каждой части города. Другие, оставляя больных одних в домах безо всякой помощи и попечения, сами разбегались и разносили повсюду болезнь и ужас. Иные скрытно выносили из домов мертвых и кидали на улице для того, чтоб не лишиться зараженных пожитков и не подвергнуться осмотру назначенных для того людей. Какого же рода злоупотребления позволяли себе последние, это обозначено в манифесте императрицы: «Наша воля есть, чтоб при осмотре домов и при вывозе в карантин и тако на месте со всеми поступлено было со стороны начальников и приставленников со всем возможным человеколюбием и попечением и чтоб всякий по своему состоянию все к жизни нужные выгоды имел. Всякое же угнетение, утеснение, грубость и нахальство всем и каждому запрещаем употребить, наипаче же паки и паки наистрожайше запрещаем всем начальникам и подчиненным брать взятки, вынуждать у кого бы то ни было деньги и лихоимствовать под каким бы то предлогом ни было как при осмотрах, так и при выводе в карантин… Слух же есть, что таковых беспорядков много ныне на Москве».
От 2 августа Солтыков писал, что в доме у самого Еропкина оказалась чума и потому этот генерал отказывается от исполнения своих обязанностей; Еропкин писал Брюсу, что с таким малым числом людей, какое у него, нет возможности действовать с успехом. Совет решил послать Еропкину рескрипт с убеждением остаться при должности, несмотря на то что чума оказалась у него в доме; решил также назначить в помощь Еропкину сенатора Собакина и, кроме того, отправил к нему из Петербурга 12 человек гвардейских офицеров для исполнения его поручений. Московский медицинский совет представил о необходимости в кабаках продавать вино из окон, не впуская покупателей в двери, перевести экономическую слободу, построенную подле Земляного вала, выбрать из хороших господских людей в десятские для ежедневного осмотра домов; для погребения умерших от чумы и к отвозу зараженных в больницы употребить каторжных. В Петербурге Совет одобрил все эти меры, кроме последней, соглашаясь на употребление каторжных только разве для копания могил. Тогда же запрещено было вывозить из Москвы какие бы то ни было товары, зараженные домы велено окуривать преимущественно серою; едущие в Петербург курьеры должны были объезжать Москву.
Мы видели, что весною оцепление Москвы было предложено Солтыкову на его благоусмотрение, во сколько этого будет требовать распространение болезни, и тогда Солтыков признал оцепление бесполезным и невозможным. Но теперь при усилении болезни, ввиду опасности, которая грозила другим областям и Петербургу, императрица сочла необходимым предписать московскому начальству это оцепление. 25 августа, присутствуя в Совете, она объявила, что «хотя не надеется, чтоб была в Москве действительная язва, но за потребно почла, однако ж, принять все к истреблению продолжающейся там болезни меры, дабы не быть ответственною в упущении оных». Солтыков и тут не соглашался на оцепление. 30 августа он писал: «Карантины ныне учреждать нужды не видится, да уже и поздно: из Москвы почти все выехали, да и подлость вся бежит, маркитантов и хлебников мало осталось, и все боятся карантинов, магазейнов запасных нет, никто в город не едет, не без опасности голоду, зима приходит, дров не везут, народ уже и так уныл и обробел, карантины здешнему народу всего тяжеле, уже несколько и грозились на заставы». Московские сенаторы разделяли взгляд фельдмаршала и представили императрице о невозможности оцепления Москвы, ибо тому препятствуют положение города, состояние домов, жителей, их нравы и обычаи. 5 сентября Екатерина сама принесла в Совет только что полученные из Москвы реляцию Солтыкова и доклад московских департаментов Сената о невозможности оцепления, также письмо Еропкина к Брюсу, где говорилось, что в Москве в двое суток умерло опасною болезнею 207, а другими болезнями – 615 человек. Совет определил предписать Московскому сенату и тамошнему начальству: 1) что карантинные домы необходимы, и потому не только надобно оставить все прежние, но учреждать и новые, причем обнародовать, чтоб все жители объявляли тотчас частным надзирателям о больных для медицинского освидетельствования и отдаления заболевших, если болезнь окажется опасною или сомнительною; что всем тем, которые будут это исполнять, отдается на волю идти в карантин или оставаться дома, не сообщаясь, однако, ни с кем в продолжение 16 дней, но утаивающие о болезни непременно будут отвозимы в карантины; для одной комнаты, где кто умрет опасною болезнею, целые дома не запирать, особенно когда строение разделено на части; 2) карантинные около Москвы заставы также нужны для охранения всей империи и должны быть учреждены по всем дорогам из Москвы в первых от Камер-коллежского вала селениях; 3) отнюдь не надобно впускать в Москву приходящие из других мест с запасами обозы, а определять им места вне Камер-коллежского вала, где они от городских жителей должны быть отделены еще надолбами, и торг должен производиться в присутствии полиции; 4) харчевники, хлебники и квасники – одним словом, все торгующие съестным не могут считаться праздными и излишними в городе людьми, а потому и нельзя их оттуда выпускать свободно, особливо в таком бедственном состоянии; нужно по крайней мере, собравши там остающихся, распределить их на части и установить между ними старост, которые бы за ними смотрели и за них отвечали; 5) хотя и нельзя ожидать, чтоб теперь в Москве мог случиться недостаток в съестных припасах, потому что обыкновенно там все запасается от зимы до зимы, а теперь тем более быть может достаточно, что значительная часть жителей разъехались по другим местам, однако на случай крайности можно сделать наряд поставки туда припасов с ближних городов и селений и назначить места этим подвозам, где бы высылаемые из города, платя им деньги по обыкновенной цене, принимали от них припасы.
Императрица сама сочинила ответ Московскому сенату в опровержение его мнения о невозможности оцепления Москвы. «За первый долг, – говорилось здесь, – почитаем мы пред богом и от него нам вверенным народом иметь попечение о благополуции и здравии наших верных подданных. И для того и при нынешних трудных обстоятельствах не с унылым духом, но с душою, наполненною памятствованием о должности своей и любви к государству, с духом, который в печали своей о теперешних московских обстоятельствах не может находить спокойствия и утешения в пустых сожалениях и воздыханиях, но находить отраду, единственно ища с бодростию и предписуя с твердостию все те меры и осторожности, кои человеческий смысл может только привести в память, для пресечения в столице нагубы рода человеческого и для предостережения, чтоб далее в империи не распространилась. Из сих источников вышли те предписания, кои наш Сенат находит неудобными. Мы ведаем из опытов, что, бесспорно, великая препона быть может скорому учреждению наших предписаний обширность города, но мы притом же ведаем, что наипаче вредно оставлять полезное учреждение для того, что трудно его учредить. Состояние домов, нравы, застарелые обычаи преумножают трудности по причине той, что надлежит входить в подробности, дабы сравнивать с одной стороны выгодности и покой жителей с ненарушимостию того, что установить желается. Но как для порока или слабости, какого бы то звания ни были, не должно отстать, еще менее уничтожить доброе и полезное учреждение, то и в нынешнем случае надлежит преодолеть препятствия, а не ими стращаться и наипаче стараться, чтоб исполнители честные точно, бескорыстно и усердно исполняли всякий то, что ему поручено, за чем начальники смотреть имеют наикрепчайше; да и не токмо они, но и всякий в правительстве участвующий, ибо все присягою и честию обязаны всякий вред пресечь и всякому добру подать руку помощи для истребления зла, вредящего обществу, следовательно, самому ему. Не ныне нам ослабевать и опускать обремененные руки для собственного покоя, но да приложат всякий смысл помогать учреждению, сделанному для общей безопасности от мора».
Между тем в Москве 1 сентября Еропкин предложил сенаторам: не угодно ли будет для скорейшего истребления заразительной болезни московскому купечеству приказать, чтоб оно для занемогающих купцов учредило по возможности на свой кошт карантинные домы и лазареты. Приказали: призвать в Сенат из Московского магистрата президента и с ним лучших первостатейных купцов человек с 10 и, объявя им упомянутое предложение, увещевать, чтоб они согласились принять на свой кошт учреждение карантинов и лазарета; кроме того, склонять через полицию и других слободских обывателей, не пожелают ли и они учредить карантины и лазарет на свой счет. Потом Еропкин предложил, что по множеству умирающих от заразительной болезни осужденных на поселение преступников, назначенных для вывоза и погребения тел, слишком мало, и потому, так как теперь работа на фабриках прекратилась, не угодно ли будет Сенату определить для этого фабричных в каждую часть по 20 человек с платою по 6 коп. на день. Сенат согласился. Этот Сенат состоял кроме самого Еропкина еще из трех членов: Собакина, графа Ив. Воронцова и Рожнова; но тогда же, 1 сентября, Собакин, назначенный, как мы видели, помощником Еропкина, объявил, что у него в доме оказалась на людях опасная болезнь, почему он больше не будет исполнять порученной ему комиссии и присутствовать в Сенате. На другой день, 2 сентября, в Сенате присутствовали трое: кн. Козловский, Рожнов и Еропкин; и последний сообщил печальное известие: во время осмотра доктором Шафонским и гвардии капитаном Волоцким в Лефортовской слободе опасно больных и умерших госпитальный комиссар поручик Кафтырев, Вотчинной коллегии канцелярист Прытков, конторы строения домов и садов капрал Раков, отставные конюхи Петров и Пятницкий, собравшись большою толпою, наглым и дерзким образом не допустили Шафонского и Волоцкого до осмотру, крича, будто Шафонский и другие лекари дают в госпитале больным и здоровым порошки с мышьяком и от них заражаются жители тамошних слобод. Сенат приказал Кафтырева содержать две недели на хлебе и на воде, других наказать плетьми. Обер-полицеймейстер Бахметев донес, что при запечатании на Красной площади ларей со старым платьем, которым про изводится торговля, один из продавцов, синодальной конторы солдат, бросил из-за людей камнем и проломил голову солдату, и хотя продавцы ветошья и были схватываемы, но по малочисленности команд всегда их отбивали разных чинов люди. Сенат приказал высечь плетьми солдата синодальной конторы.
Купцы согласились на предложение Еропкина; за ними выступили раскольники. Они подали Еропкину записку за руками, в которой просили позволить им купить или построить против Преображенского в Земляном валу карантин и содержать его на свой счет, только с тем чтоб все они освобождены были от докторских осмотров и офицерских распоряжений. Двое из просителей – Пимен Алексеев и Иван Прохоров – были введены в Сенат, где им объявлено, что больницу в означенном месте им построить можно, но уволить от докторских осмотров и офицерских распоряжений нельзя. Просители согласились. В этот день, 7 сентября, в Сенате присутствовали четверо: Рожнов, Похвиснев, кн. Козловский и Еропкин. 12 сентября присутствовали только трое: Рожнов, Еропкин и сам фельдмаршал Солтыков; на другой день, 13 числа, Солтыков приехал в Сенат и опять застал только двоих – Рожнова и Еропкина.
Старик не выдержал и 14 числа отправил императрице отчаянное донесение: «Болезнь уже так умножилась и день ото дня усиливается, что никакого способу не остается оную прекратить, кроме чтобы всяк старался себя охранить. Мрет в Москве в сутки до 835 человек, выключая тех, коих тайно хоронят, и все от страху карантинов, да и по улицам находят мертвых тел по 60 и более. Из Москвы множество народу подлого побежало, особливо хлебники, калачники, маркитанты, квасники, и все, кои съестными припасами торгуют, и прочие мастеровые; с нуждою можно что купить съестное, работ нет, хлебных магазинов нет; дворянство все выехало по деревням. Генерал-поручик Петр Дмитр. Еропкин старается и трудится неусыпно оное зло прекратить, но все его труды тщетны, у него в доме человек его заразился, о чем он меня просил, чтоб донесть в. и. в-ству и испросить милостивого увольнения от сей комиссии. У меня в канцелярии также заразились, кроме что кругом меня во всех домах мрут, и я запер свои ворота, сижу один, опасаясь и себе несчастия. Я всячески генерал-поручику Еропкину помогал, да уже и помочь нечем: команда вся раскомандирована, в присутственных местах все дела остановились и везде приказные служители заражаются. Приемлю смелость просить мне дозволить на сие злое время отлучиться, пока оное по наступающему холодному времени может утихнуть. И комиссия генерал-поручика Еропкина ныне лишняя и больше вреда делает, и все те частные смотрители, посылая от себя и сами ездя, более болезнь развозят. Ныне фабриканты делают свои карантины и берут своих людей на свое смотрение. Купцы также соглашаются своих больных содержать, раскольники выводят своих в шалаши». Не дожидаясь ответа на свою просьбу, того же 14 сентября Солтыков уехал в подмосковную на два дня Разумеется, этот поступок оправдать было нельзя; он объяснялся тяжким положением начальника при чувстве своей беспомощности, одиночества: все разъезжаются, мог думать старик, бросают свои должности, оставляют меня одного, но что я один сделаю, чем помогу? Распоряжается всем Еропкин, он останется, а я вздохну два дня на чистом воздухе. Разумеется, его двухдневное отсутствие не было бы замечено, если бы на другой же день отъезда фельдмаршала, 15 сентября, не произошел в Москве бунт.
Бунт сопровождался страшным, отвратительным, небывалым явлением – убийством архиерея.
В 1767 году умер московский митрополит Тимофей, принадлежавший к числу людей, которых называют добрыми и этим словом отделываются от более точного определения характера. При добром митрополите сильная власть у консистории, ее злоупотребления – понаровка явлениям непозволенным, понаровка из-за взяток. Преемником Тимофея был Амвросий Зертис-Каменский, человек с другим характером. Энергический Амвросий, знавший хорошо московские беспорядки, потому что перед этим был архиереем крутицким, следовательно, жил в Москве, решился искоренить эти беспорядки, дать силу регламентам, указам – предприятие трудное, потому что одним из главных источников беспорядков была крайняя бедность белого духовенства. Обязательная женитьба в ранней молодости условливала многочисленное семейство, обеспечить содержание которого, обеспечить приличное воспитание детей – задача тяжелая и для государства побогаче России; отсюда искание средств жизни с ущербом достоинства, отсюда та алчность, которую издавна так легкомысленно порицали, над которою так жестоко смеялись в литературе, не давая себе труда объяснить явление. Амвросий ввел порядок в консистории, ибо за нарушение порядка предстоял «штраф цепью, скованием в железы и вычет жалованья без всякого послабления»; кто не хотел подчиняться новым порядкам, того немедленно удаляли. Амвросий запретил вступать в брак молодым людям духовного звания, не кончившим богословского курса, не выдержавшим экзамена у преосвященного, запретил духовенству меняться домами и переходить от церкви к церкви, исходатайствовал у Синода возобновление указа Петра Великого, чтоб духовенство не тратилось на покупку своих домов, а имело дома церковные. Особенно остался памятен Амвросий своим гонением на так называемых крестцовых попов в Москве: он усмотрел, что «в Москве праздных священников и прочего духовного причта людей премногое число шатается, которые к крайнему соблазну, стоя на Спасском крестце для найму к служению по церквам, великие делают безобразия, производят между собою торг и при убавке друг перед другом цены вместо надлежащего священнику благоговения произносят с великою враждою сквернословную брань, иногда же делают и драку. А после служения, не имея собственного дому и пристанища, остальное время или по казенным питейным домам и харчевням провождают, или же, напившись допьяна, по улицам безобразно скитаются». Старики передавали нам, что у этих крестцовых попов был такой обычай: стояли они с калачами в руках, и когда нанимающий служить обедню давал мало, то они кричали ему: «Не торгуйся, а то сейчас закушу!» (т. е. калач, и тем лишусь способности служить обедню).
Легко понять, что такой архиерей, как Амвросий, не мог приобрести расположения в низших слоях московских жителей, среди которых, с одной стороны, явления, им гонимые, не производили большого соблазна, а с другой – среди этих именно слоев накоплялись жалобы на строгого архиерея и принимались с сочувствием по самой близости обиженных к этим слоям. Амвросий должен был знать, что его не любят и кто собственно не любит, и нерасположение, естественно, вызывало нерасположение. При таких-то отношениях Амвросию доносят, что у Варварских ворот на площади происходит безобразное явление, против которого так гремит духовный регламент, так вопиет просвещенный век. У Варварских ворот на стене был давно образ боголюбской богородицы; вдруг с начала сентября начались пред ним беспрестанные молебны и всенощные. Какой-то фабричный рассказывал, что видел во сне богородицу, которая объявила ему: «Так как 30 лет уже у ее образа никто не только не отпел молебна, но и свечи не поставил, то за это Христос хотел наслать на Москву каменный дождь, но она упросила заменить каменный дождь трехмесячным мором». Мы приведем любопытные слова племянника архиерейского Бантыша-Каменского, обличающие сильную вражду к белому духовенству: «Праздность, корыстолюбие и проклятое суеверие прибегло к вымыслу. В начале сентября поп у всех святых, что на Кулишках, выдумал чудо с помощью фабричного (следует рассказ о сне фабричного). Мерзкие козлы (а попами их грех назвать!), оставив свои приходы и церковные требы, собирались тут налоями, делая торжище, а не богомолие». Заметим здесь одно, что доказательств выдумки чуда священником, а не самим фабричным нет, обвинение остается голословным.
Бантыш-Каменский верно описывает первое впечатление, произведенное на архиепископа известием о событиях у Варварских ворот: суеверие, ложное видение – все это запрещено регламентом, указами, надобно прекратить. «Он (Амвросий) почитал за долг, а регламентом и монаршими указами предписанный, пресечь сие позорище. Первое его по сему делу было намерение удалить оттуда попов и икону перенести (ибо в воротах ни проходу, ни проезду не было по причине приставленной лестницы) во вновь построенную ее в-ством тут же у Варварских ворот Кира и Иоанна церковь и собранные там деньги употребить на богоугодные дела, а всего ближе отдать в Воспитательный дом, в коем он опекуном был. Требованные в консисторию попы не только отреклись идти, но еще и угрожали присланным побитием их каменьями». Здесь оканчивается первая часть рассказа Бантыша-Каменского о мерах Амвросия, который поступает как архиерей, обязанный прекращать суеверные явления, и поступает по своим средствам: священники требуются в консисторию отдать отчет в своем поведении; священники ослушались и тем отняли у архиерея средство вести дело надлежащим порядком. Жаль, что Бантыш-Каменский примешивает чисто полицейское побуждение: архиерей хотел икону перенести, ибо в воротах ни проходу, ни проезду не было по причине приставленной лестницы.
Когда ослушание священников не дало возможности производить консисторские исследования и распоряжения, Амвросий взглянул на дело с санитарной точки зрения. «Между тем, – говорит Бантыш-Каменский, – язва так усилилась в граде, что по 900 с лишком в день умирало; и как по предписанию докторскому запрещено было прикосновение и тесные между народом всякие сборища, то и не мог обойтись преосвященный, чтоб о способах к прекращению у Варварских ворот народного сборища не посоветоваться с г. Еропкиным, который один только в городе и был начальник. Страх, дабы не обратить на себя простолюдинов, произвел у них таковое по сему делу решение; чтоб оставить до времени перенесение иконы; а дабы собираемые у Варварских ворот деньги чрез фабричных не могли быть расхищены, то приложить к ящикам консисторскую печать; для безопаснейшего же исполнения сего дела обещал г. Еропкин прислать от себя несколько солдат». По свидетельству Еропкина, Амвросий приезжал к нему 14 сентября и говорил, что намерен деньги у Боголюбской запечатать в том рассуждении, что явление образа вымышлено от священников, которые за молебны начали приобретать великую прибыль. Здесь неясность. Явление ложное, говорит Амвросий, оно выдумано священниками из корыстных побуждений. Надобно прекратить запрещенное законом явление; если же это опасно, то как из ложности явления следует, что к денежным ящикам надобно приложить консисторские печати? Бантыш-Каменский дает такое объяснение: решились ящики запечатать из страха, чтоб деньги не были расхищены фабричными; но оказывается, что при ящиках находился военный караул. Как бы то ни было, это несчастное распоряжение насчет денег было причиною бунта.
По донесению фельдмаршала Солтыкова, основанному на рапорте обер-полицеймейстера Бахметева, 15 сентября, в четверг, в 8 часов пополудни раздался городовой набатный бой и при рогаточных караулах на улицах бой трещоток. Обер-полицеймейстер послал узнать, что такое, и получил донесение, что у Варварских ворот великое множество черни производит шум и драку. Бахметев в сопровождении троих драгунов и двоих гусар поехал сам и нашел, что от Ильинских до Варварских ворот по обе стороны стены стоит множество народа, тысяч до десяти, и большая часть вооружена дубьем. На вопрос, зачем сбежался народ, обер-полицеймейстеру отвечали, что народ сбежался по набатному бою, а набат произошел оттого, что шестеро солдат с архиерейским подьячим пришли для вынутая из ящиков денег, подаваемых богомольцами на боголюбскую икону богородицы. Около ящиков стоял караул от московского гарнизона; эти караульные объявили, что не позволят распоряжаться ящиками без позволения своего командира (плац-майора); от этого сначала произошел шум, а потом драка: злодеи побиты, которые хотели образ ободрать и казну, принадлежащую богоматери, покрасть, а народ собрался стоять за мать пресвятую богородицу до последнего издыхания. Видя, что с своим конвоем из пяти человек он не в состоянии ничего сделать, Бахметев поехал к Еропкину, который жил в своем доме на Стоженке. В Воскресенских воротах он встретил толпу тысяч до трех, бегущую с дубьем по Тверской, Моховой и из Охотного ряда под предводительством мужика с бородою, в синем китайчатом балахоне, который постоянно кричал что есть мочи: «Ребята, поспешайте постоять за мать пресвятую богородицу и не допустите ограбить божию матерь!» Бахметев успел остановить толпу, человек двадцать или больше из нее стали на сторону обер-полицеймейстера и сделались совершенно ему послушными, так что с их помощью «синий балахон» был схвачен и посажен в будку; на Моховой схватили также другого горлана с помощью господских людей. Приехавши к Еропкину, Бахметев услыхал от него: «Делайте все то, что предусмотрите к лучшему; а я вам ни команды, ни способов дать не могу», Бахметев поехал назад, заехал в будку, где посадил «синий балахон», но вместо него нашел в будке только изувеченных людей, приставленных караулить «балахон». Еще прежде, отправляясь к Еропкину, Бахметев послал полицейского майора к народу с требованием, чтоб отдали под полицейский караул архиерейского подьячего и команду, пришедших к образу за деньгами, потому что такие злодеи должны быть наказаны публично, а что прибиты народом – этого мало. Теперь майор явился к Бахметеву и донес, что народ не только согласен, но и сам просит об этом; только караульные московского гарнизона, стоящие у Варварских ворот, говорят, что сделать этого не смеют без своего командира, т. е. плац-майора. Бахметев послал донесть об этом Еропкину, тот приказал как можно скорее сыскать плац-майора или губернатора Юшкова; но, в то время как происходили эти пересылки и рассылки, разнеслись слухи, что толпа черни в Кремле, грабят в Чудове монастыре архиерейский дом, ищут убить самого хозяина.
Как скоро начались перекоры между караульными московского гарнизона и архиерейским подьячим относительно денег, в толпе, вмешавшейся в споры, уже послышались выходки против Амвросия. «Архиерей, – кричали, – ни один раз должного почтения божией матери с служением по своему чину не сделал; а как сведал, что можно взять 1000 рублей, которые доброхотные датели, некоторые почти из последнего имения своего, сложили, то уже взять деньги безо всяких замедлительств себе готов; он безбожник, надлежит предать его смерти перед этим самым образом!» Возбужденная этими криками толпа двинулась в Кремль. Амвросию, как видно, дали знать об этих выходках и угрозах, и он уехал из Чудова в Донской монастырь. Толпа, ища его в Чудове монастыре, что могла, пограбила, остальное переломала, перебила, исковеркала; большой винный погреб, снимаемый в Чудове монастыре купцом Птицыным, был разграблен, и началось пьянство. Но на другой день, 16 числа, вспомнили, зачем пришли в Кремль, в Чудов; кто-то дал знать, что архиерей в Донском монастыре; и толпа в 300 человек двинулась туда. Амвросий, узнав о разграблении Чудова монастыря, велел находившемуся при нем племяннику Николаю Бантыш-Каменскому написать об этом Еропкину и просить билета для свободного выезда из города. Вместо билета Еропкин прислал офицера конной гвардии, который объявил, чтоб преосвященный переоделся и поскорее выезжал из Донского монастыря, что он, присланный, будет дожидаться его в конце сада кн. Трубецкого и оттуда велит проводить на село Хорошево в Воскресенский монастырь. Пока сыскали платье, пока Амвросий переодевался, пока заложили кибитку, услыхали шум, крики и пальбу у монастыря. Амвросий вышел, чтоб садиться в кибитку, но в это время народ стал уже ломать монастырские ворота со всех сторон; все бывшие с Амвросием разбежались; тогда он пошел прямо в большую церковь, где служили обедню, приобщился и хотел было спрятаться на хорах сзади иконостаса; но толпа, ворвавшаяся в церковь, открыла это убежище; несчастного вытащили из церкви, из монастыря, и перед задними воротами умертвили самым варварским образом: били в восемь кольев целые два часа, так что, по словам очевидца, «ни виду, ни подобия не осталось».
Между тем Еропкин весь этот день, пятницу 16 числа, собирал у себя на Стоженке кусочками команду. Главную военную силу, которою располагало московское начальство, составлял Великолуцкий полк; но во всем этом полку числилось только 350 человек, а из них 300 человек расположены были в 30 верстах от Москвы для безопасности от чумы и только 50 человек находилось в Москве. К ним Еропкин присоединил гвардейские команды, присланные из Петербурга, и таким образом составился отряд из 130 человек; но при этом маленьком отряде было две пушки, которые обеспечивали успех против толпы, вооруженной дубьем и каменьями. В половине шестого часа пополудни Еропкин со своею командою двинулся в Кремль, на улице захватил священника с крестом и заставил идти с собою. При входе в Кремль чрез Боровицкие ворота отряд был встречен дубьем и кирпичами; Еропкин послал увещевать мятежников обер-коменданта царевича грузинского, но увещатель был встречен также каменьями. Той же участи подвергся бригадир Мамонов, который по доброй воле явился в Чудов монастырь со своими людьми и начал уговаривать мятежников: ему разбили голову и лицо. Видя, что увещание не помогает, Еропкин велел стрелять в толпу из пушек и ружей; не менее ста человек пало от этой стрельбы, 249 человек взяты под караул, остальные разбежались. Но Еропкин, раненный в двух местах шестом и камнем, истомленный, в лихорадочном припадке, принужден был слечь в постель и не принимал участия в дальнейших распоряжениях.
На другой день, в субботу 17 сентября, на рассвете толпы начали ломиться в Кремль, в Спасские ворота, в которых стоял губернатор Юшков. Мятежники требовали, чтоб им отдали всех товарищей, захваченных войском накануне; чтоб бани были распечатаны, карантины уничтожены, лекарей к их должности не употребляли. Накануне, 16 числа, Еропкин уведомил Солтыкова о бунте, и в 9 часов утра 17 числа фельдмаршал был уже в Москве; одновременно с ним по его распоряжению накануне вступал в Москву и Великолуцкий полк, т. е. 300 человек солдат. Солтыков поручил начальство над полком обер-полицеймейстеру Бахметеву и велел ему вести солдат на Красную площадь, чтоб прекратить бунт. Бахметев, выстроив полк на площади, сказал окружающим толпам: «Советую вам расходиться по домам, в противном случае все побиты будете». Чрез полминуты площадь опустела, и этим бунт кончился.
Главная причина печальных событий 15 и 16 сентября была очевидна: ничтожность военных сил, хотя, с другой стороны, естественно представляется вопрос: почему Еропкин с вечера 15 числа не начал собирать войско, не употребил на это всю ночь и не явился в Кремль на рассвете 16 числа, тогда событие в Донском монастыре было бы предупреждено? Как бы то ни было, старик фельдмаршал имел полное право жаловаться на недостаточность своих средств и опасность положения. «Кажется, все утихло, – писал он 19 сентября, – однако на сие надежду полагать неможно: народ пьяный, раскольщики, подьячие, холопы господские; сами все разъехались по деревням, людей оставили, кои по их праздной жизни непрестанно в кабаках. Я нашел Чудов монастырь в жалком состоянии: окна все выбиты, пуховики распороты и улица полна пуху, образа расколоты. Бунтовщики грозятся на многих, а паче на лекарей, и хотя на многих злятся и грозят убить, в том числе и меня, и первого Петра Дмитр. Еропкина, но главный пункт – карантины; сего имени народ терпеть не может. В Сенат никто не ездит, только были мы двое. Граф Воронцов пишет, что в его деревне люди заразились, для чего он и поехал в другую, дальше; князь Козловский уволен; Похвиснев болен; Еропкин заболел и лежит в постели. Господа президенты (коллегий), не спросясь никого, так как их члены и прокуроры разъехались по деревням; приказать некому, по кого ни пошлю, отвечают: в деревне. Мне одному, не имея ни одного помощника, делать нечего: военная команда мала, город велик, подлости еще для зла довольно. Между пойманными злодеями множество подьячих почти изо всех коллегий, и их солдаты, старики отставного батальона гвардии, кои содержат караул в Кремле, более всех бунтовали и воровали, чему свидетель архитектор Баженов: он все видел из модельного дома и многие речи слышал. Сейчас получена ведомость, что на Пахре собирается много всякого народа и хочет идти в Москву со всяким оружием, и разбежавшиеся отсель по деревням пьяные грозятся все разорять. Я один в городе и Сенате, помощников нет, команды военной недостает, окружен заразительною болезнию, подвержен ей более других; все ко мне приезжают, принужден пустить, всякому нужда, помочь мне некому. Один обер-полицеймейстер везде бегает, всего смотрит, спать время не имеет. Я не в состоянии в. в-ству подробно донесть, слышу и вижу все разное; народ такой, с коим, кроме всякой строгости, в порядок привесть невозможно». 21 сентября Солтыков писал: «Нельзя быть без начальника, ибо не токмо в Москве, но по уезду несколько тех злодеев, нарядясь в солдатский мундир, ходят по дворцовым и экономическим вотчинам, показывая указы, якобы из губернской канцелярии посланы, и велят попам перед народом читать, старост и выборных принуждают подписываться в том, что как скоро услышат в Москве набат или пушечную стрельбу, то бы все в Москву бежали с дубинами и рогатинами. Я оставил (в Москве) Великолуцкий полк, главный пост на Красной площади с пушками и в нужных местах пикеты; ежели б команды было довольно, особенно конницы для разъездов, то б можно оное зло скорее искоренить. Наставник должен быть из раскольщиков, потому что они всегда противились карантину, да и то примечания достойно, что церковь архиерейская вся разорена и утварь разбита и разметана». Так как главный недостаток был в военной силе, то по предложению президента Главного магистрата Протасова составлена была стража из купцов.
Но в тот же самый день, 21 сентября, когда Солтыков писал: «Нельзя быть без начальника», вышел манифест императрицы об отправлении в Москву гр. Григория Орлова. В манифесте говорилось: «Видя прежалостное состояние нашего города Москвы и что великое число народа мрет от прилипчивой болезни, мы б сами поспешно туда прибыть за долг звания нашего почли, если б сей наш поход по теперешним военным обстоятельствам самым делом за собою не повлек знатного расстройства и помешательства в важных делах империи нашей. И тако, не могши делить опасности обывателей, сами подняться отселе, заблагорассудили мы туда отправить особу, от нас поверенную, с властию такою, чтоб по усмотрению на месте нужды и надобности мог сделать все те распоряжения к спасению жизни и к достаточному прокормлению жителей. К сему избрали мы, по нашей к нему отменной доверенности и по довольно известной его ревности, усердию и верности к нам и отечеству, нашего генерал-фельдцейхмейстера и генерал-адъютанта гр. Гр. Орлова, дав ему полную мочь поступать во всем так, как общее благо того во всяком случае требовать будет, и отменять ему тамо то из сделанных учреждений, что ему казаться будет или не вместно, или не полезно, и снова установить может всего того, что он найдет поспешительно общему благу; в чем во всем повелеваем не токмо всем и каждому его слушать и вспомогать, но и точно всем начальникам быть под его повелением и ему по сему делу иметь вход в Сенат московских департаментов. Запрещаем всем и каждому сделать препятствие и помешательство как ему, так и тому, что от него повелено будет, ибо он, зная нашу волю, которая в том состоит, чтоб прекратить, колико смертных силы достанет, погибель рода человеческого, имеет в том поступать с полною властию и без препоны».
Орлов по природе своей не мог удовлетвориться тем значением, какое он имел при дворе, не мог удовлетворяться ни административною деятельностью как генерал-фельдцейхмейстер, ни деятельностию как член Совета, его тянуло на место войны, где одерживались блистательные победы, где родной брат его жег турецкий флот. Удалиться надолго, на все время войны не было возможности, но он не переставал мечтать о роли начальника отдельного предприятия, которое быстро могло бы положить конец войне; теперь же, когда Москва и вся Россия потребовала энергического действия для спасения их от страшного бича, Орлов не хотел упустить случая оказать великую услугу, приобрести громкую известность. Накануне отъезда в Москву Орлов говорил английскому посланнику лорду Каткарту, что, по его убеждению, главнейшее несчастие Москвы состоит в паническом страхе, охватившем как высшие, так и низшие слои жителей, откуда проистек беспорядок и недостаток распорядительности. Когда Каткарт стал просить его отложить поездку, говоря, что в Москве найдет не один недостаток распорядительности, но и чуму, то Орлов отвечал: «Все равно, чума или не чума, во всяком случае я завтра выезжаю; я давно уже с нетерпением ждал случая оказать значительную услугу императрице и отечеству; эти случаи редко выпадают на долю частных лиц и никогда не обходятся без риска; надеюсь, что в настоящую минуту я нашел такой случай и никакая опасность не заставит меня от него отказаться».
«Чума или не чума», – говорил Орлов. Действительно, до последнего времени вследствие несогласия медиков остерегались официально говорить о чуме. Доктор Кулеман подал доклад, что осмотр больных в Симоновом монастыре утвердил его в прежнем мнении о несуществовании моровой язвы, ибо и на умерших, и на живых, кроме пятен, не находил никаких знаков моровой язвы, почему признает болезнь горячкою с пятнами злейшего рода.
28 сентября в Московском сенате было первое заседание в присутствии гр. Орлова. Из сенаторов находились Рожнов, Похвиснев, фельдмаршал Солтыков, Еропкин, Всеволожский и вновь назначенный сенатор, знаменитый делец двух предшествовавших царствований Дмитр. Вас. Волков. Орлов объявил именной указ присутствовать ему в Сенате московских департаментов и быть всем и каждому в его послушании; словесно объявил, что велено присутствовать в Сенате и Волкову. Губернатор Юшков донес, что можайское дворянство согласилось ехать в Москву со своими служителями и значительным числом крестьян. Приказали: ревность приемлется за благо; нужды, однако, теперь в чрезвычайном подвиге не настоит, ибо порядок восстановлен. При том значении, с каким Орлов был прислан, Солтыков, разумеется, не мог оставаться московским главнокомандующим. Екатерина имела слабость не любить знаменитых дел и людей елисаветинского царствования. Куннерсдорфский победитель раздражил ее указанием на опасность приложения санитарных мер к Москве, указанием на необходимость увеличить военные силы в столице, и Солтыкову нельзя было, как Румянцеву, указывать на римлян, которые не спрашивали, сколько неприятеля, но где он: приемы внешней войны разнились от приемов внутренней охраны и наблюдения за порядком на обширных пространствах. Но старик сам себя выдал головою Екатерине, позволив себе уехать в деревню, и хотя быстрое возвращение его и быстрое стянутие войска в Москву, чем и прекращено было волнение, могли бы заглаживать первую неосторожность, но не в глазах Екатерины, которая в письме к Бельке прямо приписывает убиение Амвросия тому, что Солтыкова не было в городе. Но естественно рождается вопрос: как бы Солтыков без войска мог действовать; разве предположить, что он собрал бы небольшой отряд с пушками и двинулся в Кремль гораздо скорее, чем прославленный Еропкин? Екатерина употребляет в письме к Бельке любопытное выражение: «Москва не город, а целый мир». Но о чем же постоянно толковал Солтыков, как не об этом, жалуясь на недостаток войска? В письме к Бибикову Екатерина Дала полную свободу своему нерасположению к Солтыкову: «Слабость фельдмаршала Солтыкова превзошла понятие, ибо он не устыдился просить увольнения тогда, когда он своею персоною нужнее там был и, не ожидав дозволения, выехал, чаять можно, забавляться со псами. Меж тем ханжи выдумали народ лечить чудесами образа под Варварскими воротами. Тут толпы черни молящейся пуще заразились, и во время того богомолья по 900 человек на день мерло. Архиерей с генерал-поручиком Еропкиным положили, чтоб исподволь умалить течение народное к сему месту, и для того архиерей 15 сентября к вечеру послал своих людей опечатать сбор у сего образа. Тут сделалась драка, и обыкновенная полиция стала коротка, мать наша Москва велика. Главы нету в городе, унимать некому, обер-полицеймейстер стал короток, а отчасти и оплошал. Я, видя, колико нужно туда послать особу с полною властью, по усильной просьбе г. генерала-фельдцейхмейстера г. Орлова его туда послала. Там до его приезда все по образцу гр. Солтыкова (?), получа terreur panique, от язвы по норам расползлись, но теперь паки возвратились по местам… Позабыто в письме сказать, что старый хрыч фельдмаршал уволен». В указе об отставке фельдмаршала говорилось, что императрица, «снисходя на прошение, уволить его соизволила от всех дел, похваляя его предкам ее в-ства учиненную знатную службу».
30 сентября Орлов объявил в Сенате, где теперь настоит нужда: 1) имеющихся в здешнем городе мастеровых и ремесленных людей в необходимом случае пропитанием снабдить; 2) доставить в Москву уксусу в таком количестве, которым бы жителей без всякого недостатка продовольствовать было можно. Потом вывозчикам мертвых тел к 6 копейкам на день прибавили еще 2 копейки. 12 октября Орлов предложил в Сенате: известно ему учинилось, что некоторые находятся столь злостные люди, что, невзирая на бедственное состояние, в котором жители Москвы теперь состоят, забыв страх божий, дерзают входить в вымершие домы и грабить оставшиеся после несчастных пожитки, и для того объявить каждому и всем, ежели таковые безбожники и враги рода человеческого открыты будут в сем преступлении, то без пощады казнены будут смертию у того самого места, где сие преступление учинено будет, дабы смертию одного злодея отвратить смертоносный от зараженных вещей вред и гибель многих невинных, ибо в крайних зла обстоятельствах и меры к уврачеванию крайние принимаются. Через четыре дня после этого решения Полицеймейстерская канцелярия подала рапорт: ведомства Конюшенной канцелярии крестьянин Тимофей Матвеев, беглые солдаты Главного комиссариата Акутин, Денисов, лейб-гвардии неслужащий солдатский сын Еремин, собравшись партиею в числе 9 человек, пограбили три выморочных дома. Канцелярия на основании указа 12 октября приговорила повесить преступников, но Сенат на том основании, что преступление было совершено до публикования указа, приговорил виновных ко кнуту и определению в погребатели чумных. В то же время Орлов предложил, что умерших чумно провожают неосторожно, садятся в одни роспуски с телами, и потому объявить, что замеченные в такой неосторожности мущины будут взяты в погребатели, а женщины – в лазарет для ухаживания за больными.
Для детей-сирот, остающихся после умерших от чумы, был учрежден приют под ведомством вице-президента Мануфактур-коллегии Сукина. Но оказалось, что больше 100 детей поместить в этом доме нельзя, тогда как каждый почти день привозили сирот. Сенат приказал Сукину занять дом француза Лиона, который отстраивался для пикника на деньги составившегося для этого общества; Сенат объяснял свое распоряжение тем, что пропитание сирот установляется для общества и по освобождении дома от сирот он возвратится для пикника. Мы видели, что Орлов уже распорядился покупкою в казну ремесленных произведений, чтоб дать пропитание работникам. 25 октября он сделал Сенату новое предложение: находится в городе немалое число таких людей, которые, не имея никакого рукомесла, питались прежде самыми черными или грубыми работами, а по настоящим обстоятельствам лишились и их; чтобы доставить и этим людям благозаслуженное пропитание и истребить праздность, всяких зол виновницу, для этого надобно: 1) окружающий Москву Камер-коллежский вал увеличить, углубляя его ров, и к этой работе призываются все охочие люди из московских жителей; 2) платеж за работу будет производиться поденный – мущине по 15, а женщине по 10 копеек на день; 3) кто придет со своим инструментом, тому прибавляется по 3 копейки на день; 4) главный надзор за этою работою будет иметь генерал-поручик сенатор Алекс. Петр. Мельгунов.