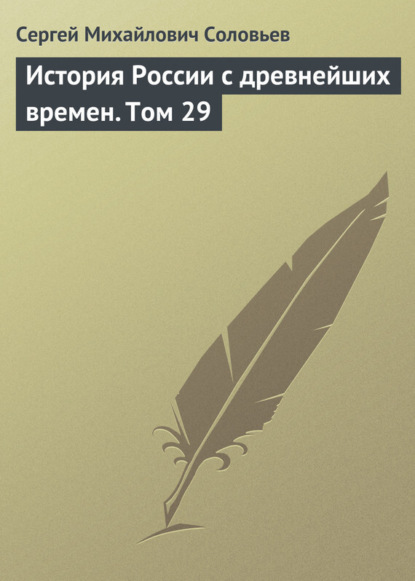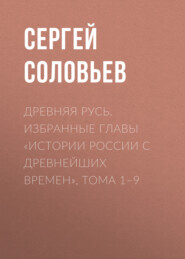По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России с древнейших времен. Том 29
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но мы видели, что Румянцев нисколько не сочувствовал этим ассирийско-вавилонским средствам; для принуждения турок к миру у него оставалось средство, более приличное для победителя при Ларге и Кагуле: это средство было сильное движение вперед, не останавливаясь и пред Балканами. Еще в апреле месяце корпус генерал-поручика Каменского перешел Дунай и в мае стоял у Карасу, с ним в связи находился корпус Суворова, перешедший Дунай у Гирсова. Каменский и Суворов положили иметь в виду не Варну и Силистрию, а Шумлу, местопребывание визиря. Разбив пятитысячный отряд турок, Каменский 2 июня занял Базарджик, и в то жевремя сам Румянцев с главною армиею переправился через Дунай у Гуробал и двигался также по направлению к Шумле. Визирь выслал к Базарджику навстречу Каменскому до 40000 войска, но оно было поражено при Козлуджи 9 июня; героем дня был Суворов. После этой победы Каменский хотел было остановиться, но Румянцев, зная, как в Петербурге жаждут мира и ждут его только от наступательного движения в Болгарии, требовал, чтоб Каменский непременно шел к Шумле. 17 июня Каменский был уже в 5 верстах от этой крепости, а бригадир Заборовский перебрался уже за Балканы и там бил турок. Визирь прислал с предложением перемирия; Румянцев велел отвечать, что он об этом и слышать не хочет; визирь предложил возобновить конгресс; Румянцев и на это не согласился; тогда визирь оправил в главный стан армии двоих уполномоченных. Узнав об этом, главнокомандующий перешел с двумя пехотными полками и пятью эскадронами кавалерии в деревню Кучук-Кайнарджи, показывая вид, что идет для соединения с корпусом Каменского под Шумлу, Турецкие уполномоченные приехали в Кучук-Кайнарджи 4 июля и просили, чтоб поскорее приступить к переговорам; но, чем больше они просили, тем сильнее отговаривался Румянцев, представляя, что он на дороге к Шумле и не может останавливаться. Это заставило турок быть сговорчивыми, когда фельдмаршал позволил наконец начать переговоры, назначив для их ведения князя Ник. Вас. Репнина, потому что Обрезков не мог поспеть вследствие разлива вод на левом берегу Дуная. 10 июля мирный договор был заключен и подписан на следующих условиях: 1. Всем татарам быть вольными и ни от кого, кроме бога, не зависимыми в своих делах политических и гражданских, а в духовных сообразоваться им с правилами магометанского закона, без малейшего, однако, предосуждения их вольности и независимости. Все земли и все крепости в Крыму, на Кубани и на острове Тамане отдаются татарам, кроме Керчи и Еникале, которые уступаются России. 2. России уступается также замок Кинбурн с его округом и всею степью между реками Бугом и Днепром; а Порта удерживает Очаков, Молдавию, Валахию и Архипелажские острова на выгодных для жителей условиях. 3. Торговля и мореплавание купеческим кораблям дозволяются на всех водах, равно как плавание из Черного моря в Белое (Мраморное) и обратно, и в этом отношении русские подданные пользуются преимуществами, предоставленными подданным Франции и Англии. 4. Порта обязалась заплатить России за военные издержки 4500000 рублей. Сам кн. Репнин повез в Петербург известие о веденных им переговорах и результатах их.
В рескрипте Румянцеву, отправленном по получении известия о мире, высказалась вся радость, возбужденная этим событием. Радость была тем сильнее, что потеряли надежду получить такой выгодный мир. «Возвещая мир, рук ваших творение, возвестили вы нам в то же время чрез оный и знаменитейшую услугу вашу пред нами и отечеством, – писала Екатерина Румянцеву. – Мы объявляем ее во всем пространстве тех трудов и подвигов, коими вы чрез все время войны ополчаться долженствовали к преломлению сил и высокомерия неприятеля, обыкшего доныне в счастливых своих войнах предписывать другим законы жестокие. Мера благоволения нашего к вам и к службе вашей стала теперь преисполнена, и мы, конечно, не упустим никогда из внимания нашего, что вам одолжена Россия за мир славный и выгодный, какового по известному упорству Порты Оттоманской, конечно, никто не ожидал, да и ожидать не мог с рассудительною вероятностию. Самая зависть не может оспорить сей истины, ибо, с одной стороны, турки, лишившись Крыма и всех татарских орд, лишились на будущее время значительного числа войск, тем более полезных, что содержание их Порте ничего не стоило, а уступка нам трех пристаней на Черном море даст нам способ вредить Порте в самых для нее чувствительных местах, если б она опять покусилась на войну с нами вследствие посторонних происков».
Написан был уже рескрипт и к начальнику Второй армии с приказанием очищать постепенно Крым, оставив гарнизоны в Керчи и Еникале, как вдруг приходит от Долгорукого известие, что в Крым высадился с войском сераскир-паша Алибей и хан Сагиб-Гирей не только не оказал ему никакого сопротивления, но и выдал ему русского резидента Веселицкого. Тогда написан был другой рескрипт: «Не будучи мы еще от вас в подробности уведомлены и не зная потому, каким образом хан крымский мог соединиться с турецкими начальниками и осмелиться отдать им нашего резидента в бытность вашу со всею предводительствуемою армиею посреди Крыма, следовательно, вблизости от хана и при настоянии всех способов к содержанию с ним нужной связи и обсылки с резидентом, мы находимся в необходимости настоящее наше предписание составить главнейше из общих примечаний». Эти примечания состояли в том, что об очищении Крыма русскими войсками теперь нечего и думать, можно начать вывоз войск только тогда, когда турки совсем оставят полуостров или по мере их выхода. В рескрипте говорилось также: «Мы давно уже от вас и чрез другие достоверные известия были предупреждены о дурных качествах и о малоспособности к правлению настоящего хана, по при том положении дел, в каком мы в рассуждении Крыма и прочих татарских народов находимся, нет пристойных способов к его низложению, как получившего достоинства по праву происхождения и по добровольному избранию всего общества, особенно в то время, когда оно решилось отложить от власти турецкой; поэтому мы находим нужным его и защищать, если б с турецкой стороны принято было намерение низвергнуть его. Впрочем, как с турками, так и с татарами, дабы не подано было с нашей стороны ни малейших поводов ко вражде, надобно поступать с такою разборчивостью, чтоб всегда удаляться от первых задоров». Но от Долгорукого получено было известие, что он войска свои из Крыма выводит, и вместе с тем просьба об увольнении его по слабости здоровья в Москву и позволении сдать команду старшему генерал-поручику. Все это было ему дозволено.
Между тем стали приходить и от Румянцева дурные вести. Для окончательного улажения дела он отправил в Константинополь полковника Петерсона, который дал ему знать, что дело не улаживается, диван требует перемены некоторых условий мирного договора; о том же писал Румянцеву и прусский посланник при Порте Зегелин. Но как взглянул фельдмаршал на известия последнего, видно из любопытного письма его к Петерсону (от 24 октября): «Зегелин расхваливает рейс-эфенди, выставляет его усердным защитником мира; но мы достоверно знаем, что он мира не хочет. Зегелин хочет нас настращать готовностью турок к войне, но в предыдущем письме сам он описывал страшное истощение Порты, которая не может поднять головы; и потому будьте с ним осторожны и выведывайте, не от него ли или от каких других происков идет помеха делу. Легко станется, что и прусский министр, будучи лишен всякого участия при заключении мира, старается теперь сделаться нужным. Если рейс-эфенди или кто другой станут время проволакивать или откажутся принять мирный договор слово в слово, то дайте им почувствовать, что их поступок остановит очищение Молдавии и остающихся в наших руках крепостей, где у нас вся армия без малейшей убавки. Рейс-эфенди спрашивал вас, на каком основании австрийцы заняли своим войском значительную часть Молдавии. Я вам передаю следующее, что вы должны содержать в величайшей тайне: необходимо внушить Порте об истинных взглядах двора нашего на это дело. Откройте надежнейший путь к удостоверению Порты, что австрийское занятие ее земель есть для нас дело совсем постороннее, в котором мы не имеем и никогда не примем ни малейшего участия. Передайте это внушение словесно, а не письменно самому великому визирю или доверенной от него особе. Повторяю, что это должно сделаться в величайшей тайне, ибо положение нашего двора в этом случае очень деликатно: он не должен себя компрометировать ни пред венским двором, ни пред Портою. Даю вам право обещать 100000, 200000, наконец, 300000 рублей тому, кто возьмется уничтожить все происки недоброжелательных людей и довести дело до того, чтоб ратификация была отправлена в Петербург без всяких изменений договора».
Все эти сношения вел Румянцев в Фокшанах, лежа в постели, к которой приковала его мучительная болезнь. Еще в августе, узнав о тяжелой болезни Румянцева, императрица решила отправить к нему назад Репнина для помощи в окончании мирного дела; если фельдмаршал оправится, то Репнин должен был ехать послом в Константинополь, в противном случае принять начальство над армиею. 14 сентября приехал Репнин в Фокшаны и на другой день написал в Петербург к Потемкину: «Я нашел фельдмаршала в крайней еще слабости и в несостоянии встать с постели, хотя уже из всей опасности и вышел. Жалко на него глядеть и на всех здесь находящихся; из всего города сделалась больница. Игельстром был очень болен, но уже ходит. Завадовский лежит, Аш, Велда, кн. Андрей Николаич тоже – одним словом сказать, все почти больны лихорадками и горячками. Из всех людей фельдмаршальских один его егерь только здоров, а прочие все или лежат, или насилу таскаются. Фельдмаршал поручил мне вам изъяснить, сколь он наичувствительно признателен за участие, кое вы приняли в его болезни, и за все знаки вашей к нему дружбы. Сам писать не в силах, а коль скоро сможет, то будет. Считая, что фельдмаршал недели через три или четыре придет в желаемые силы, тогда не вижу я, чтоб нужно мне было здесь при нем оставаться. Вы знаете, мой друг, что ему помощники не надобны. Сделай мне милость, спроси не только наставления, но милостивого по сему совета у государыни. Я боюсь, чтоб турки, сведав, что наш посол прискакал по почте, не подумали, что крайняя нужда нам спешить, и оттого бы не возгордились, а утаить сего нельзя, понеже оно публично в Петербурге, а оттоль сюда множество людей пишут. Представьте ее в-ству все сие, и если я буду столь счастлив, чтоб мысли мои встретились с мыслями ее в-ства, то испросите мне высочайшее позволение отсель к вам приехать, когда фельдмаршал придет в желаемые силы. Пожалуй, мой Друг, не замедли мне на сие ответом, а посольствы, конечно, прежде будущей весны быть не могут». Совет решил, что можно позволить Репнину приехать в Петербург.
Румянцев еще не успел оправиться от болезни, как на него возложена была новая обязанность – заведование Второю армиею, оставшеюся без начальника за отъездом Долгорукого, и улаживание дел татарских. По этому поводу Румянцев писал императрице: «Что касается свойств и расположения татарских народов, то едва ли и надеяться можно в скором времени видеть их спокойными и пользующимися, как следует, вольностью и независимостью. Я свое мнение основываю на том, что имевшие с ними дело Щербинин, Веселицкий и кн. Долгорукий одинаково и постоянно писали, что татары исполнены крайнего отвращения ко всем благодеяниям в. в-ства и никогда не переставали желать раболепствовать по-прежнему Порте, а теперь этого и формально ищут, о чем визирь в своем письме ко мне упоминает да и кн. Долгорукий писал, что они за этим депутатов своих отправили к Порте». Действительно, турецкие войска вышли из Крыма, флот отправился от его берегов назад в Константинополь, резидент Веселицкий был освобожден; но татары не хотели принять данной им вольности. Больному фельдмаршалу было тяжело заведовать двумя армиями, особенно при таких обстоятельствах. «Пощады я не делаю ни здоровью, ни самой жизни моей, – писал он Екатерине, – против совету докторов, кои беспокойство, сопряженное с управлением дел, главным препятствием моему выздоровлению полагают, я жертвую вседневно последними силами исполнению моей должности, но, во всем ослабевши от долгой болезни, едва могу распоряжать и сею частью и боюсь, чтоб в таком состоянии и тут чего-либо не проронить». Румянцев просил, чтоб для Второй армии назначили или опять кн. Долгорукова, или кого-либо другого, хорошо знающего дела того края, где расположена эта армия. Между тем великий визирь прямо обратился к Румянцеву с письмом, где выражал желание изменить мирные условия, именно касающиеся татар и дунайских княжеств, для которых в Кучук-Кайнарджи выговорены были льготы. На это Румянцев отвечал: «Скрыть не хочу моего крайнего удивления, каким объят я был, увидав содержание вашего письма. Дело столь торжественное, как мир, заключенный между Всероссийскою империею и Портою Оттоманскою уполномоченными от их государей, в своем исполнении не терпит ни отлагательств, ни остановки, и я должен вам сказать, не обинуясь, что ни один пункт в трактате не может быть нарушен без того, чтоб не нарушены были и все статьи его, и самое главное основание – искренность и добросовестность. Перемена священных договоров вслед за их постановлением была бы предосудительна достоинству и славе высочайших дворов. Хотя сказанное увольняет меня от дальнейших объяснений, однако хочу из дружбы к вам заметить следующее: татарские народы как вольные и независимые не принуждаются ни к чему противному магометанскому закону. Жалобы и просьбы их, хотя бы и действительно шли от них самих, не дают права ни той, ни другой державе входить в их разбор. Татары стали теперь народом вольным и ни от кого не зависимым, и об этом положении их Россия и Порта имеют между собою обязательства, которые должно исполнить независимо от татарских желаний. Вы сами говорите в письме своем что несколько лет велась война по несогласию на те условия, которые постановлены в Кайнардже; можно ли же опять требовать в них какой-нибудь перемены и этим трогать пепел прежнего несогласия?» В донесении от 5 ноября Петерсон поздравил Румянцева, что твердость его ответа произвела желанное действие: решено утвердить договор безо всякой перемены.
Но когда ошибка допущена в начале дела, то она непременно обнаружится в конце его. Ошибка, допущенная в начале крымского дела провозглашением независимости татар, была еще усилена уступкою туркам религиозного влияния над ними. Тотчас по заключении Кучук-Кайнарджийского мира Панин писал Веселицкому относительно его условий о татарах: «Хотя татары со стороны Порты в рассуждении политического и гражданского их состояния и признаны совершенно свободными и ни от кого не зависимыми, но с тем, однако ж, чтоб они в духовных обрядах как единоверные с турками в рассуждении султана яко верховного калифа сообразовались правилам, законом их предписанным, но без малейшего предосуждения утверждаемой для них политической и гражданской вольности. По бывшим о сей духовной должности татар к турецкому государю на Фокшанском и Бухарестском конгрессах рассмотрениям имела она состоять в том, чтоб каждый новый хан крымский, добровольным избранием возводимый на сию степень, возвещал о том оттоманскому престолу грамотою своею чрез нарочную депутацию и требовал от оного утверждения или же благословения на свое достоинство; чтоб судьи крымские, поелику суд и расправа магометанская в тесном соединении с их же законом состоят, снабдеваемы были полною мочью от кадилескера константинопольского, а по крайней мере чтоб при первом случае, но единожды на все уже последствие времени не требовано было татарским правительством судей их настоящих и будущих благословляющая бумага и чтоб в Крыме и во всех татарского владения местах каждую пятницу в мечетях возносимо было в молитвах имя султанское. Без сомнения. Порта и не оставит стараться тотчас о приведении сих трех пунктов в полное действо; но против того настоит опасность, чтоб татары по невежеству своему, суеверству и неограниченной к туркам преданности не подвиглись, буде оставить без предостережения, поступить далее, нежели совместно быть может с настоящим их независимым состоянием. Пускай посему начинают татары возглашать имя султанское в своих мечетях; но, как скоро разведаете вы о намерении ханском и приготовлениях к сношению с Портою для возвещения ей о своем начальстве и испрошения на то ее подтверждения, также и полной мочи для судей татарских, можете тогда потребовать о сообщении вам отправляемых к Порте писем яко первых по свободе приобретенной, которые, буде найдете в чем-либо несвойственными с настоящим татар положением, стараться имеете исправить вашими хану и правительству крымскому изъяснениями, чтоб хан явился пред султаном не рабом, а господином, действующим только по духовным убеждениям».
Таким образом, татары были поставлены между двух огней: между султаном, которого они должны были считать своим духовным владыкою и молиться за него, и Россиею, которая при первом случае вражды с султаном потребует, чтобы татары также объявили себя против него. Понятно, что татары, особенно их духовенство, будут стараться всеми силами выйти из такого тяжелого положения именно возвращением к старине; а другие, как Шагин-Гирей, которые хотели совершенно нового порядка вещей, полной независимости от Порты, были крайне недовольны условием духовной зависимости от султана, вовсе не признавая за нею религиозного основания.
Шагин-Гирей выступил в это время опять на поприще по поводу ногайских волнений. В самом начале года кн. Долгорукий уведомил о разврате ногайцев, прельщенных подарками, которые раздавал им хан, присланный Портою в Суджук-Кале. Едичкульская орда возмутилась и захватила русского пристава с командою. Сначала в Совете решено было против турецких денег действовать деньгами же и разрешено Щербинину употребить на это 35000 рублей. Но одними деньгами нельзя было помочь; гораздо успешнее действовал подполковник Бухвостов, который несколько раз поразил мятежных ногаев и прогнал из Едисанской орды присланного турками калгу; для окончательного же успокоения ногаев решено было послать к ним Шагин-Гирея. Панин писал ему письмо (26 февраля): «Полученное известие при высочайшем дворе ее и. в. о восприятом вашим сиятельством намерении переехать в ногайские народы для начальствования над оными произвело великое удовольствие. Без сомнения, потщитесь вы при бытности вашей в ордах ногайских и толь вяще по подающимся лучшим там Для вас способам отечеству вашему и всем народам татарским учиниться благодетелем и наставником; природа ваша и добродетели отличные достойны того, чтоб народы татарские, избавленные великодушным ее и. в. подвигом по единому человеколюбию, из поносного рабства и неволи и в независимом состоянии здешним попечением и стражею сохраняемые, но, к удивлению и крайнему сожалению, по малой своей разборчивости почти не чувствующие выгодности и превосходства настоящего своего жребия пред прежним презрительным, тяжким и бедственным, во всем том были вразумлены и приведены в прочный для них порядок чрез ваше сиятельство и чтоб таким образом слава вашего имени и в будущее их потомство распространилась для примера и подражания. Для достижения сего вашего намерения вы не только деньгами, но и войсками воспособствованы будете, а сверх того, и те 12000 рублей, кои вам назначены ежегодно для вашего в здешних границах пребывания, також производимы вам будут, пока благонамеренными останетесь, и ежели б по случаю какой для вас опасности вы долее между ногайцами быть не могли, тогда можете по-прежнему восприять убежище в здешнюю империю и ожидать всякого пристойного уважения». В то же время кн. Долгорукий получил рескрипт: «Доставление живущему под нашим покровительством в Полтаве Шагин-Гирею, калге-салтану крымскому, главного над ордами ногайскими правления, будучи, по-видимому, средством из лучших и надежнейших к удержанию сих легкомысленных людей и во время продолжающейся войны в положении, свойственном с пользою нашей империи, тем паче нашего старания достойно, что сверх исполнения вида, толико важного и нужного, найдет и калга-салтан в том же самом по состоянию и обстоятельствам своим самое сходственнейшее воздаяние своей к нам преданности. Пусть он как наискорее отправлен будет к ногайцам, чтоб получил и пособие войсками и деньгами для устрашения одним способом злонамеренных и приобретения другим себе доброжелательствующих и чтоб находился при нем и особливый пристав, наблюдающий его поведение. Денег калге в пособие назначается до 30000 рублей. И как мы желаем, чтоб искательство им власти над ордами ногайскими ни малейшего вида принуждения не имело, но совершилось с соблюдением всей наружной свободности, добровольным избранием, для того потщитесь дать калге-салтану уразуметь, колико для него нужно и полезно будет удалиться от всяких мер строгих нашим оружием, а вместо того стараться общую снискать доверенность снисходительством и пристойными изъяснениями. Полковник Бринк может должность пристава исполнять».
Шагин-Гирей отправился на Кубань; заключен был Кучук-Кайнарджийский мир, но крымцы заявляли упорное желание оставаться под турецким владычеством. Калга хотел воспользоваться этим для достижения своих целей и открыл Щербинину, что есть возможность склонить ногаев к протесту против поведения крымцев и к возведению на ханство его, Шагин-Гирея, если ему дано будет 100000 рублей и несколько войска для охраны. Когда 27 октября в Совете было прочтено донесение Щербинина, то Совет «признал предложение калги весьма полезным к утверждению сооруженной нами татарской области и рассуждал, что можно исполнить оное как дело, единственно между татар произойтить могущее, без остуды с Портою; что посредством денег все на Кубани татары и сам Джан-Мамбет-бей в то употреблены быть могут; что, без сомнения, одержат они поверхность над крымцами и Порта, не видя явного нашего участия, а притом и опасаясь нарушить мир, не осмелится подкрепить их; что калга, будучи нам обязан возведением своим на ханство, останется совсем преданным к нашей стороне и что, таким образом, нечувствительно отвыкнут татары от турков и могут сделаться наконец совершенно от них независимыми».
Но Шагин-Гирею на этот раз не удалось достигнуть своей цели. Румянцев, получив благоприятные известия от Петерсона из Константинополя, не хотел мешать утверждению мира новыми движениями с Кубани и дал знать Щербинину, чтоб остановился приведением в исполнение Шагин-Гиреева плана. В Петербурге были совершенно согласны с мнением фельдмаршала, и 15 декабря Совет одобрил рескрипт Щербинину о неисполнении теперь плана калги-султана и о содержании, однако, татар к тому в готовности, не допуская их переселяться в старые их жилища.
Несмотря на то что дела татарские не предвещали продолжительности Кучук-Кайнарджийскому миру, заключение его с такими выгодами при важных затруднениях внутри России должно было произвести сильное впечатление на соседние дворы, которые по отношению к польскому вопросу чувствовали себя до сих пор гораздо развязнее.
23 января Штакельберг писал Панину из Варшавы: «Начиная с короля до последнего депутата, никто не смеет высказаться в пользу греков-неуниатов и диссидентов, если бы даже в глубине своего сердца кто-нибудь и был убежден в правоте их дела; фанатизм, вместо того чтоб уменьшаться, усилился! Страх теперь не действует, как прежде, по причине системы ханжества венского двора. Я пригласил к себе моих обоих товарищей и предложил им порассудить о диссидентском деле, которое скоро пойдет. Я не буду говорить о Бенуа. Его мнения, совершенно согласные с правотою дела, остаются те же, как и прежде, а его будущие действия будут согласны с интересами его государя в этом деле. Он вместе со мною убеждал барона Ревицкого, но понапрасну: Ревицкий твердил свое, что особенно при настоящем положении дела, при чрезвычайном уменьшении жителей этого исповедания вследствие раздела, неприлично давать им место на сейме наравне с католиками; и вообще его двор сделал внушения в Петербурге и особенно в Берлине, где признали справедливость того, что Австрия, как государство католическое, не может заступаться за диссидентов. Легко представить себе впечатление, производимое на поляков поведением венского двора. Приехав в Польшу, я нашел народ исполненным предубеждений против России и ослепленным своею неблагодарностью. Раздел усилил эти чувства». 3 марта Штакельберг писал: «Бенуа мне обещал действовать заодно в борьбе с предрассудками, увеличению которых так содействовали папский нунций и барон Ревицкий. Первый толкует об анафеме, а другой обещает именем своего двора деньги и помощь, хотя мне говорит, что он нейтрален». Но союзники останавливали дело не по одному диссидентскому вопросу. Мы видим, что Австрия захватила польские земли по реку Сбруч; теперь пришло известие, что пруссаки изменили пограничную линию, обозначенную в договоре, забирают польские земли. Делегация завопила; послы начали ей грозить, но получили в ответ: «Сознание своей слабости заставило нас купить уступкою лучшей части Польши надежду владеть остальным спокойно; но при виде, что и это остальное не безопасно от ежедневных захватов, нам нечего больше бояться, и мы скорее согласимся быть поделенными окончательно, чем умирать на малом огне». Штакельберг жаловался, что это происшествие уничтожает надежду кончить все дела к 6 мая, времени открытия сейма. Дело кончилось тем, что делегация решила единогласно отправить знатных людей в Петербург и Вену с просьбою о посредничестве, причем в Петербург решено отправить великого гетмана Браницкого; решено было также отправить доверенного человека и в Берлин, просить Фридриха II остановить разграничение. А между тем диссидентское дело висело грозною тучей над головами. Штакельберг писал Панину 24 марта: «Мое положение будет трудное между католическим фанатизмом, с одной стороны, и упорством, иногда мелочным, диссидентов – с другой. Эти господа, справедливо раздраженные обидами, требуют полного равенства, не вникая в положение вещей, не принимая в расчет необходимость ограничиться существенным, ибо число их ничтожно в сравнении с числом католиков. Каждый день я уверяю их, что по крайней мере в известном числе они непременно будут допущены к участию в сеймах, но это их не успокаивает; они хотят полных прав, включая и право быть членами Постоянного совета. Все это они получат со временем, но теперь нельзя провести вследствие сопротивления венского двора и затруднений нового правительства. Нужно было бы гренадеров, чтоб нести проект Постоянного совета в делегацию, если бы мы объявили, что в него войдут диссиденты. Будущее для них будет менее страшно, если при новой правительственной форме король и разумнейшая часть народонаселения успеют ослабить влияние епископов и римского двора вообще».
Барон Ревицкий внушил членам депутации, чтоб держались крепко относительно диссидентского дела, а он отвечает зa следствия. Штакельберг опасался, что переговоры порвутся на пункте допущения диссидентов на сейм, и писал Панину, что для успеха дела нужно объявление императрицы, что она обещает свое посредничество у короля прусского по делу разграничения только в том случае, когда диссидентское дело решено будет по инструкции, данной ею своему министру в Варшаве. Если король прусский под этим же условием выполнит соглашение относительно границ, то диссидентское дело, эта основа спокойствия Польши, будет покончено навсегда.
Сейм собрался и снова отсрочил свои заседания до 1 августа, чтоб дать время делегации порешить все вопросы. Всего больше могло взять времени пограничное дело: Фридрих II захватывал на том основании, что Австрия захватила лишнее. Австрия не думала возвращать этого лишка; мало того, Ревицкий уверял Штакельберга, что если прусский король оставит за собою свои захваты, то и венский двор не ограничится своими прежними захватами. Штакельберг не предвидел этому конца. В то же время беспокоил его гетман Браницкий, который присылал из Петербурга вести, волновавшие всю Польшу. Штакельберг просил Панина унять Браницкого. «Это человек, – писал он, – способный служить, но надобно полагать границы его воображению, иначе он ниспровергнет все. Вы должны заметить, что он хочет быть самовластным кормчим корабля. Он, быть может, у вас несколько раз упоминал о короле, но это только из приличия. Он держит Станислава-Августа в подчинении посредством чувства, которое, переставая быть дружбою, приближается к страху. В своем стремлении стать единственным главою партии он подражает всем тем, которые прежде его были нашими орудиями. Как только они укреплялись нашим покровительством, становились сильны и богаты через него, то благодарность изглаживалась из их сердец и уступала место ненависти, когда русские послы, заметив, что играют второстепенную роль, старались снова поднять Россию на то место, которое принадлежит ей в польских делах. Ваше сиятельство знаете, как вследствие польской анархии и власти вельмож русским послам было трудно удерживать нынешнего короля и вельмож, чтоб они не употребляли во зло покровительство императрицы, когда первый имел постоянно в виду самодержавие, а последние – притеснение своих сограждан. Обстоятельства переменились, но виды остались прежние. Если этому не помешать, то король будет делать то же, что делал всегда, Польша погибнет, а Браницкий последует примеру Чарторыйских, с той разницею, что он, может быть, честнее, но зато горячее. Россия, король, если только захочет, и все честные люди найдут в Национальном совете средства против зла, если только равновесие, раз установленное, будет сохраняться. Вы так часто давали мне чувствовать важность Польши для России особенно когда после мира образуется твердая система относительно целой Европы и нам нужно будет обеспечить себе этот оплот империи, столь полезный и в войне, и в мире, которым стало гораздо труднее управлять с тех пор, как две другие державы так приблизились к нему. Вы мне позволите окончить мою депешу необходимыми размышлениями. Пружина страха, столь могущественная относительно поляков, почти совершенно ослабела с нашей стороны, потому что почти все значительные вельможи королевства находятся смешанными подданными трех держав. Отсюда, когда им внушают, что их поведение может не понравиться России, они выставляют покровительство других дворов, и преимущественно венского. Если пружина страха ослабела, то благоразумие требует обеспечить себе пружины надежды и благодеяний. В этом отношении надобно заставить Браницкого, чтоб он со своей стороны принудил короля оставить упорную систему преследования всех людей, преданных России. Вы обратили этих бедняков ко мне, с тем, чтоб они получили вознаграждение здесь, ибо большие военные издержки препятствуют императрице сделать это самой; но когда я ходатайствую о них пред королем, то не только получаю отказ, но его величество косвенно вредит им в делегации, объявляя публично, что такова участь людей, которые обращаются к чужой державе. Легко понять, какое впечатление это производит ежедневно и как чрез это король утверждает свою систему уничтожения нашего значения в Польше, тогда как при королях саксонских Россия совершенно располагала Польшей вследствие уважения этих государей к нашим рекомендациям. Если вы для восстановления нашего прежнего значения не воспользуетесь пребыванием Браницкого в Петербурге, то король успеет сделать Россию в Польше столь же незначительною, как самые отдаленные дворы. Есть еще предмет, относительно которого нужно поставить Браницкого, – это именно на счет переговоров, которые ведет польский король при всех дворах Европы насчет собственных своих интересов, насчет самодержавия, потому что король шведский окончательно вскружил ему голову».
Но в то время как Штакельберг требовал от Панина, чтоб тот наставлял Браницкого действовать согласно с видами России, оказывалось, что Браницкий по соглашению с королем поехал в Петербург для ниспровержения постановлений о Постоянном совете, вследствие чего королевская партия в делегации возобновила дело о Совете и выставила против него сильное сопротивление. Приверженцы короля имели дерзость сказать, что между ним и министрами трех дворов не было никакого соглашения насчет Совета. Это сильно раздражило Штакельберга, Бенуа и Ревицкого. «Только в Польше могут делаться подобные вещи!» – писал Штакельберг Панину. Послы указали на письменное соглашение с королем. Король велел своим приверженцам объявить, что он ничего не подписывал. Тогда Штакельберг показал записку короля, написанную к нему на другой день после соглашения и где Станислав-Август объявлял, что, соглашаясь на учреждение Совета, приносит этим жертву уважению своему к императрице. Чтоб помешать делу в делегации, приверженцы короля стали говорить, что так как в Совете должны принять участие три государственные чина, то надобно обозначить исключение диссидентов, и вся делегация начала этого требовать. Штакельберг отвечал, что не должно мешать предметов, что о диссидентах будет речь впереди. Заседание отложили до следующего дня, а между тем король, будучи не в состоянии отречься от своего соглашения с послами, объявил, что его к этому принудили угрозами. В следующее заседание Постоянный совет прошел в делегации, причем возобновились крики, чтоб диссиденты были из него исключены. Штакельберг опять настаивал, что не должно смешивать предметов; и Ревицкий взял его сторону, но в то же время в своей речи дал почувствовать, что Россия зашла слишком далеко в договоре 1768 года и что по приказаниям своего двора он примет самое живое участие в поддержании существенных прав господствующей в Польше религии, даже прибавил, что будет стараться о недопущении диссидентов в Постоянный совет. Делу о Постоянном совете помогла книга отца Канарского, содержавшая проект Постоянного совета, сходный с русским, только еще менее благоприятный для короля; мало того, автор привез письма князя Чарторыйского, канцлера литовского и стольника литовского, нынешнего короля, в которых проект был признан спасительным. Дело о Постоянном совете кончилось, но дела о границах и диссидентах перешли на 1775 год.
Первое дело вело к усиленным сношениям между Берлином, Веною и Петербургом. Старый друг России прусский король принимал самое живое участие в затруднительном положении ее в первой половине года: он очень огорчался казацким бунтом, но в этой печали утешением служила ему возможность настаивать, чтоб Россия поспешила заключить мир с Портою, уступив и относительно Крыма, и относительно плавания по Черному морю; другим утешением служила возможность приобрести от Польши лишние землицы. 4 января король писал Сольмсу: «Так как я друг России, то вы не можете сомневаться, что я очень опечален известиями о казацком бунте. Это искра, которую нужно погасить прежде, чем она произведет пожар. Это заставляет меня сильнее, чем когда-либо, желать для России заключения мира с турками. Скажите графу Панину, что если турки готовы сделать желанные предложения, то некстати заниматься мелочами; я думаю, что для России в эту минуту мир важнее всех завоеваний, какие она может сделать. Фон-Свитен возвратился из Вены с жалобами на русских, которые делают австрийцам препятствия относительно границ Галиции; венский двор, по его словам, твердо решился не отступаться от своих владений. Если же, – продолжал Фридрих, – австрийцам в Петербурге уступят, а мне будут делать затруднения, то, значит, русский двор лучше поступит с завистниками, чем с самыми верными союзниками. Мне кажется, было бы всего лучше, если бы петербургский двор подарил нам обоим эти землицы, которые нам обоим очень пригодны, а в сущности пустяки. А вот, наконец, новости из Франции: Дюран пишет о своих успехах; при русском дворе, говорит он, интерес государственный идет позади личных страстей. Ему хотелось уколоть четолюбие упреком, что Россия получает указы от короля прусского. Внутри России, по его словам, бунт, затруднения в сборе рекрут и дурные распоряжения относительно войны. Все это должно вести к затруднениям, которые заставят Россию обратиться к Франции». В следующем месяце Фридрих писал: «Я одобряю мудрые меры графа Панина, чтоб не возбуждать вражды Австрии, особенно в настоящих обстоятельствах. Но я не обещаю России больших выгод от ее любезностей: никогда они не доставят ей существенной дружбы венского двора. Я имею право предполагать в нем ту же зависть, какую питают Англия и Франция относительно русской торговли в Турции. Из этой зависти Франции так хочется поссорить три двора и овладеть посредничеством при заключении мира между Россиею и Турциею. Как бы то ни было, если Россия действительно желает поскорее заключить мир с Портою, то она имеет к тому средство без всякого посредничества. Стоит только ей смягчить условия относительно торговли и татар». В марте советы короля заключать скорее мир со смягчением условий становятся еще сильнее. Фридрих пишет, что от этого смягчения условий военная слава России не потерпит никакого ущерба, тогда как военное счастье непостоянно. Переход через Дунай – дело всегда чрезвычайно трудное. Надобно поскорее заключить мир, пока еще не испытали превратности военного счастья. Выгоды от независимости или подчинения татар не могут уравновесить риска, какому подвергается Россия при перемене счастья на Дунае или в Крыму. Король стонет при одной мысли об этом. Неудачи в Турции поведут к новым замешательствам в Польше, более опасным, чем прежде; и нельзя поручиться, что шведский король не воспользуется случаем для отнятия той части Финляндии, которая теперь за Россиею. Если Порта не предложит условий слишком невыносимых, то России лучше всего помириться. О превратностях военного счастья Фридрих говорил по собственному примеру.
В апреле Фридрих был сильно озабочен намерением Австрии обратиться прямо к польскому двору и от него получить согласие на увеличение своей доли, тогда как все это дело должно быть улажено между тремя дворами, которые одни должны заботиться о взаимном равновесии, а Польша тут ни при чем. Фридрих приказывал Сольмсу объявить Панину, что если Австрия добьется расширения своей доли, то он будет добиваться увеличения своей и надеется в этом случае получить помощь от двора, одинаково с ним заинтересованного в поддержании равновесия между Австриею и Пруссиею. В Петербурге хорошо знали, что поддержание этого равновесия может завести очень далеко, и потому с первого же года очень дурно приняли предложение Австрии перенести ее границу с Серета (или Подгурже, как он был назван в договоре) на Сбруч. Панин в разговоре с Лобковичем прямо высказался, что если австрийцы не откажутся от своих претензий, то не будет никакого основания требовать от прусского короля, чтоб и он не делал дальнейших захватов, и когда Лобкович вздумал было объяснить, что Австрия в данном случае имеет более права, чем Пруссия, то Панин заметил, что, наоборот, прусскую претензию на все течение реки Нетце можно еще как-нибудь вывесть из выражений договора, тогда как ссылка Австрии на недостаточность сведений, по которой явилась на карте какая-то неизвестная река, не имеет значения и не дает права распространять границы до таких местностей, о которых при заключении договора никто и не думал. Панин закончил разговор словами, что пусть прежде Австрия сговорится с Пруссиею и потом уже обратятся к России.
Австрия начала сговариваться с Пруссиею. Фридрих II был недоволен Петербургом и говорил фон-Свитену: «Это чистое крючкотворство с русской стороны, я нахожу ваши объявления основательными; я не принимаю никакого участия в затруднениях, какие вам делают, я вовсе не завидую вашей доле. Мне также делают крючкотворства, как и вам, из-за пустяков». Когда фон-Свитен заметил ему, что, смотря по тому, как в Петербурге смотрят на дело, Австрия и Пруссия должны согласиться не в том, чтоб увеличить свои владения, но только в том, как бы выгоднее определить границы, следовательно, кое-что и урезать из занятого, то Фридрих отвечал: «Надобно удержать за собою все, чем мы теперь владеем; надобно поддержать свое право». Тут же Фридрих высказал, почему он так решительно выражается, не обращая внимания на неудовольствие России: это государство находится в таком затруднительном положении, что не в состоянии помешать их делу; пугачевский бунт у Румянцева взял 15000 войска; народ страшно наскучил войною, рекрутские наборы затруднены.
Но Австрия была озабочена не одним сопротивлением России. Из Варшавы Ревицкий писал о новых захватах Фридриха II, говорили уже, что с Нетцы он перенес свою границу на Варту; следовательно, если положить основанием равновесие в долях, т. е. соперничество с прусским королем в захватах, то чем кончится дело? Австрия вовсе не хотела окончательного разрушения Польши, напротив, хотела приобрести в ней наибольшее влияние, значение покровительствующей державы, и поэтому она объявила прусскому королю, что надобно вести дело о границах вместе с поляками в делегации. Легко представить раздражение Фридриха; в депеше к Сольмсу он величал за это Кауница страшным человеком, самым гордым и в то же время величайшим мошенником между смертными.
Этот разрыв между Пруссиею и Австриею заставил обе державы отдельно хлопотать в Петербурге о своем деле. Но Екатерина не хотела изменить своего прежнего взгляда, требовала, чтоб границы были установлены согласно договору, именно так, как поступила Россия относительно Белоруссии. Так как Фридрих объявил, что он не уступит ни пяди из занятых им земель, если Австрия не откажется от своих претензий, то Панин снова принялся убеждать Лобковича к уступке, опять выставляя на вид, что если б не Австрия, то прусский король и не подумал бы занимать что-нибудь лишнее. Когда все увещания остались бесполезными. Екатерина решилась обратиться непосредственно к Фридриху, Иосифу и Марии-Терезии с увещаниями ограничиться землями, выговоренными в конвенции. Но как только Фридрих узнал о решении Екатерины писать к нему и государям австрийским, то немедленно послал за фон-Свитеном. «Если вы хотите уступить что-нибудь, – сказал он ему, – то прошу объявить мне, и я распоряжусь, со своей стороны, чтоб нам остаться всегда в соединении. Браницкий разгорячил головы в Петербурге; видите ли, интерес польского короля состоит в том, чтоб выиграть время в надежде, что, быть может, возникнут несогласия между тремя дворами. Все это его дело; он заставил Браницкого кричать там, преувеличил дело, требовал правосудия, покровительства императрицы, которая и далась в обман; но нам стоит только держаться вместе, и буря рассеется. Хотите знать мое мнение: не будем торопиться ответом на письма русской императрицы; движение там уляжется; я их (т. е. русских) знаю; первые впечатления очень сильны, но они исчезают со временем. Польский король выбрал Браницкого нарочно, зная, что его в Петербурге будут слушать и сама императрица допустит его к себе, ибо он был доверенным лицом ее и Станислава Понятовского, когда последний был в Петербурге при императрице Елисавете. Браницкий умел воспользоваться этими старыми отношениями и убедил императрицу, что ее слава требует заступиться за поляков, доведенных до отчаяния. Вследствие этого и написаны были к ним письма; но это еще не все, это только прелюдия; план Браницкого состоял в том, что, если после получения писем от русской императрицы вы не отступитесь от занятых вами земель, я вместе с Россиею должен обратиться к вам с увещаниями и, если вы и тут не согласитесь уступить, поляки созовут посполитое рушение и нападут на вас, а мы будем смотреть спокойно. Мне сообщили этот прекрасный план во всех подробностях; я не хотел отвечать на него серьезно и старался обратить в смех. Я дал почувствовать императрице, что мы будем играть роль польских Дон-Кихотов и что я вовсе не расположен к этой роли.
Но с пограничным делом надобно было спешить, а не затягивать его, не отвечая на русские требования уступок или отвечая таким образом: мы готовы уступить, если другие уступят». Скрепя сердце в Берлине и Вене должны были прийти к решению: потребовать от поляков признать претензии обоих дворов, а если поляки не согласятся, обратиться к России, чтоб решать вопрос всем трем державам вместе. Поляки объявили, что претензии Австрии и Пруссии не могут быть рассмотрены в Варшаве, непременно нужно отправить особые комиссии. Опять скрепя сердце надобно было и на это согласиться. Поляки имели свои выгоды медлить отправлением комиссаров, год проходил, а Фридрих в сердцах писал Сольмсу: «Признаюсь, я бы желал иметь средство убедить графа Панина в необходимости сделать полякам декларацию посильнее. До сих пор эти республиканцы выставляют тысячи затруднений в определении наших границ, и Австрия находит их комиссаров столь же непреклонными, как и я. Надобно полагать, что эта комиссия не будет иметь ни малейшего успеха, дело будет передано в делегацию и у нас будет еще много хлопот. Россия будет иметь ту же участь в диссидентском деле, и я очень сомневаюсь, что она достигнет своей цели без криков и шуму. Поляки по своей глупости думают, что венский двор и я сделаем все возможное, чтоб заставить Россию вывести свои войска из Польши. Австрийский министр отвечал на эту просьбу в общих выражениях, но Бенуа отлично отвечал, что так как дела далеки от окончания, то и нельзя думать, чтоб спокойствие было восстановлено в Польше, а его восстановление есть единственная цель пребывания в ней иностранных войск; следовательно, дело идет не о выходе русских войск, а о том, чтоб австрийские и прусские войска не вошли опять в Польшу вследствие медленности и недоброжелательства в переговорах. Поляки, – продолжал Фридрих, – не так сговорчивы, как, быть может, о них думают в Петербурге, и сейм никогда не кончится, если Россия на них не прикрикнет. Почти два года прошло с тех пор, как собрана делегация, и что сделано? Едва прошло дело о Постоянном совете. Вопросы о власти великого гетмана, о войске, о королевских выборах, о доходах, о диссидентах находятся в прежнем положении, и не думают о их решении. Если позволит делегация вести так дело, то пройдет еще несколько лет прежде, чем мы с ними покончим. Верно то, что ни я, ни Россия, ни венский двор не можем никогда положиться на поляков. Это народ легкомысленный и корыстолюбивый, лучшие резоны не производят над ними никакого впечатления, страх и деньги суть единственные пружины этой тяжелой массы».
Итак, надобно было обращаться к России, просить ее, чтоб прикрикнула на поляков, а на Россию прикрикнуть было нельзя после Кайнарджийского мира. Фридрих попробовал было внушить в Петербурге, что мир непрочен, что Пруссия снова может получить важное для России значение в делах турецких, но попытка не удалась. В начале октября Фридрих переслал в Петербург депешу Зегелина из Константинополя, в которой давалось знать, что Порта просит прусского короля употребить свои добрые услуги для смягчения условий Кучук-Кайнарджийского мира. Екатерина написала Панину: «Вы можете ответствовать заверно, что без новой войны нынешнего трактата ни единой строки не переменю, а лучше бы Порте оглянуться, что у ней делается в соседстве, нежели нас ябедою отвратить от истинного с нею согласия, которое я ненарушимо содержать намерена». Последние слова относились к занятию австрийцами земель в Молдавии, о котором Румянцев уже переписывался с Петерсоном. Мы видели, что кроме польских земель взять что-нибудь и у Турции было любимою мыслею Иосифа II. В начале 1774 года в Вене были в блаженном настроении духа: Россия, занятая на востоке Пугачевым, должна заключить самый невыгодный для себя мир с Портою, какого только могла желать Австрия. И вдруг страшное разочарование: Россия заключает мир самый выгодный, какого только могла желать! Негодование против турок было страшное. Кауниц говорил: «Турки вполне заслужили несчастие, которое их постигло, частик) своим слабым и глупым ведением войны, частию недостатком доверия к державам, которые, особенно Австрия, желали высвободить их из затруднительного положения. Зачем не потребовали они посредничества Австрии, Англии и Голландии? Каждая из этих держав помогла бы им получить выгоднейшие условия, и мы были бы все довольны. Но этот народ предназначен к погибели, и небольшое, но хорошее войско может, когда угодно, выгнать турок из Европы». Но если так легко выгнать турок из Европы, то еще легче отобрать у них какую-нибудь землицу; сами турки не в состоянии вести теперь новой войны; Россия не станет воевать из-за Турции; король прусский, принявший «Политический катехизис», не должен сердиться, что на основании этого акта позволяют себе небольшие приобретения, не беспокоя ДРУГ Друга уведомлениями; прусский король сам может взять себе где-нибудь что-нибудь, а, если возьмет слишком много, Австрия на основании равновесия прибавит к своей доле. Стоит только выбрать какую-нибудь землицу поудобнее, и выбрали Буковину, прилежащую к Трансильвании часть Молдавии, очень выгодную теперь по отношению к новым польским владениям Австрии. Буковина была занята австрийскими войсками; Турция не двигалась; в Петербурге положили ждать, что скажет король прусский, и вообще были очень довольны поступком австрийцев, что видно из письма Екатерины к кн. Репнину: «А сбывается часто по моему желанию; вот и цесарцы ссорятся с турками; готова об заклад биться, что первые биты будут, а я, руки упираючи в бока, как ферт, сидеть буду и на них погляжу, а в устах везде у меня будут слова: добрые официи». Оставалась Франция, всегдашняя заступница за турок, но Франции было теперь не до Буковины.
9 января приехал в Париж новый посланник, князь Иван Сергеевич Борятинский, а в апреле умер король Людовик XV, вследствие чего вышел в отставку герцог Эгильон и был заменен графом Верженем, вызванным из Стокгольма. Борятинский писал, будто новый король, Людовик XVI, рассуждая о системе герцога Шуазеля, говорил, что Франция издерживает много денег на субсидии и пенсионы понапрасну. «Какая мне нужда, – говорил король, – что Россия ведет войну с турками, а в Польше делаются конфедерации, и зачем давать субсидии Швеции и Дании? Я все эти лишние расходы сокращу». Известие о Кучук-Кайнарджийском мире произвело страшное впечатление, особенно в министерстве. «Невероятно, – писал Борятинский, – до какой степени простирается здесь зависть к нашим успехам. Находящиеся здесь поляки в великом горе. Австрийский посол очень мало оказывает мне откровенности, если что говорит, то в общих, с двойным смыслом выражениях».
При настоящем положении Франции Швеция не могла на нее много рассчитывать.
В мае месяце Остерман уехал из Стокгольма в Петербург, оставив ведение дел резиденту Стахиеву. В июле на придворном бале король подошел к Стахиеву и сказал, что этим летом он никак не может посетить императрицу, но непременно сделает это в будущем году, о чем никому заранее рассказывать не будет, давая этим знать, что в этом году исполнению его желания помешали другие люди. Король распространился о необходимости свидания с императрицею. «При личном свидании, – говорил он, – я в четверть часа могу сделать больше для утверждения взаимного благополучия обоих дворов, чем министериальною перепискою в продолжение целого года, особенно для уничтожения всяких недоразумений и подозрений, возбуждаемых недоброжелательными людьми и, быть может, некоторыми свойственниками. Горю желанием видеться с императрицею и при этом свидании однажды навсегда закрыть дорогу недоброжелательным внушениям. Мне известны наветы и наущения, которые по поводу последней здешней перемены делались в Петербурге на меня, а здесь мне – на петербургский двор. Я в одно ухо впускал, а из другого выпускал. А что касается самой этой перемены, то я решился на нее не прежде, как чины вознамерились согнать сенаторов с их стульев. Я должен отдать справедливость графу Остерману и вам, что вы прилагали всевозможное старание сдержать тогдашнее беспредельное своеволие в трех нижних чинах, но сдержать было иначе нельзя, как тем, что я сделал». По поводу Кучук-Кайнарджийского мира Стахиев писал: «Чем славнее и выгоднее для нашего двора этот мир, тем неприятнее он здешнему двору и его приверженцам, тем более что французский двор ласкал его надеждою помещения в трактате турецкой гарантии для здешней формы правления, что и было причиною, почему король отложил свое путешествие в Петербург: французский посол Вержен грозил королю, что если он поедет в Петербург, то этой гарантии не будет».
Как Екатерина понимала отношения России к европейским державам после заключения Кучук-Кайнарджийского мира, показывает следующий случай. Тотчас по получении известия о заключении мира в Ораниенбауме было собрание при дворе; где находились все иностранные министры. Императрица, садясь за карты и приглашая играть с собою министров датского и английского, сказала громко, чтоб все слышали: «Нынешний день для меня очень радостен, и я хочу видеть около себя только веселые лица».
ГЛАВА ВТОРАЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II АЛЕКСЕЕВНЫ
Внутреннее состояние России во время первой турецкой войны
С учреждением Совета Правительствующий сенат в действительности уступал ему первенствующее значение. Императрица, присутствуя очень часто в заседаниях Совета, не присутствует более в сенатских заседаниях, объявляя свою волю на письме или чрез генерал-прокурора. Так, по поводу наказания поручика Дубасова, убившего прикащика граф. Разумовской, состоялась собственноручная резолюция. «Заменя ему десятилетнее его содержание в тюрьме, освободить, а Сенату рассмотреть, по какой причине такого состояния дело толь долгое время решено не было, и впредь нашему Сенату непременным оком смотреть, чтоб дела правосудия требующие, толь долго без решения не оставались». Без малого через два года Сенат слушал собственный указ императрицы: «Сколь ни нужно для службы и самого порядка, чтоб по насылаемым из одного в другое гражданское правительство повелениям везде скорое и точное исполнение делано было, со всем тем, однако ж, ее и. в-ство из многих дел усматривает, что в некоторых присутственных местах сие столь худо и нерадиво наблюдается, что самые нужнейшие дела и учреждения остаются либо не в действии или не с тою скоростию и точностию исполняются, как служба и важность дела требуют. Посему ее и. в-ство и повелевает Сенату не только во все присутственные места о том наистрожайше подтвердить, но и самому за всеми подчиненными местами неослабно смотреть, чтоб везде по оному в самой точности наблюдаемо было; если же бы где паки оказалась какая по сему неисправность, с таковыми поступать без всякого послабления по самой точности законов; и дела таковые как весьма нужные судить без всякого отлагательства и уважения, потому наипаче, что никакое учреждение не может принесть ожидаемой пользы, покуда не будет в точности и в предписанное время исполняемо».
Но, несмотря на приказание Сенату смотреть «недреманным оком», в 1774 году видим окончание дела, начавшегося еще в 1765. Мы упоминали, что в этом году двое малороссиян, Золотаренко и Черный, показали, что во время ярмарки подожгли Луганскую станицу и сделали это по приказанию базарного старшины Волошенинова. После Золотаренко и Черный в военном суде с трех пыток и огня показали, что они ярмарки не зажигали и Волошениновым научены не были. Волошенинов ни в чем не винился. Юстиц-коллегия оправдала Волошенинова, Золотаренко и Черного в сожжении ярмарки; но так как Золотаренко оказался видимым мошенником, то приговорили бить его кнутом и сослать в Оренбург. Сенат не велел Золотаренка бить кнутом, потому что он терпел лишние пытки, а сослать только на вечное житье в Таганрог. Золотаренко и Черный объявили, что показали на Волошенинова, не стерпя побоев и мучений от купцов, которые их схватили на ярмарке. Относительно проволочки дел замечательное решение Екатерины дано было в 1769 году по поводу купца Попова. В марте месяце в Московскую тайную экспедицию привели из Камер-коллегии содержавшегося в ней под караулом московского купца Михаила Попова; содержался он вследствие доноса своего на коронного поверенного Хлебникова, что тот накладывает на вино лишние деньги; а в Тайную экспедицию привели Попова потому, что он, будучи под караулом, встал с места своего в азарте и говорил: «Нет правосудия в государыне». Екатерина дала резолюцию: «Неосторожные Попова слова уничтожить, а его отослать в Камер-коллегию с подтверждением о немедленном окончании его дела, дабы он видел, что есть правосудие».
Знаменательно для характеристики времени высказались взгляды екатерининского Сената по поводу следующих двух случаев. В 1771 году уфимский воевода Борисов донес оренбургскому губернатору, а тот Сенату, что в городе Уфе при соборной церкви слышан был многократно происходящий с высоты невидимо колокольный звон. Сенат приказали: как вышеписаный колокольный звон какую ни есть простую и натуральную причину имеет, то оренбургскому губернатору, выбрав какого-либо надежного человека, препоручить ему изыскать ту причину. Через год оренбургский губернатор донес, что для исследования причины звона послан был архитектурии прапорщик Гарезин, который, возвратясь, донес, что звон при нем днем и ночью слышан был неоднократно, только очень тихий. Заметив, что в тихую погоду в церковном куполе происходил шум, похожий на шум от пчелиного роя, Гарезин в присутствии местного протопопа велел проломать купол; при ломке отдавалось такое же эхо, и причиною явления оказался стоящий на главе железный с проволокою крест, по снятии которого как в церкви, так и в куполе ничего уже слышно не было. Сенат приказали: оренбургскому губернатору дать знать, что Пр. сенат еще из прежнего его рапорта заключил, что сие эхо не могло быть чрезвычайным каким-нибудь действием, так как воевода по легкомыслию и пустому суеверию к нему, губернатору, писал, но от простой и натуральной причины, да и изыскивать оную велел не для чего иного, как чтоб тамошний народ чрез то вывести из заблуждения, а потому Сенат и рекомендует впредь в таковых случаях быть в рассуждениях своих осмотрительнее.
В этом случае дело ограничилось распоряжениями светских властей. Но в 1769 году Синод дал знать Сенату, что епископ устюжский донес о появлении в Печорской волости, города Яренска, колдунов и волшебников из крестьян мужского и женского пола, которые не только отвращают других от правоверия, но и многих заражают разными болезнями посредством червей. Сенат приказали: так как обман их и колдовство состояли в умышлении на здоровье других людей, что и производилось на самом деле, то за такое преступление мужчин отдать в солдаты, оставя при них и жен их, а незамужних женщин и девиц отослать в Сибирь на поселение. Но прежде чем это решение достигло Яренска, колдуны были отправлены в Сенат как повинившиеся, что отреклись от веры и имели свидания с чертом, который приносил им червей, этими-то червями они и портили людей. В Сенате крестьяне показали, что они схвачены волостными сотскими по злобе на них кликуш, что в Яренской воеводской канцелярии в расспросах их не раз нещадно били и этими побоями принудили виниться в том, в чем они вовсе не виноваты. Тогда Сенат предписал архангельскому губернатору яренского воеводу и товарища его отрешить от должности, мнимых чародеев освободить и отпустить, дать знать об этом во все губернские, провинциальные и городовые канцелярии и в Синод сообщить ведение. В 1772 году Синод дал знать Сенату, что посланными к архиереям и прочим духовным особам указами запрещено им вступать в следственные дела о чародействах и волшебствах, ибо эти дела считаются подлежащими гражданскому суду.
Мы упоминали о свидетельстве императрицы Екатерины, что она не нашла в Сенате карты России. Осенью 1774 года, вероятно, вследствие пугачевского бунта генерал-прокурор предложил, что в Сенате нет верного известия о расстоянии мест от каждого города, как до других с ним соседственных, так губернских и провинциальных к ним ближайших, и чрез какие знатные места, урочища или селения дороги к тем городам идут, какие на тех дорогах реки и чрез них есть ли мосты или переправы. Приказали: послать во все канцелярии губернские, провинциальные и воеводские велеть означенные расписания прислать в Сенат.
Относительно жизни второстепенных учреждений в описываемое время замечателен следующий случай: президент Главного магистрата гр. Толстой и прокурор Сушков были отрешены от должностей за непорядочное баллотирование членов в московский магистрат.
В областном управлении по-прежнему особенной деятельностью отличался новгородский губернатор Сиверс. В 1769 году он прислал в Сенат ведомости о числе в его губернии рожденных, сочетавшихся браком и умерших за прошлый 1768 год. Приказали: приняв в известие, послать к нему указ, что Сенат толь похвальное и рачительное его должности своей исправление благоволительно приемлет и как желательно, чтоб и все господа губернаторы таковыми полезными сведениями Прав. сенат уведомляли, тем более что присланные от новгородского г. губернатора известия ясно доказывают, что сообщить о сем похвальном его, могущем служить средством к доставлению и от каждого о своей губернии таковых ведомостей поступке чрез г. генерал-прокурора. Но другого рода предписание Сенат должен был послать лифляндскому генерал-губернатору графу Брауну, который донес, что по силе манифеста 1766 года надобно выбирать голов и предводителей на два года. Лифляндского земства предводитель представил, что скоро минет этому двухлетний срок, на который он был выбран, и потому просил призвать земство для выбора нового предводителя. Земство надлежащим образом было созвано; но явился на выборы только один человек, да четверо отозвались письменно. «Из этого, – писал гр. Браун, – я заключаю, что лифляндское земство больше предводителя выбирать и особливый корпус составлять не хочет». Сенат приказал предписать генерал-губернатору, что, признавая такое отрицание лифляндского земства от выбора предводителя весьма предосудительным, он, Сенат, поручает ему вразумить на этот счет тамошнее земство и подтвердить ему самым строгим образом, чтоб теперь же непременно приступили к выбору нового предводителя; если же кто и после того явится ослушником, с тем поступить по всей строгости законов. Еще прежде по предложению генерал-прокурора Сенат предписал губернским канцеляриям рижской, ревельской и выборгской, чтоб находящиеся в них канцелярские служители старались приобрести совершенное знание русского языка и могли занимать высшие места предпочтительно пред теми, которые русского языка не знают, чего как государственное, так и собственное их благосостояние и польза требуют; в посылаемых Сенату представлениях о кандидатах на места должно именно означать, кто из них знает и кто не знает русского языка.
В описываемое время присоединена была к империи новая область – Белоруссия. Но при административном устройстве новоприобретенные земли разделены были на две половины и к одной из них присоединена часть от обширной Новгородской губернии; образованы были две губернии: первая названа Псковскою, а вторая – Могилевскою; Псковская разделена на 5 провинций, из которых две великороссийские – Псковская и Великолуцкая, а три присоединенные от Польши – Двинская, Полоцкая и Витебская; Могилевская губерния разделена на три провинции – Могилевскую, Оршанскую и Рогачевскую. Губернскими городами назначены: для Псковской – город Опочка, для Могилевской – Могилев; губернаторами определены генерал-майоры: в Псковскую – Кречетников, а в Могилевскую – Каховский; над обеими губерниями поставлен генерал-губернатором граф Захар Чернышев. Императрица, дав знать Сенату 10 сентября о присоединении к России некоторых польских земель, приказала представить мнение, где этим новоучрежденным губерниям состоять под апелляциями. В докладе Сенат признал нужным, чтоб с самого же начала, сколько возможно, уравнять жителей новоприсоединенных земель со старинными русскими подданными, дабы теперь же пресечь им повод к притязанию какого-либо особого права себе на будущее время в вечную привилегию, чем еще и теперь Лифляндия, Эстляндия и Финляндия в производстве дел причиняют некоторые затруднения. Поэтому Сенат считает полезным подчинить эти губернии относительно апелляции по судебным делам Юстиц-коллегии, а по вотчинным и земляным – Вотчинной коллегии, по другим же делам – тем учреждениям, в которых эти дела ведаются. Но так как личные тяжебные дела между жителями этих губерний производятся теперь по их праву, следовательно, и на их языке, то поэтому не угодно ли будет повелеть в Юстиц– и Вотчинной коллегиях учредить для этих губерний еще по одному департаменту и в них определить потребное число переводчиков польского языка.
Выбор правительственных лиц в новоприобретенные области не везде был удачен, как видно из донесения мстиславского прокурора Бабаева, который писал о немалых беспокойствах и несогласиях по Мстиславской провинции, так что нередко доходило и до смертоубийств. Из таких дел, вступивших в провинциальную канцелярию, ни одно до сих пор еще не решено, в чем от обывателей принесены жалобы на воеводу губернатору. Вследствие неприсутствия воеводы продолжительное время в канцелярии не только между обывателями, но и между канцелярскими служителями и штатною командою явилась распущенность, все пришло в расстройство, между обывателями происходят беспрестанные ссоры и драки, беднейшее шляхетство, вдовы и сироты разоряются и управы найти не могут. Воевода коллежский советник Лебедев сказывается всегда больным, очень редко бывает в канцелярии и производит некоторые дела на дому, но о них в канцелярии неизвестно; да и воеводский товарищ Роде по приезде своем в канцелярию уходит всякий день в дом к воеводе, а оттуда возвращается уже в такое время, когда из присутствия уже выходить должно. Помещица Парцевская из провинциальной канцелярии повелений не принимает и крестьянам повиноваться не велит; из посланных команд многим ее люди нанесли большие обиды и мучения, а солдата Квасова застрелили.
Во время тяжелой шестилетней войны внимание Сената должно было особенно обращаться на цели, указанные его основателем: бережливость в расходах, умножение доходов, снабжение войска людьми: «Денег как можно более сбирать, ибо деньги суть артериею войны». Мы видели, что вслед за объявлением войны турками учрежден был ассигнационный банк. Теневая сторона этого учреждения не замедлила обнаружиться. В июне 1771 года Н. И. Панин получил от императрицы записку, обличавшую большую тревогу; тревога обнаруживалась и в том, что на человека, заведовавшего воспитанием наследника престола и делами иностранными, возлагалось поручение, вовсе не соответствовавшее этим занятиям: «Извольте обще с генерал-прокурором и гр. Шуваловым (Андр. Петр., директором ассигнационного банка) входить во все подробности того приключения, которое сегодня сделалось в банке государственных ассигнаций в рассуждении двадцатипятирублевых бумаг, кои переделаны в семидесятипятирублевые, и что окажется, о том вы мне дадите знать; также положите на мере, как наискорее можно будет упредить, чтоб банковый кредит фальшивыми ассигнациями не был поврежден». На другой день новая записка: «Писал ко мне гр. Шувалов, что воры его сысканы и признались; только не пишет, у них сысканы ли готовые еще цедели, а только глухо пишет, что они до 5000 рублей выиграли или 90 нумеров испакостили своим манером». В 1772 году производилось дело о двоих братьях Пушкиных, из которых один ездил за границу и привез оттуда штемпеля и литеры для делания фальшивых ассигнаций, но был схвачен на границе. При учреждении банка было выпущено ассигнаций на миллион рублей, но в начале 1774 года Сенату дан был именной указ об обращении в империи не более как на 20 миллионов рублей ассигнаций с тем, что, когда взятая сумма выпущена будет из банков, тогда уже Сенату печатать вновь ассигнации единственно только на обмен присылаемых от банков ветшалых ассигнаций. Приказано: подтвердить всем присутственным местам, которые могут иметь какое-нибудь дело с банками, чтоб они крайне остерегались представлять обязательство и требовать отпуска ассигнаций, не имея действительно в сборе следуемой по тому наличной монеты в полном количестве, не полагаясь отнюдь на то, что эта монета в скором времени вступит. Старый банк для дворянства донес Сенату о злоупотреблениях, с которыми не имеет средств бороться: хотя, писал банк, всякая подлежащая строгость и осторожность к отвращению подлога в закладном имении употребляется, однако число преступников не только не уменьшается, но еще от времени до времени умножается, и потому просит, чтоб повелено было о всех фамилиях, сколько за кем мужеска пола душ и в каких уездах состоят, Камер-коллегии прислать именной список, к которому банк сделает алфавит и при выдаче денег будет справляться, подлинно ли закладываемое имение состоит за заимщиком, не продано ли и не заложено ли. Сенат сначала решил: предписать Камер-коллегии составить список, сообщить его в банк; но потом чрез несколько недель переменил свое решение и велел отвечать банку: так как эти ведомости без крайнего затруднения сочинены быть не могут, а указами уже предписано, какие при даче взаймы денег предосторожности банк наблюдать должен, то и поступать ему на основании предписанных указов.
В октябре 1769 года был опубликован указ во всенародное известие: «Настоящая ныне война с турками, умножая расходы противу того, как было в мирное время, требует, чтоб и доходы государственные по мере той надобности умножаемы были. И хотя при таком обстоятельстве нужда требовала бы в способствование общей обороны и безопасности наложить на народ особливую подать, однако ж ее и. в-ство, имея матернее о своем народе попечение, изыскивает способы, чтоб и при сих обстоятельствах, поелику возможно, не отягощать верноподданных ее общенародными налогами, но заменять оные возвышением таких государственных доходов, которые неотяготительны. Таков есть принадлежащий королю доход от питейной во всем государстве продажи». Вино велено продавать по три рубля ведро, на французскую водку прибавить пошлины по три рубля на анкер.
В 1769 году императрица поручила двоим известным дельцам, Волкову и Теплову, изыскать, какую подать на нынешнее военное время купечество и мещанство должны платить, причем составители проекта обязаны были держаться непременных правил: 1) чтоб всеобщая тягость была, сколько можно, уравнительнее в рассуждении всего государства; 2) чтоб не число душ, но состояние городов и их промыслов и торгов приняты были во внимание; 3) в числе купечества и мещанства и тех надобно разуметь, которые хотя и выключены из подушного оклада, но пользуются фабриками, заводами и другими мещанскими промыслами; 4) так как эта подать есть временная, а не всегдашняя, то смотреть, чтоб она соответствовала времени. Волков и Теплов нашли, что таких фабрик, на которых работа производится ткачеством, в 1769 году было 230; фабрик таких, на которых работа не ткачеством производится, 256; на первых 12771 стан, на вторых ежегодно обращается капитала 921534 рубля. Железных заводов 111, и на них ежегодно обращается капитала 1192540; медных заводов 48, и на них обращается капитала 780175. Число купечества с цеховыми – 228209. В докладе своем Волков и Теплов объяснили, что ими было принято правило: если нужда требует наложить новую подать, то принять в основание старую и по ней возвысить временную новую, ибо так делается во всем свете. Они нашли, что не будет отяготительно, если ежегодно платимые подати с фабрик и заводов будут удвоены; этим способом получится 287646 рублей. На том же основании уравняется и купечество, если на него к нынешнему сорокаалтынному окладу прибавится по полтора рубля на душу. Государственные крестьяне платят столько же, а именно по 2 рубля оброчных и по 70 копеек подушных. Правда, что бедный в мелких городах мещанин не имеет выгод государственного крестьянина, но правда и то, что только лень и нерадение причиною их бедности и что зажиточные мещане всегда большую часть бедных, как и теперь, будут оплачивать, тогда как крестьянин по большей части сам себя оплачивает. Всего мещанства, по последней переписи, 228209 душ, следовательно, временный налог принесет 342313 рублей. Этим способом казна каждый год в военное время получит нового дохода 629959 рублей. На основании этого доклада издан был указ о новой подати 30 октября того же года.
Но если должны были увеличивать налоги, то прежде всего должны были постараться добрать старые подати и отвратить явления, вредившие финансовым мерам. В начале 1769 года Сенат принужден был признаться, что хотя сбор подушных денег и взыскание доимки преимущественно возложены на попечение губернаторов, но, сколько со стороны комиссариата и Военной коллегии старания ни было и сколько Сенат ни посылал подтверждений, все осталось без действия: не только прежних лет доимка не выбрана, но и вновь от одного нерадения накопляется; так что комиссариат по 1768 год считает всей доимки 644000 рублей; к тому же и донесений комиссариат в свое время не получает, напротив, еще оказывается упрямство и ослушание, как то доказывает поступок Московской губернской канцелярии секретаря и канцелярских служителей, которые, будучи комиссариатом задержаны в канцелярии, осмелились отбивать часового, поставленного у дверей. Сенат приказал опять подтвердить губернаторам, чтоб старались взыскивать доимку. Разумеется, гораздо легче было взыскать казенные деньги с одного или нескольких известных лиц. Оказалось, что бывший казанский губернатор Квашнин-Самарин купил у сенатора графа Ив. Ларион. Воронцова в казну вино по превосходным ценам и в такое время, когда его вовсе не нужно было покупать, и оттого произошел казенный убыток на 31511 рублей. Для вознаграждения этого убытка взыскано с откупщика Шемякина 9675 рублей да определено еще взыскать с него же и с другого откупщика Белавина 5084 рубля, а остальные 16740 рублей взыскать с Квашнина-Самарина. Сенат приказал взыскать с Воронцова и Квашнина-Самарина. Жаловались на контрабанду, и гр. Миних подал императрице проект для ее прекращения: купцы в таможнях должны получать ярлыки за руками всех таможенных служителей, с прописанием звания и количества товаров и сколько к ящикам или тюкам приложится печатей, дабы никто из купцов в дороге, не доехав до учрежденного места, не отважился распечатать, вынуть и распродавать под страхом конфискации всех товаров. Когда купцы с товарами к назначенным городам приедут, то караулы должны проводить их прямо в главное местное правительство, где товары свидетельствуются и, если что найдется сверх ярлыка, конфискуется; если же все явится исправно, то купцам вольно продавать товары. Во всех пограничных городах и селах по церквам читать, чтоб разночинцы, а особливо крестьяне к поимке контрабандистов более приохочены были. Так как большая часть купцов с контрабандою надеются приобрести большие барыши в главнейших городах, особенно в Москве, то надобно учредить там контору ведомства Главной канцелярии над таможенными сборами, которую поручить одному верному человеку с хорошим жалованьем и потребным числом служителей: он должен всех приезжающих в Москву купцов осматривать и, найдя какие-нибудь таможенные беспорядки, давать знать канцелярии, по подозрению осматривать дома и лавки купцов, у которых предполагается контрабанда. Императрица передала проект на рассмотрение Сената, который представил, что при уничтожении внутренних таможен и переносе пошлин к гаваням и пограничным таможням предполагалось менее миллиона рублей сбора, а вышло более миллиона, иногда получается полтора миллиона, почему Сенат и не видит прямой надобности отменять такое учреждение, которое до сих пор, принося казне немалую прибыль, приносит и купечеству большую пользу, доставляя свободное и безостановочное обращение. Свидетельство по ярлыкам товаров у тех, на кого никакого подозрения нет, будет весьма несправедливо и для купечества тягостно: купечеству нельзя будет избегнуть привязок и такого же разорения, какое во время внутренних таможен было. Крестьянство от частого напоминания в церквах поощрено будет к свободному грабежу товаров под именем сохранения казенного дохода. Сенат не утверждает, чтоб на границах не происходило упущения пошлин: и прежде это замечалось, а теперь в Боевской пограничной таможне открылось прямое воровство директора и других управителей; но Сенат причины тому полагает следующие: 1) слишком большое число таможен, причем купец может ехать в какую ему угодно, где имеет надежду на послабление в пошлинах; 2) служащие при таможнях назначаются из разного рода людей сомнительной нравственности; 3) таможни стоят очень низко между учреждениями, и чиновники в них не могут служить из одного честолюбия и усердия к отечеству. Потому Сенат полагает: давать на границах и в гаванях ярлыки купцам только для того, чтоб в случае доноса можно было купцу оправдаться; уменьшить количество таможен; определить в них чиновных людей, заслуженных и честных, дать им хорошее жалованье.
В 1769 году государственный доход простирался до 16996902 рублей, причем в недоимке осталось 983856. В 1773 году доход простирался уже до 23611300 рублей, причем из доимок вступило 2835823, осталось в недоимке прошлых лет 4544017 рублей, а от того же 1773 года – 4302102. В 1774 году по окончании турецкой войны генерал-прокурор объявил Сенату, что императрица приказала рассмотреть о государственных доходах, нет ли между ними тягостных, которые следует сложить. Сенат, рассмотревши, решил: 1) сложить все подати, которые наложены для бывшей турецкой войны, как-то: контрибуции в Лифляндии, с купцов прибавочные подушные, также с фабрик и заводов; 2) сложить некоторые собираемые по местам подати (с стругового и лодочного караула, красильного промысла, с харчевен, с камней, с полков, с кузниц, постоялых дворов, бритовных изб и проч.); 3) с выдаваемых купечеству и крестьянству паспортов сбирать половину. По этому решению убывало пошлин на 807683 рубля.
Кроме денег война требовала усиленной поставки рекрут. Мы видели, что немедленно же было сделано распоряжение о взятии в военную службу священно– и церковнослужительских детей, живущих праздно при отцах и родственниках. Мера эта вызвала многочисленные жалобы на неправильности, вследствие чего один архиерей (тамбовский) лишился епархии; вскрылись странности вроде следующей: в Москве при разборе священно– и церковнослужительских детей кремлевских ружных осьми церквей, состоящих в ведомстве мастерской и оружейной конторы, оказались сверх штата многие Церковнослужители, не только в это звание не произведенные архиереем, но и не имеющие письменных видов ни от какого Духовного правительства; они были церковнослужителями на основании указов, данных им из мастерской и оружейной конторы за подписью присутствующих в ней. Сенат приказал: всех этих дьячков и пономарей, состоявших сверх штата, записать в военную службу, а мастерской и оружейной конторе предписать, чтоб они впредь сами собою в означенные церкви служителей не определяли, но, выбрав достойных, представляли архиерею.
По другим отношениям к церковному правительству Сенат находился в затруднительном положении по делам раскольничьим. С одной стороны, правительство высказывало терпимость и предписывало кроткие меры: раскольникам возвращались гражданские права, например позволено было допускать их к присяге и свидетельству по делам судным; правительство не желало употребления внешних принудительных средств, но внутренних средств не было, ибо рассылка по церквам и монастырям книжки «Раскольникам увещания» не могла заменить живых устных увещаний, разумной и горячей проповеди со стороны православного духовенства, а между тем раскол почувствовал ослабление внешних средств и начал действовать смелее. Синод дал знать Сенату, что в 1765 году из заграничной слободы Ветки раскольниками вывезена церковь и поставлена близ раскольничьих слобод Климовой и Митковки; в этой церкви совершается служба по старопечатным книгам: в недавнем времени в принадлежащей к слободе Злынке местности близ реки Ипути, в лесу, в урочище Малийном Острове, построена небольшая церковь и служба отправляется. А сверх того, по справке в Синоде оказалось, что еще имеются построенные раскольниками часовни: одна недалеко от Саратова, за Волгою, по реке Иргызу, при которой и колокола медные имеются; другая в крепости св. Елисаветы в пригородной слободе; третья Царевосанчурского заказа в дворцовой Устинской волости, в починке Ларионова; в этих часовнях раскольники для моленья публично во множестве собираются да и правоверных христиан от церквей божьих отлучают. Сенат решил поднести императрице доклад, что Сенат согласен со св. Синодом относительно уничтожения означенных церквей и часовен, чтоб от них правоверным смущения и развращения последовать не могло.
Но являлись секты, которые не строили церквей и часовен. По поводу появления скопческой ереси в половине 1772 года императрица дала полковнику Волкову любопытный указ: «Слух носится, будто бы в Орловском уезде оказался новый род некоторой ереси и будто бы действительно в орловское духовное правление привелено уже несколько человек из крестьян разных помещиков, в той ереси найденных. В таковых случаях ничего нужнее не бывает, как, с одной стороны, утушение в самом начале подобных безрассудных глупостей, а с другой – сохранение и безопасность множества людей от прицепок и забираний в каком ни есть нижнем судебном месте, паче же от всяких иногда невинным людям быть могущих привязок и притеснений. В рассуждении сего повелели мы вас отправить в город Орел, где имеете наперед у тамошнего воеводы и в духовном правлении наведаться, действительно ли состоит там таковое дело и где оно производится. Если найдете, что подобное следствие начато, то имеете истребовать к себе сие дело и всех людей, кои доныне приведены; получая же о всем полное сведение, должны вы обще с тамошним воеводою и его товарищем изыскать прежде всего, кто сей вредной ереси зачинщик и кто ее над другими в действо производил; буде доныне сии люди не сысканы, то велите их сыскать немедленно. Всех же в сем деле участвующих вины разделить на три класса: 1) начинщик или начинщики и те, кои других изуродовали; 2) те, кои, быв уговорены, других на то приводили; 3) тех простяков, кои, быв уговорены, слепо повиновались безумству наставников; о тех же, кои по сю пору не забраны, стараться и вам должно, узнав их имена и жилища, без крайней надобности их не забирать, а единственно дать знать под рукою их начальникам, чтоб за ними имели бденное смотрение, дабы воздержаны были от всяких иногда неистовств. По окончании следствия с первыми имеете поступить как с возмутителями общего покоя, т. е. высечь кнутом в тех жилищах, где они проповеди свои производили и где более людей уговаривали, и потом сошлите их в Нерчинск вечно; вторых велите высечь батожьем и сошлите в фортификационную работу в Ригу, а третьих разошлите на прежние их жилища. Мы за нужное находим здесь прибавить, чтобы вы при следствии поступили для изыскания правды без всякого истязания и самым кротчайшим образом, и что если найдете, что забраны невинные люди, то старайтесь оных наискорее отпустить безвредно в их жилища; чем же скорее и без дальной огласки сие дело исследовано и окончено будет, тем по существу сего рода дел полезнее быть может, ибо, чем менее к нему от правительства окажется уважения, тем менее утвердится безумство таковое в несмысленных умах и, следовательно, тем скорее исчезнет привлеченная к нему мысль людская. Не меньше же находим мы за нужное вам прибавить, чтобы вы сие дело трактовали как обыкновенное гражданское, а отнюдь не инако и для того и в разделении вин вам стараться, чтобы наказаны были гражданские преступления».
Несмотря на это объявление скопчества как дела гражданского, а не церковного, церковь должна была заняться им, когда жены двенадцати оскопленных крестьян, возвращенных помещику, подали просьбу о позволении вступить им во второй брак. Синод решил, что эти женщины как ни в чем не виновные имеют право отвергнуть от себя супругов, которые браком возгнушались и тем уничтожили благословение церкви, данное им на супружество. Позволив женам скопцов вступать в новый брак, относительно самих скопцов Синод постановил: семь лет не допускать их до св. причащения, кроме смертного случая, а исповедоваться им дважды в год.
В 1769 году несколько раскольнических учителей были сосланы в Азовскую и Таганрогскую крепости для определения в военную службу, причем Военной коллегии было предписано иметь за ними наикрепчайшее наблюдение, чтоб они между собою никакого сообщения не имели и прелести своей не рассевали. Но предписание не исполнялось. Воронежский губернатор донес Сенату, что один из таких сосланных, солдат Степан Кузнецов, часто отлучаясь от своей команды на прежнее свое место жительства, в Воронеж, распространял в этом городе раскол; особенно усердными его ученицами явились женщины, из которых две крестьянки, Варвара Ефимова и дочь сержанта Овчинникова девица Акулина, торжественно на площади проповедовали народу о необходимости двуперстного сложения. У раскольников нашли четыре псалма, которые они пели в своих собраниях, причем Акулина Овчинникова и мать ее Мавра показали, что петь эти псалмы научил их бог. Сенат наикрепчайше подтвердил, чтоб сосланные в крепости за отступление от благочестия отнюдь не были отпускаемы на прежние жилища, но прибавил распоряжение: из всех вступивших теперь о раскольниках в Сенат дел, сочиня экстракт, отослать в св. Синод на его примечание, с тем чтоб благоволил духовным властям дать наставление: при случае производства следствий о каких-нибудь суевериях подлежащие духовному суду люди требованы были в консисторию со всевозможным осмотрением и осторожностью, чтоб как-нибудь и таким, которые к суевериям непричастны, не могло быть причинено ни малейшего притеснения и чрез то «не произвесгь бы существительного вида инквизиции». Мы видели, что Синод указывал на построение раскольниками часовни с колоколами на реке Иргизе. Узнали, что на обеих реках Иргизах образовались раскольничьи скиты, служащие убежищем для беглых, вследствие чего Сенат предписал казанскому губернатору Бранту отправить туда команду и осмотреть все скиты вдруг, чтоб раскольники не могли укрыться из одного скита в другой; этим способом в них найдено беглых разного звания мужчин и женщин 44 человека.
Такого же рода щекотливые отношения продолжались по делам магометан. Синод жаловался, что в Казани вопреки прежним указам построены мечети подле православных церквей и что прежний губернатор Квашнин-Самарин, с позволения которого это сделано, объявил о получении им на это устного указа от императрицы. На доклад Сената об этом Екатерина велела отвечать: «Как всевышний бог на земле терпит все веры, языки и исповедания, то и она из тех же правил, сходствуя его святой воле, и в сем поступает, желая только, чтоб между подданными ее всегда любовь и согласие царствовали; а впрочем, ее в-ство приказать соизволили Сенату объявить, что бывший губернатор Квашнин-Самарин дозволение строить каменные мечети сделал в сходственность данного большого наказа 494, 495 и 496-й статей». Месяца через два Синод дал знать Сенату, что магометане, приезжая в Барабинскую степь, обращают в свою веру обращенных недавно в христианство идолопоклонников, и хотя сибирский губернатор въезд туда татарам и бухарцам запретил, однако все же происходят от них разные обольщения: так, разглашают, будто бы из Сената прислан указ, которым позволено им и мечети там строить, отчего новокрещенные, пришедши в соблазн, перестали ходить в церковь, особенно же к исповеди и причастию. Сенат приказал: тобольскому губернатору предписать, чтоб он не запрещал магометанам совершенно въезда к новокрещенным, ибо они могут приезжать для торговли, а приказал бы только накрепко смотреть, чтоб они не совращали новокрещен в свою веру. Что же касается наказания кнутом совратившихся из христианства, то от него совсем удержаться и стараться приводить их в благочестие посредством духовных лиц одним увещанием и ласкою, а не наказанием. Что же касается разглашения, будто бы дозволено строить мечети, даже и каменные, то губернатор должен их уверить, что это разглашение неосновательно.
В рескрипте Румянцеву, отправленном по получении известия о мире, высказалась вся радость, возбужденная этим событием. Радость была тем сильнее, что потеряли надежду получить такой выгодный мир. «Возвещая мир, рук ваших творение, возвестили вы нам в то же время чрез оный и знаменитейшую услугу вашу пред нами и отечеством, – писала Екатерина Румянцеву. – Мы объявляем ее во всем пространстве тех трудов и подвигов, коими вы чрез все время войны ополчаться долженствовали к преломлению сил и высокомерия неприятеля, обыкшего доныне в счастливых своих войнах предписывать другим законы жестокие. Мера благоволения нашего к вам и к службе вашей стала теперь преисполнена, и мы, конечно, не упустим никогда из внимания нашего, что вам одолжена Россия за мир славный и выгодный, какового по известному упорству Порты Оттоманской, конечно, никто не ожидал, да и ожидать не мог с рассудительною вероятностию. Самая зависть не может оспорить сей истины, ибо, с одной стороны, турки, лишившись Крыма и всех татарских орд, лишились на будущее время значительного числа войск, тем более полезных, что содержание их Порте ничего не стоило, а уступка нам трех пристаней на Черном море даст нам способ вредить Порте в самых для нее чувствительных местах, если б она опять покусилась на войну с нами вследствие посторонних происков».
Написан был уже рескрипт и к начальнику Второй армии с приказанием очищать постепенно Крым, оставив гарнизоны в Керчи и Еникале, как вдруг приходит от Долгорукого известие, что в Крым высадился с войском сераскир-паша Алибей и хан Сагиб-Гирей не только не оказал ему никакого сопротивления, но и выдал ему русского резидента Веселицкого. Тогда написан был другой рескрипт: «Не будучи мы еще от вас в подробности уведомлены и не зная потому, каким образом хан крымский мог соединиться с турецкими начальниками и осмелиться отдать им нашего резидента в бытность вашу со всею предводительствуемою армиею посреди Крыма, следовательно, вблизости от хана и при настоянии всех способов к содержанию с ним нужной связи и обсылки с резидентом, мы находимся в необходимости настоящее наше предписание составить главнейше из общих примечаний». Эти примечания состояли в том, что об очищении Крыма русскими войсками теперь нечего и думать, можно начать вывоз войск только тогда, когда турки совсем оставят полуостров или по мере их выхода. В рескрипте говорилось также: «Мы давно уже от вас и чрез другие достоверные известия были предупреждены о дурных качествах и о малоспособности к правлению настоящего хана, по при том положении дел, в каком мы в рассуждении Крыма и прочих татарских народов находимся, нет пристойных способов к его низложению, как получившего достоинства по праву происхождения и по добровольному избранию всего общества, особенно в то время, когда оно решилось отложить от власти турецкой; поэтому мы находим нужным его и защищать, если б с турецкой стороны принято было намерение низвергнуть его. Впрочем, как с турками, так и с татарами, дабы не подано было с нашей стороны ни малейших поводов ко вражде, надобно поступать с такою разборчивостью, чтоб всегда удаляться от первых задоров». Но от Долгорукого получено было известие, что он войска свои из Крыма выводит, и вместе с тем просьба об увольнении его по слабости здоровья в Москву и позволении сдать команду старшему генерал-поручику. Все это было ему дозволено.
Между тем стали приходить и от Румянцева дурные вести. Для окончательного улажения дела он отправил в Константинополь полковника Петерсона, который дал ему знать, что дело не улаживается, диван требует перемены некоторых условий мирного договора; о том же писал Румянцеву и прусский посланник при Порте Зегелин. Но как взглянул фельдмаршал на известия последнего, видно из любопытного письма его к Петерсону (от 24 октября): «Зегелин расхваливает рейс-эфенди, выставляет его усердным защитником мира; но мы достоверно знаем, что он мира не хочет. Зегелин хочет нас настращать готовностью турок к войне, но в предыдущем письме сам он описывал страшное истощение Порты, которая не может поднять головы; и потому будьте с ним осторожны и выведывайте, не от него ли или от каких других происков идет помеха делу. Легко станется, что и прусский министр, будучи лишен всякого участия при заключении мира, старается теперь сделаться нужным. Если рейс-эфенди или кто другой станут время проволакивать или откажутся принять мирный договор слово в слово, то дайте им почувствовать, что их поступок остановит очищение Молдавии и остающихся в наших руках крепостей, где у нас вся армия без малейшей убавки. Рейс-эфенди спрашивал вас, на каком основании австрийцы заняли своим войском значительную часть Молдавии. Я вам передаю следующее, что вы должны содержать в величайшей тайне: необходимо внушить Порте об истинных взглядах двора нашего на это дело. Откройте надежнейший путь к удостоверению Порты, что австрийское занятие ее земель есть для нас дело совсем постороннее, в котором мы не имеем и никогда не примем ни малейшего участия. Передайте это внушение словесно, а не письменно самому великому визирю или доверенной от него особе. Повторяю, что это должно сделаться в величайшей тайне, ибо положение нашего двора в этом случае очень деликатно: он не должен себя компрометировать ни пред венским двором, ни пред Портою. Даю вам право обещать 100000, 200000, наконец, 300000 рублей тому, кто возьмется уничтожить все происки недоброжелательных людей и довести дело до того, чтоб ратификация была отправлена в Петербург без всяких изменений договора».
Все эти сношения вел Румянцев в Фокшанах, лежа в постели, к которой приковала его мучительная болезнь. Еще в августе, узнав о тяжелой болезни Румянцева, императрица решила отправить к нему назад Репнина для помощи в окончании мирного дела; если фельдмаршал оправится, то Репнин должен был ехать послом в Константинополь, в противном случае принять начальство над армиею. 14 сентября приехал Репнин в Фокшаны и на другой день написал в Петербург к Потемкину: «Я нашел фельдмаршала в крайней еще слабости и в несостоянии встать с постели, хотя уже из всей опасности и вышел. Жалко на него глядеть и на всех здесь находящихся; из всего города сделалась больница. Игельстром был очень болен, но уже ходит. Завадовский лежит, Аш, Велда, кн. Андрей Николаич тоже – одним словом сказать, все почти больны лихорадками и горячками. Из всех людей фельдмаршальских один его егерь только здоров, а прочие все или лежат, или насилу таскаются. Фельдмаршал поручил мне вам изъяснить, сколь он наичувствительно признателен за участие, кое вы приняли в его болезни, и за все знаки вашей к нему дружбы. Сам писать не в силах, а коль скоро сможет, то будет. Считая, что фельдмаршал недели через три или четыре придет в желаемые силы, тогда не вижу я, чтоб нужно мне было здесь при нем оставаться. Вы знаете, мой друг, что ему помощники не надобны. Сделай мне милость, спроси не только наставления, но милостивого по сему совета у государыни. Я боюсь, чтоб турки, сведав, что наш посол прискакал по почте, не подумали, что крайняя нужда нам спешить, и оттого бы не возгордились, а утаить сего нельзя, понеже оно публично в Петербурге, а оттоль сюда множество людей пишут. Представьте ее в-ству все сие, и если я буду столь счастлив, чтоб мысли мои встретились с мыслями ее в-ства, то испросите мне высочайшее позволение отсель к вам приехать, когда фельдмаршал придет в желаемые силы. Пожалуй, мой Друг, не замедли мне на сие ответом, а посольствы, конечно, прежде будущей весны быть не могут». Совет решил, что можно позволить Репнину приехать в Петербург.
Румянцев еще не успел оправиться от болезни, как на него возложена была новая обязанность – заведование Второю армиею, оставшеюся без начальника за отъездом Долгорукого, и улаживание дел татарских. По этому поводу Румянцев писал императрице: «Что касается свойств и расположения татарских народов, то едва ли и надеяться можно в скором времени видеть их спокойными и пользующимися, как следует, вольностью и независимостью. Я свое мнение основываю на том, что имевшие с ними дело Щербинин, Веселицкий и кн. Долгорукий одинаково и постоянно писали, что татары исполнены крайнего отвращения ко всем благодеяниям в. в-ства и никогда не переставали желать раболепствовать по-прежнему Порте, а теперь этого и формально ищут, о чем визирь в своем письме ко мне упоминает да и кн. Долгорукий писал, что они за этим депутатов своих отправили к Порте». Действительно, турецкие войска вышли из Крыма, флот отправился от его берегов назад в Константинополь, резидент Веселицкий был освобожден; но татары не хотели принять данной им вольности. Больному фельдмаршалу было тяжело заведовать двумя армиями, особенно при таких обстоятельствах. «Пощады я не делаю ни здоровью, ни самой жизни моей, – писал он Екатерине, – против совету докторов, кои беспокойство, сопряженное с управлением дел, главным препятствием моему выздоровлению полагают, я жертвую вседневно последними силами исполнению моей должности, но, во всем ослабевши от долгой болезни, едва могу распоряжать и сею частью и боюсь, чтоб в таком состоянии и тут чего-либо не проронить». Румянцев просил, чтоб для Второй армии назначили или опять кн. Долгорукова, или кого-либо другого, хорошо знающего дела того края, где расположена эта армия. Между тем великий визирь прямо обратился к Румянцеву с письмом, где выражал желание изменить мирные условия, именно касающиеся татар и дунайских княжеств, для которых в Кучук-Кайнарджи выговорены были льготы. На это Румянцев отвечал: «Скрыть не хочу моего крайнего удивления, каким объят я был, увидав содержание вашего письма. Дело столь торжественное, как мир, заключенный между Всероссийскою империею и Портою Оттоманскою уполномоченными от их государей, в своем исполнении не терпит ни отлагательств, ни остановки, и я должен вам сказать, не обинуясь, что ни один пункт в трактате не может быть нарушен без того, чтоб не нарушены были и все статьи его, и самое главное основание – искренность и добросовестность. Перемена священных договоров вслед за их постановлением была бы предосудительна достоинству и славе высочайших дворов. Хотя сказанное увольняет меня от дальнейших объяснений, однако хочу из дружбы к вам заметить следующее: татарские народы как вольные и независимые не принуждаются ни к чему противному магометанскому закону. Жалобы и просьбы их, хотя бы и действительно шли от них самих, не дают права ни той, ни другой державе входить в их разбор. Татары стали теперь народом вольным и ни от кого не зависимым, и об этом положении их Россия и Порта имеют между собою обязательства, которые должно исполнить независимо от татарских желаний. Вы сами говорите в письме своем что несколько лет велась война по несогласию на те условия, которые постановлены в Кайнардже; можно ли же опять требовать в них какой-нибудь перемены и этим трогать пепел прежнего несогласия?» В донесении от 5 ноября Петерсон поздравил Румянцева, что твердость его ответа произвела желанное действие: решено утвердить договор безо всякой перемены.
Но когда ошибка допущена в начале дела, то она непременно обнаружится в конце его. Ошибка, допущенная в начале крымского дела провозглашением независимости татар, была еще усилена уступкою туркам религиозного влияния над ними. Тотчас по заключении Кучук-Кайнарджийского мира Панин писал Веселицкому относительно его условий о татарах: «Хотя татары со стороны Порты в рассуждении политического и гражданского их состояния и признаны совершенно свободными и ни от кого не зависимыми, но с тем, однако ж, чтоб они в духовных обрядах как единоверные с турками в рассуждении султана яко верховного калифа сообразовались правилам, законом их предписанным, но без малейшего предосуждения утверждаемой для них политической и гражданской вольности. По бывшим о сей духовной должности татар к турецкому государю на Фокшанском и Бухарестском конгрессах рассмотрениям имела она состоять в том, чтоб каждый новый хан крымский, добровольным избранием возводимый на сию степень, возвещал о том оттоманскому престолу грамотою своею чрез нарочную депутацию и требовал от оного утверждения или же благословения на свое достоинство; чтоб судьи крымские, поелику суд и расправа магометанская в тесном соединении с их же законом состоят, снабдеваемы были полною мочью от кадилескера константинопольского, а по крайней мере чтоб при первом случае, но единожды на все уже последствие времени не требовано было татарским правительством судей их настоящих и будущих благословляющая бумага и чтоб в Крыме и во всех татарского владения местах каждую пятницу в мечетях возносимо было в молитвах имя султанское. Без сомнения. Порта и не оставит стараться тотчас о приведении сих трех пунктов в полное действо; но против того настоит опасность, чтоб татары по невежеству своему, суеверству и неограниченной к туркам преданности не подвиглись, буде оставить без предостережения, поступить далее, нежели совместно быть может с настоящим их независимым состоянием. Пускай посему начинают татары возглашать имя султанское в своих мечетях; но, как скоро разведаете вы о намерении ханском и приготовлениях к сношению с Портою для возвещения ей о своем начальстве и испрошения на то ее подтверждения, также и полной мочи для судей татарских, можете тогда потребовать о сообщении вам отправляемых к Порте писем яко первых по свободе приобретенной, которые, буде найдете в чем-либо несвойственными с настоящим татар положением, стараться имеете исправить вашими хану и правительству крымскому изъяснениями, чтоб хан явился пред султаном не рабом, а господином, действующим только по духовным убеждениям».
Таким образом, татары были поставлены между двух огней: между султаном, которого они должны были считать своим духовным владыкою и молиться за него, и Россиею, которая при первом случае вражды с султаном потребует, чтобы татары также объявили себя против него. Понятно, что татары, особенно их духовенство, будут стараться всеми силами выйти из такого тяжелого положения именно возвращением к старине; а другие, как Шагин-Гирей, которые хотели совершенно нового порядка вещей, полной независимости от Порты, были крайне недовольны условием духовной зависимости от султана, вовсе не признавая за нею религиозного основания.
Шагин-Гирей выступил в это время опять на поприще по поводу ногайских волнений. В самом начале года кн. Долгорукий уведомил о разврате ногайцев, прельщенных подарками, которые раздавал им хан, присланный Портою в Суджук-Кале. Едичкульская орда возмутилась и захватила русского пристава с командою. Сначала в Совете решено было против турецких денег действовать деньгами же и разрешено Щербинину употребить на это 35000 рублей. Но одними деньгами нельзя было помочь; гораздо успешнее действовал подполковник Бухвостов, который несколько раз поразил мятежных ногаев и прогнал из Едисанской орды присланного турками калгу; для окончательного же успокоения ногаев решено было послать к ним Шагин-Гирея. Панин писал ему письмо (26 февраля): «Полученное известие при высочайшем дворе ее и. в. о восприятом вашим сиятельством намерении переехать в ногайские народы для начальствования над оными произвело великое удовольствие. Без сомнения, потщитесь вы при бытности вашей в ордах ногайских и толь вяще по подающимся лучшим там Для вас способам отечеству вашему и всем народам татарским учиниться благодетелем и наставником; природа ваша и добродетели отличные достойны того, чтоб народы татарские, избавленные великодушным ее и. в. подвигом по единому человеколюбию, из поносного рабства и неволи и в независимом состоянии здешним попечением и стражею сохраняемые, но, к удивлению и крайнему сожалению, по малой своей разборчивости почти не чувствующие выгодности и превосходства настоящего своего жребия пред прежним презрительным, тяжким и бедственным, во всем том были вразумлены и приведены в прочный для них порядок чрез ваше сиятельство и чтоб таким образом слава вашего имени и в будущее их потомство распространилась для примера и подражания. Для достижения сего вашего намерения вы не только деньгами, но и войсками воспособствованы будете, а сверх того, и те 12000 рублей, кои вам назначены ежегодно для вашего в здешних границах пребывания, також производимы вам будут, пока благонамеренными останетесь, и ежели б по случаю какой для вас опасности вы долее между ногайцами быть не могли, тогда можете по-прежнему восприять убежище в здешнюю империю и ожидать всякого пристойного уважения». В то же время кн. Долгорукий получил рескрипт: «Доставление живущему под нашим покровительством в Полтаве Шагин-Гирею, калге-салтану крымскому, главного над ордами ногайскими правления, будучи, по-видимому, средством из лучших и надежнейших к удержанию сих легкомысленных людей и во время продолжающейся войны в положении, свойственном с пользою нашей империи, тем паче нашего старания достойно, что сверх исполнения вида, толико важного и нужного, найдет и калга-салтан в том же самом по состоянию и обстоятельствам своим самое сходственнейшее воздаяние своей к нам преданности. Пусть он как наискорее отправлен будет к ногайцам, чтоб получил и пособие войсками и деньгами для устрашения одним способом злонамеренных и приобретения другим себе доброжелательствующих и чтоб находился при нем и особливый пристав, наблюдающий его поведение. Денег калге в пособие назначается до 30000 рублей. И как мы желаем, чтоб искательство им власти над ордами ногайскими ни малейшего вида принуждения не имело, но совершилось с соблюдением всей наружной свободности, добровольным избранием, для того потщитесь дать калге-салтану уразуметь, колико для него нужно и полезно будет удалиться от всяких мер строгих нашим оружием, а вместо того стараться общую снискать доверенность снисходительством и пристойными изъяснениями. Полковник Бринк может должность пристава исполнять».
Шагин-Гирей отправился на Кубань; заключен был Кучук-Кайнарджийский мир, но крымцы заявляли упорное желание оставаться под турецким владычеством. Калга хотел воспользоваться этим для достижения своих целей и открыл Щербинину, что есть возможность склонить ногаев к протесту против поведения крымцев и к возведению на ханство его, Шагин-Гирея, если ему дано будет 100000 рублей и несколько войска для охраны. Когда 27 октября в Совете было прочтено донесение Щербинина, то Совет «признал предложение калги весьма полезным к утверждению сооруженной нами татарской области и рассуждал, что можно исполнить оное как дело, единственно между татар произойтить могущее, без остуды с Портою; что посредством денег все на Кубани татары и сам Джан-Мамбет-бей в то употреблены быть могут; что, без сомнения, одержат они поверхность над крымцами и Порта, не видя явного нашего участия, а притом и опасаясь нарушить мир, не осмелится подкрепить их; что калга, будучи нам обязан возведением своим на ханство, останется совсем преданным к нашей стороне и что, таким образом, нечувствительно отвыкнут татары от турков и могут сделаться наконец совершенно от них независимыми».
Но Шагин-Гирею на этот раз не удалось достигнуть своей цели. Румянцев, получив благоприятные известия от Петерсона из Константинополя, не хотел мешать утверждению мира новыми движениями с Кубани и дал знать Щербинину, чтоб остановился приведением в исполнение Шагин-Гиреева плана. В Петербурге были совершенно согласны с мнением фельдмаршала, и 15 декабря Совет одобрил рескрипт Щербинину о неисполнении теперь плана калги-султана и о содержании, однако, татар к тому в готовности, не допуская их переселяться в старые их жилища.
Несмотря на то что дела татарские не предвещали продолжительности Кучук-Кайнарджийскому миру, заключение его с такими выгодами при важных затруднениях внутри России должно было произвести сильное впечатление на соседние дворы, которые по отношению к польскому вопросу чувствовали себя до сих пор гораздо развязнее.
23 января Штакельберг писал Панину из Варшавы: «Начиная с короля до последнего депутата, никто не смеет высказаться в пользу греков-неуниатов и диссидентов, если бы даже в глубине своего сердца кто-нибудь и был убежден в правоте их дела; фанатизм, вместо того чтоб уменьшаться, усилился! Страх теперь не действует, как прежде, по причине системы ханжества венского двора. Я пригласил к себе моих обоих товарищей и предложил им порассудить о диссидентском деле, которое скоро пойдет. Я не буду говорить о Бенуа. Его мнения, совершенно согласные с правотою дела, остаются те же, как и прежде, а его будущие действия будут согласны с интересами его государя в этом деле. Он вместе со мною убеждал барона Ревицкого, но понапрасну: Ревицкий твердил свое, что особенно при настоящем положении дела, при чрезвычайном уменьшении жителей этого исповедания вследствие раздела, неприлично давать им место на сейме наравне с католиками; и вообще его двор сделал внушения в Петербурге и особенно в Берлине, где признали справедливость того, что Австрия, как государство католическое, не может заступаться за диссидентов. Легко представить себе впечатление, производимое на поляков поведением венского двора. Приехав в Польшу, я нашел народ исполненным предубеждений против России и ослепленным своею неблагодарностью. Раздел усилил эти чувства». 3 марта Штакельберг писал: «Бенуа мне обещал действовать заодно в борьбе с предрассудками, увеличению которых так содействовали папский нунций и барон Ревицкий. Первый толкует об анафеме, а другой обещает именем своего двора деньги и помощь, хотя мне говорит, что он нейтрален». Но союзники останавливали дело не по одному диссидентскому вопросу. Мы видим, что Австрия захватила польские земли по реку Сбруч; теперь пришло известие, что пруссаки изменили пограничную линию, обозначенную в договоре, забирают польские земли. Делегация завопила; послы начали ей грозить, но получили в ответ: «Сознание своей слабости заставило нас купить уступкою лучшей части Польши надежду владеть остальным спокойно; но при виде, что и это остальное не безопасно от ежедневных захватов, нам нечего больше бояться, и мы скорее согласимся быть поделенными окончательно, чем умирать на малом огне». Штакельберг жаловался, что это происшествие уничтожает надежду кончить все дела к 6 мая, времени открытия сейма. Дело кончилось тем, что делегация решила единогласно отправить знатных людей в Петербург и Вену с просьбою о посредничестве, причем в Петербург решено отправить великого гетмана Браницкого; решено было также отправить доверенного человека и в Берлин, просить Фридриха II остановить разграничение. А между тем диссидентское дело висело грозною тучей над головами. Штакельберг писал Панину 24 марта: «Мое положение будет трудное между католическим фанатизмом, с одной стороны, и упорством, иногда мелочным, диссидентов – с другой. Эти господа, справедливо раздраженные обидами, требуют полного равенства, не вникая в положение вещей, не принимая в расчет необходимость ограничиться существенным, ибо число их ничтожно в сравнении с числом католиков. Каждый день я уверяю их, что по крайней мере в известном числе они непременно будут допущены к участию в сеймах, но это их не успокаивает; они хотят полных прав, включая и право быть членами Постоянного совета. Все это они получат со временем, но теперь нельзя провести вследствие сопротивления венского двора и затруднений нового правительства. Нужно было бы гренадеров, чтоб нести проект Постоянного совета в делегацию, если бы мы объявили, что в него войдут диссиденты. Будущее для них будет менее страшно, если при новой правительственной форме король и разумнейшая часть народонаселения успеют ослабить влияние епископов и римского двора вообще».
Барон Ревицкий внушил членам депутации, чтоб держались крепко относительно диссидентского дела, а он отвечает зa следствия. Штакельберг опасался, что переговоры порвутся на пункте допущения диссидентов на сейм, и писал Панину, что для успеха дела нужно объявление императрицы, что она обещает свое посредничество у короля прусского по делу разграничения только в том случае, когда диссидентское дело решено будет по инструкции, данной ею своему министру в Варшаве. Если король прусский под этим же условием выполнит соглашение относительно границ, то диссидентское дело, эта основа спокойствия Польши, будет покончено навсегда.
Сейм собрался и снова отсрочил свои заседания до 1 августа, чтоб дать время делегации порешить все вопросы. Всего больше могло взять времени пограничное дело: Фридрих II захватывал на том основании, что Австрия захватила лишнее. Австрия не думала возвращать этого лишка; мало того, Ревицкий уверял Штакельберга, что если прусский король оставит за собою свои захваты, то и венский двор не ограничится своими прежними захватами. Штакельберг не предвидел этому конца. В то же время беспокоил его гетман Браницкий, который присылал из Петербурга вести, волновавшие всю Польшу. Штакельберг просил Панина унять Браницкого. «Это человек, – писал он, – способный служить, но надобно полагать границы его воображению, иначе он ниспровергнет все. Вы должны заметить, что он хочет быть самовластным кормчим корабля. Он, быть может, у вас несколько раз упоминал о короле, но это только из приличия. Он держит Станислава-Августа в подчинении посредством чувства, которое, переставая быть дружбою, приближается к страху. В своем стремлении стать единственным главою партии он подражает всем тем, которые прежде его были нашими орудиями. Как только они укреплялись нашим покровительством, становились сильны и богаты через него, то благодарность изглаживалась из их сердец и уступала место ненависти, когда русские послы, заметив, что играют второстепенную роль, старались снова поднять Россию на то место, которое принадлежит ей в польских делах. Ваше сиятельство знаете, как вследствие польской анархии и власти вельмож русским послам было трудно удерживать нынешнего короля и вельмож, чтоб они не употребляли во зло покровительство императрицы, когда первый имел постоянно в виду самодержавие, а последние – притеснение своих сограждан. Обстоятельства переменились, но виды остались прежние. Если этому не помешать, то король будет делать то же, что делал всегда, Польша погибнет, а Браницкий последует примеру Чарторыйских, с той разницею, что он, может быть, честнее, но зато горячее. Россия, король, если только захочет, и все честные люди найдут в Национальном совете средства против зла, если только равновесие, раз установленное, будет сохраняться. Вы так часто давали мне чувствовать важность Польши для России особенно когда после мира образуется твердая система относительно целой Европы и нам нужно будет обеспечить себе этот оплот империи, столь полезный и в войне, и в мире, которым стало гораздо труднее управлять с тех пор, как две другие державы так приблизились к нему. Вы мне позволите окончить мою депешу необходимыми размышлениями. Пружина страха, столь могущественная относительно поляков, почти совершенно ослабела с нашей стороны, потому что почти все значительные вельможи королевства находятся смешанными подданными трех держав. Отсюда, когда им внушают, что их поведение может не понравиться России, они выставляют покровительство других дворов, и преимущественно венского. Если пружина страха ослабела, то благоразумие требует обеспечить себе пружины надежды и благодеяний. В этом отношении надобно заставить Браницкого, чтоб он со своей стороны принудил короля оставить упорную систему преследования всех людей, преданных России. Вы обратили этих бедняков ко мне, с тем, чтоб они получили вознаграждение здесь, ибо большие военные издержки препятствуют императрице сделать это самой; но когда я ходатайствую о них пред королем, то не только получаю отказ, но его величество косвенно вредит им в делегации, объявляя публично, что такова участь людей, которые обращаются к чужой державе. Легко понять, какое впечатление это производит ежедневно и как чрез это король утверждает свою систему уничтожения нашего значения в Польше, тогда как при королях саксонских Россия совершенно располагала Польшей вследствие уважения этих государей к нашим рекомендациям. Если вы для восстановления нашего прежнего значения не воспользуетесь пребыванием Браницкого в Петербурге, то король успеет сделать Россию в Польше столь же незначительною, как самые отдаленные дворы. Есть еще предмет, относительно которого нужно поставить Браницкого, – это именно на счет переговоров, которые ведет польский король при всех дворах Европы насчет собственных своих интересов, насчет самодержавия, потому что король шведский окончательно вскружил ему голову».
Но в то время как Штакельберг требовал от Панина, чтоб тот наставлял Браницкого действовать согласно с видами России, оказывалось, что Браницкий по соглашению с королем поехал в Петербург для ниспровержения постановлений о Постоянном совете, вследствие чего королевская партия в делегации возобновила дело о Совете и выставила против него сильное сопротивление. Приверженцы короля имели дерзость сказать, что между ним и министрами трех дворов не было никакого соглашения насчет Совета. Это сильно раздражило Штакельберга, Бенуа и Ревицкого. «Только в Польше могут делаться подобные вещи!» – писал Штакельберг Панину. Послы указали на письменное соглашение с королем. Король велел своим приверженцам объявить, что он ничего не подписывал. Тогда Штакельберг показал записку короля, написанную к нему на другой день после соглашения и где Станислав-Август объявлял, что, соглашаясь на учреждение Совета, приносит этим жертву уважению своему к императрице. Чтоб помешать делу в делегации, приверженцы короля стали говорить, что так как в Совете должны принять участие три государственные чина, то надобно обозначить исключение диссидентов, и вся делегация начала этого требовать. Штакельберг отвечал, что не должно мешать предметов, что о диссидентах будет речь впереди. Заседание отложили до следующего дня, а между тем король, будучи не в состоянии отречься от своего соглашения с послами, объявил, что его к этому принудили угрозами. В следующее заседание Постоянный совет прошел в делегации, причем возобновились крики, чтоб диссиденты были из него исключены. Штакельберг опять настаивал, что не должно смешивать предметов; и Ревицкий взял его сторону, но в то же время в своей речи дал почувствовать, что Россия зашла слишком далеко в договоре 1768 года и что по приказаниям своего двора он примет самое живое участие в поддержании существенных прав господствующей в Польше религии, даже прибавил, что будет стараться о недопущении диссидентов в Постоянный совет. Делу о Постоянном совете помогла книга отца Канарского, содержавшая проект Постоянного совета, сходный с русским, только еще менее благоприятный для короля; мало того, автор привез письма князя Чарторыйского, канцлера литовского и стольника литовского, нынешнего короля, в которых проект был признан спасительным. Дело о Постоянном совете кончилось, но дела о границах и диссидентах перешли на 1775 год.
Первое дело вело к усиленным сношениям между Берлином, Веною и Петербургом. Старый друг России прусский король принимал самое живое участие в затруднительном положении ее в первой половине года: он очень огорчался казацким бунтом, но в этой печали утешением служила ему возможность настаивать, чтоб Россия поспешила заключить мир с Портою, уступив и относительно Крыма, и относительно плавания по Черному морю; другим утешением служила возможность приобрести от Польши лишние землицы. 4 января король писал Сольмсу: «Так как я друг России, то вы не можете сомневаться, что я очень опечален известиями о казацком бунте. Это искра, которую нужно погасить прежде, чем она произведет пожар. Это заставляет меня сильнее, чем когда-либо, желать для России заключения мира с турками. Скажите графу Панину, что если турки готовы сделать желанные предложения, то некстати заниматься мелочами; я думаю, что для России в эту минуту мир важнее всех завоеваний, какие она может сделать. Фон-Свитен возвратился из Вены с жалобами на русских, которые делают австрийцам препятствия относительно границ Галиции; венский двор, по его словам, твердо решился не отступаться от своих владений. Если же, – продолжал Фридрих, – австрийцам в Петербурге уступят, а мне будут делать затруднения, то, значит, русский двор лучше поступит с завистниками, чем с самыми верными союзниками. Мне кажется, было бы всего лучше, если бы петербургский двор подарил нам обоим эти землицы, которые нам обоим очень пригодны, а в сущности пустяки. А вот, наконец, новости из Франции: Дюран пишет о своих успехах; при русском дворе, говорит он, интерес государственный идет позади личных страстей. Ему хотелось уколоть четолюбие упреком, что Россия получает указы от короля прусского. Внутри России, по его словам, бунт, затруднения в сборе рекрут и дурные распоряжения относительно войны. Все это должно вести к затруднениям, которые заставят Россию обратиться к Франции». В следующем месяце Фридрих писал: «Я одобряю мудрые меры графа Панина, чтоб не возбуждать вражды Австрии, особенно в настоящих обстоятельствах. Но я не обещаю России больших выгод от ее любезностей: никогда они не доставят ей существенной дружбы венского двора. Я имею право предполагать в нем ту же зависть, какую питают Англия и Франция относительно русской торговли в Турции. Из этой зависти Франции так хочется поссорить три двора и овладеть посредничеством при заключении мира между Россиею и Турциею. Как бы то ни было, если Россия действительно желает поскорее заключить мир с Портою, то она имеет к тому средство без всякого посредничества. Стоит только ей смягчить условия относительно торговли и татар». В марте советы короля заключать скорее мир со смягчением условий становятся еще сильнее. Фридрих пишет, что от этого смягчения условий военная слава России не потерпит никакого ущерба, тогда как военное счастье непостоянно. Переход через Дунай – дело всегда чрезвычайно трудное. Надобно поскорее заключить мир, пока еще не испытали превратности военного счастья. Выгоды от независимости или подчинения татар не могут уравновесить риска, какому подвергается Россия при перемене счастья на Дунае или в Крыму. Король стонет при одной мысли об этом. Неудачи в Турции поведут к новым замешательствам в Польше, более опасным, чем прежде; и нельзя поручиться, что шведский король не воспользуется случаем для отнятия той части Финляндии, которая теперь за Россиею. Если Порта не предложит условий слишком невыносимых, то России лучше всего помириться. О превратностях военного счастья Фридрих говорил по собственному примеру.
В апреле Фридрих был сильно озабочен намерением Австрии обратиться прямо к польскому двору и от него получить согласие на увеличение своей доли, тогда как все это дело должно быть улажено между тремя дворами, которые одни должны заботиться о взаимном равновесии, а Польша тут ни при чем. Фридрих приказывал Сольмсу объявить Панину, что если Австрия добьется расширения своей доли, то он будет добиваться увеличения своей и надеется в этом случае получить помощь от двора, одинаково с ним заинтересованного в поддержании равновесия между Австриею и Пруссиею. В Петербурге хорошо знали, что поддержание этого равновесия может завести очень далеко, и потому с первого же года очень дурно приняли предложение Австрии перенести ее границу с Серета (или Подгурже, как он был назван в договоре) на Сбруч. Панин в разговоре с Лобковичем прямо высказался, что если австрийцы не откажутся от своих претензий, то не будет никакого основания требовать от прусского короля, чтоб и он не делал дальнейших захватов, и когда Лобкович вздумал было объяснить, что Австрия в данном случае имеет более права, чем Пруссия, то Панин заметил, что, наоборот, прусскую претензию на все течение реки Нетце можно еще как-нибудь вывесть из выражений договора, тогда как ссылка Австрии на недостаточность сведений, по которой явилась на карте какая-то неизвестная река, не имеет значения и не дает права распространять границы до таких местностей, о которых при заключении договора никто и не думал. Панин закончил разговор словами, что пусть прежде Австрия сговорится с Пруссиею и потом уже обратятся к России.
Австрия начала сговариваться с Пруссиею. Фридрих II был недоволен Петербургом и говорил фон-Свитену: «Это чистое крючкотворство с русской стороны, я нахожу ваши объявления основательными; я не принимаю никакого участия в затруднениях, какие вам делают, я вовсе не завидую вашей доле. Мне также делают крючкотворства, как и вам, из-за пустяков». Когда фон-Свитен заметил ему, что, смотря по тому, как в Петербурге смотрят на дело, Австрия и Пруссия должны согласиться не в том, чтоб увеличить свои владения, но только в том, как бы выгоднее определить границы, следовательно, кое-что и урезать из занятого, то Фридрих отвечал: «Надобно удержать за собою все, чем мы теперь владеем; надобно поддержать свое право». Тут же Фридрих высказал, почему он так решительно выражается, не обращая внимания на неудовольствие России: это государство находится в таком затруднительном положении, что не в состоянии помешать их делу; пугачевский бунт у Румянцева взял 15000 войска; народ страшно наскучил войною, рекрутские наборы затруднены.
Но Австрия была озабочена не одним сопротивлением России. Из Варшавы Ревицкий писал о новых захватах Фридриха II, говорили уже, что с Нетцы он перенес свою границу на Варту; следовательно, если положить основанием равновесие в долях, т. е. соперничество с прусским королем в захватах, то чем кончится дело? Австрия вовсе не хотела окончательного разрушения Польши, напротив, хотела приобрести в ней наибольшее влияние, значение покровительствующей державы, и поэтому она объявила прусскому королю, что надобно вести дело о границах вместе с поляками в делегации. Легко представить раздражение Фридриха; в депеше к Сольмсу он величал за это Кауница страшным человеком, самым гордым и в то же время величайшим мошенником между смертными.
Этот разрыв между Пруссиею и Австриею заставил обе державы отдельно хлопотать в Петербурге о своем деле. Но Екатерина не хотела изменить своего прежнего взгляда, требовала, чтоб границы были установлены согласно договору, именно так, как поступила Россия относительно Белоруссии. Так как Фридрих объявил, что он не уступит ни пяди из занятых им земель, если Австрия не откажется от своих претензий, то Панин снова принялся убеждать Лобковича к уступке, опять выставляя на вид, что если б не Австрия, то прусский король и не подумал бы занимать что-нибудь лишнее. Когда все увещания остались бесполезными. Екатерина решилась обратиться непосредственно к Фридриху, Иосифу и Марии-Терезии с увещаниями ограничиться землями, выговоренными в конвенции. Но как только Фридрих узнал о решении Екатерины писать к нему и государям австрийским, то немедленно послал за фон-Свитеном. «Если вы хотите уступить что-нибудь, – сказал он ему, – то прошу объявить мне, и я распоряжусь, со своей стороны, чтоб нам остаться всегда в соединении. Браницкий разгорячил головы в Петербурге; видите ли, интерес польского короля состоит в том, чтоб выиграть время в надежде, что, быть может, возникнут несогласия между тремя дворами. Все это его дело; он заставил Браницкого кричать там, преувеличил дело, требовал правосудия, покровительства императрицы, которая и далась в обман; но нам стоит только держаться вместе, и буря рассеется. Хотите знать мое мнение: не будем торопиться ответом на письма русской императрицы; движение там уляжется; я их (т. е. русских) знаю; первые впечатления очень сильны, но они исчезают со временем. Польский король выбрал Браницкого нарочно, зная, что его в Петербурге будут слушать и сама императрица допустит его к себе, ибо он был доверенным лицом ее и Станислава Понятовского, когда последний был в Петербурге при императрице Елисавете. Браницкий умел воспользоваться этими старыми отношениями и убедил императрицу, что ее слава требует заступиться за поляков, доведенных до отчаяния. Вследствие этого и написаны были к ним письма; но это еще не все, это только прелюдия; план Браницкого состоял в том, что, если после получения писем от русской императрицы вы не отступитесь от занятых вами земель, я вместе с Россиею должен обратиться к вам с увещаниями и, если вы и тут не согласитесь уступить, поляки созовут посполитое рушение и нападут на вас, а мы будем смотреть спокойно. Мне сообщили этот прекрасный план во всех подробностях; я не хотел отвечать на него серьезно и старался обратить в смех. Я дал почувствовать императрице, что мы будем играть роль польских Дон-Кихотов и что я вовсе не расположен к этой роли.
Но с пограничным делом надобно было спешить, а не затягивать его, не отвечая на русские требования уступок или отвечая таким образом: мы готовы уступить, если другие уступят». Скрепя сердце в Берлине и Вене должны были прийти к решению: потребовать от поляков признать претензии обоих дворов, а если поляки не согласятся, обратиться к России, чтоб решать вопрос всем трем державам вместе. Поляки объявили, что претензии Австрии и Пруссии не могут быть рассмотрены в Варшаве, непременно нужно отправить особые комиссии. Опять скрепя сердце надобно было и на это согласиться. Поляки имели свои выгоды медлить отправлением комиссаров, год проходил, а Фридрих в сердцах писал Сольмсу: «Признаюсь, я бы желал иметь средство убедить графа Панина в необходимости сделать полякам декларацию посильнее. До сих пор эти республиканцы выставляют тысячи затруднений в определении наших границ, и Австрия находит их комиссаров столь же непреклонными, как и я. Надобно полагать, что эта комиссия не будет иметь ни малейшего успеха, дело будет передано в делегацию и у нас будет еще много хлопот. Россия будет иметь ту же участь в диссидентском деле, и я очень сомневаюсь, что она достигнет своей цели без криков и шуму. Поляки по своей глупости думают, что венский двор и я сделаем все возможное, чтоб заставить Россию вывести свои войска из Польши. Австрийский министр отвечал на эту просьбу в общих выражениях, но Бенуа отлично отвечал, что так как дела далеки от окончания, то и нельзя думать, чтоб спокойствие было восстановлено в Польше, а его восстановление есть единственная цель пребывания в ней иностранных войск; следовательно, дело идет не о выходе русских войск, а о том, чтоб австрийские и прусские войска не вошли опять в Польшу вследствие медленности и недоброжелательства в переговорах. Поляки, – продолжал Фридрих, – не так сговорчивы, как, быть может, о них думают в Петербурге, и сейм никогда не кончится, если Россия на них не прикрикнет. Почти два года прошло с тех пор, как собрана делегация, и что сделано? Едва прошло дело о Постоянном совете. Вопросы о власти великого гетмана, о войске, о королевских выборах, о доходах, о диссидентах находятся в прежнем положении, и не думают о их решении. Если позволит делегация вести так дело, то пройдет еще несколько лет прежде, чем мы с ними покончим. Верно то, что ни я, ни Россия, ни венский двор не можем никогда положиться на поляков. Это народ легкомысленный и корыстолюбивый, лучшие резоны не производят над ними никакого впечатления, страх и деньги суть единственные пружины этой тяжелой массы».
Итак, надобно было обращаться к России, просить ее, чтоб прикрикнула на поляков, а на Россию прикрикнуть было нельзя после Кайнарджийского мира. Фридрих попробовал было внушить в Петербурге, что мир непрочен, что Пруссия снова может получить важное для России значение в делах турецких, но попытка не удалась. В начале октября Фридрих переслал в Петербург депешу Зегелина из Константинополя, в которой давалось знать, что Порта просит прусского короля употребить свои добрые услуги для смягчения условий Кучук-Кайнарджийского мира. Екатерина написала Панину: «Вы можете ответствовать заверно, что без новой войны нынешнего трактата ни единой строки не переменю, а лучше бы Порте оглянуться, что у ней делается в соседстве, нежели нас ябедою отвратить от истинного с нею согласия, которое я ненарушимо содержать намерена». Последние слова относились к занятию австрийцами земель в Молдавии, о котором Румянцев уже переписывался с Петерсоном. Мы видели, что кроме польских земель взять что-нибудь и у Турции было любимою мыслею Иосифа II. В начале 1774 года в Вене были в блаженном настроении духа: Россия, занятая на востоке Пугачевым, должна заключить самый невыгодный для себя мир с Портою, какого только могла желать Австрия. И вдруг страшное разочарование: Россия заключает мир самый выгодный, какого только могла желать! Негодование против турок было страшное. Кауниц говорил: «Турки вполне заслужили несчастие, которое их постигло, частик) своим слабым и глупым ведением войны, частию недостатком доверия к державам, которые, особенно Австрия, желали высвободить их из затруднительного положения. Зачем не потребовали они посредничества Австрии, Англии и Голландии? Каждая из этих держав помогла бы им получить выгоднейшие условия, и мы были бы все довольны. Но этот народ предназначен к погибели, и небольшое, но хорошее войско может, когда угодно, выгнать турок из Европы». Но если так легко выгнать турок из Европы, то еще легче отобрать у них какую-нибудь землицу; сами турки не в состоянии вести теперь новой войны; Россия не станет воевать из-за Турции; король прусский, принявший «Политический катехизис», не должен сердиться, что на основании этого акта позволяют себе небольшие приобретения, не беспокоя ДРУГ Друга уведомлениями; прусский король сам может взять себе где-нибудь что-нибудь, а, если возьмет слишком много, Австрия на основании равновесия прибавит к своей доле. Стоит только выбрать какую-нибудь землицу поудобнее, и выбрали Буковину, прилежащую к Трансильвании часть Молдавии, очень выгодную теперь по отношению к новым польским владениям Австрии. Буковина была занята австрийскими войсками; Турция не двигалась; в Петербурге положили ждать, что скажет король прусский, и вообще были очень довольны поступком австрийцев, что видно из письма Екатерины к кн. Репнину: «А сбывается часто по моему желанию; вот и цесарцы ссорятся с турками; готова об заклад биться, что первые биты будут, а я, руки упираючи в бока, как ферт, сидеть буду и на них погляжу, а в устах везде у меня будут слова: добрые официи». Оставалась Франция, всегдашняя заступница за турок, но Франции было теперь не до Буковины.
9 января приехал в Париж новый посланник, князь Иван Сергеевич Борятинский, а в апреле умер король Людовик XV, вследствие чего вышел в отставку герцог Эгильон и был заменен графом Верженем, вызванным из Стокгольма. Борятинский писал, будто новый король, Людовик XVI, рассуждая о системе герцога Шуазеля, говорил, что Франция издерживает много денег на субсидии и пенсионы понапрасну. «Какая мне нужда, – говорил король, – что Россия ведет войну с турками, а в Польше делаются конфедерации, и зачем давать субсидии Швеции и Дании? Я все эти лишние расходы сокращу». Известие о Кучук-Кайнарджийском мире произвело страшное впечатление, особенно в министерстве. «Невероятно, – писал Борятинский, – до какой степени простирается здесь зависть к нашим успехам. Находящиеся здесь поляки в великом горе. Австрийский посол очень мало оказывает мне откровенности, если что говорит, то в общих, с двойным смыслом выражениях».
При настоящем положении Франции Швеция не могла на нее много рассчитывать.
В мае месяце Остерман уехал из Стокгольма в Петербург, оставив ведение дел резиденту Стахиеву. В июле на придворном бале король подошел к Стахиеву и сказал, что этим летом он никак не может посетить императрицу, но непременно сделает это в будущем году, о чем никому заранее рассказывать не будет, давая этим знать, что в этом году исполнению его желания помешали другие люди. Король распространился о необходимости свидания с императрицею. «При личном свидании, – говорил он, – я в четверть часа могу сделать больше для утверждения взаимного благополучия обоих дворов, чем министериальною перепискою в продолжение целого года, особенно для уничтожения всяких недоразумений и подозрений, возбуждаемых недоброжелательными людьми и, быть может, некоторыми свойственниками. Горю желанием видеться с императрицею и при этом свидании однажды навсегда закрыть дорогу недоброжелательным внушениям. Мне известны наветы и наущения, которые по поводу последней здешней перемены делались в Петербурге на меня, а здесь мне – на петербургский двор. Я в одно ухо впускал, а из другого выпускал. А что касается самой этой перемены, то я решился на нее не прежде, как чины вознамерились согнать сенаторов с их стульев. Я должен отдать справедливость графу Остерману и вам, что вы прилагали всевозможное старание сдержать тогдашнее беспредельное своеволие в трех нижних чинах, но сдержать было иначе нельзя, как тем, что я сделал». По поводу Кучук-Кайнарджийского мира Стахиев писал: «Чем славнее и выгоднее для нашего двора этот мир, тем неприятнее он здешнему двору и его приверженцам, тем более что французский двор ласкал его надеждою помещения в трактате турецкой гарантии для здешней формы правления, что и было причиною, почему король отложил свое путешествие в Петербург: французский посол Вержен грозил королю, что если он поедет в Петербург, то этой гарантии не будет».
Как Екатерина понимала отношения России к европейским державам после заключения Кучук-Кайнарджийского мира, показывает следующий случай. Тотчас по получении известия о заключении мира в Ораниенбауме было собрание при дворе; где находились все иностранные министры. Императрица, садясь за карты и приглашая играть с собою министров датского и английского, сказала громко, чтоб все слышали: «Нынешний день для меня очень радостен, и я хочу видеть около себя только веселые лица».
ГЛАВА ВТОРАЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II АЛЕКСЕЕВНЫ
Внутреннее состояние России во время первой турецкой войны
С учреждением Совета Правительствующий сенат в действительности уступал ему первенствующее значение. Императрица, присутствуя очень часто в заседаниях Совета, не присутствует более в сенатских заседаниях, объявляя свою волю на письме или чрез генерал-прокурора. Так, по поводу наказания поручика Дубасова, убившего прикащика граф. Разумовской, состоялась собственноручная резолюция. «Заменя ему десятилетнее его содержание в тюрьме, освободить, а Сенату рассмотреть, по какой причине такого состояния дело толь долгое время решено не было, и впредь нашему Сенату непременным оком смотреть, чтоб дела правосудия требующие, толь долго без решения не оставались». Без малого через два года Сенат слушал собственный указ императрицы: «Сколь ни нужно для службы и самого порядка, чтоб по насылаемым из одного в другое гражданское правительство повелениям везде скорое и точное исполнение делано было, со всем тем, однако ж, ее и. в-ство из многих дел усматривает, что в некоторых присутственных местах сие столь худо и нерадиво наблюдается, что самые нужнейшие дела и учреждения остаются либо не в действии или не с тою скоростию и точностию исполняются, как служба и важность дела требуют. Посему ее и. в-ство и повелевает Сенату не только во все присутственные места о том наистрожайше подтвердить, но и самому за всеми подчиненными местами неослабно смотреть, чтоб везде по оному в самой точности наблюдаемо было; если же бы где паки оказалась какая по сему неисправность, с таковыми поступать без всякого послабления по самой точности законов; и дела таковые как весьма нужные судить без всякого отлагательства и уважения, потому наипаче, что никакое учреждение не может принесть ожидаемой пользы, покуда не будет в точности и в предписанное время исполняемо».
Но, несмотря на приказание Сенату смотреть «недреманным оком», в 1774 году видим окончание дела, начавшегося еще в 1765. Мы упоминали, что в этом году двое малороссиян, Золотаренко и Черный, показали, что во время ярмарки подожгли Луганскую станицу и сделали это по приказанию базарного старшины Волошенинова. После Золотаренко и Черный в военном суде с трех пыток и огня показали, что они ярмарки не зажигали и Волошениновым научены не были. Волошенинов ни в чем не винился. Юстиц-коллегия оправдала Волошенинова, Золотаренко и Черного в сожжении ярмарки; но так как Золотаренко оказался видимым мошенником, то приговорили бить его кнутом и сослать в Оренбург. Сенат не велел Золотаренка бить кнутом, потому что он терпел лишние пытки, а сослать только на вечное житье в Таганрог. Золотаренко и Черный объявили, что показали на Волошенинова, не стерпя побоев и мучений от купцов, которые их схватили на ярмарке. Относительно проволочки дел замечательное решение Екатерины дано было в 1769 году по поводу купца Попова. В марте месяце в Московскую тайную экспедицию привели из Камер-коллегии содержавшегося в ней под караулом московского купца Михаила Попова; содержался он вследствие доноса своего на коронного поверенного Хлебникова, что тот накладывает на вино лишние деньги; а в Тайную экспедицию привели Попова потому, что он, будучи под караулом, встал с места своего в азарте и говорил: «Нет правосудия в государыне». Екатерина дала резолюцию: «Неосторожные Попова слова уничтожить, а его отослать в Камер-коллегию с подтверждением о немедленном окончании его дела, дабы он видел, что есть правосудие».
Знаменательно для характеристики времени высказались взгляды екатерининского Сената по поводу следующих двух случаев. В 1771 году уфимский воевода Борисов донес оренбургскому губернатору, а тот Сенату, что в городе Уфе при соборной церкви слышан был многократно происходящий с высоты невидимо колокольный звон. Сенат приказали: как вышеписаный колокольный звон какую ни есть простую и натуральную причину имеет, то оренбургскому губернатору, выбрав какого-либо надежного человека, препоручить ему изыскать ту причину. Через год оренбургский губернатор донес, что для исследования причины звона послан был архитектурии прапорщик Гарезин, который, возвратясь, донес, что звон при нем днем и ночью слышан был неоднократно, только очень тихий. Заметив, что в тихую погоду в церковном куполе происходил шум, похожий на шум от пчелиного роя, Гарезин в присутствии местного протопопа велел проломать купол; при ломке отдавалось такое же эхо, и причиною явления оказался стоящий на главе железный с проволокою крест, по снятии которого как в церкви, так и в куполе ничего уже слышно не было. Сенат приказали: оренбургскому губернатору дать знать, что Пр. сенат еще из прежнего его рапорта заключил, что сие эхо не могло быть чрезвычайным каким-нибудь действием, так как воевода по легкомыслию и пустому суеверию к нему, губернатору, писал, но от простой и натуральной причины, да и изыскивать оную велел не для чего иного, как чтоб тамошний народ чрез то вывести из заблуждения, а потому Сенат и рекомендует впредь в таковых случаях быть в рассуждениях своих осмотрительнее.
В этом случае дело ограничилось распоряжениями светских властей. Но в 1769 году Синод дал знать Сенату, что епископ устюжский донес о появлении в Печорской волости, города Яренска, колдунов и волшебников из крестьян мужского и женского пола, которые не только отвращают других от правоверия, но и многих заражают разными болезнями посредством червей. Сенат приказали: так как обман их и колдовство состояли в умышлении на здоровье других людей, что и производилось на самом деле, то за такое преступление мужчин отдать в солдаты, оставя при них и жен их, а незамужних женщин и девиц отослать в Сибирь на поселение. Но прежде чем это решение достигло Яренска, колдуны были отправлены в Сенат как повинившиеся, что отреклись от веры и имели свидания с чертом, который приносил им червей, этими-то червями они и портили людей. В Сенате крестьяне показали, что они схвачены волостными сотскими по злобе на них кликуш, что в Яренской воеводской канцелярии в расспросах их не раз нещадно били и этими побоями принудили виниться в том, в чем они вовсе не виноваты. Тогда Сенат предписал архангельскому губернатору яренского воеводу и товарища его отрешить от должности, мнимых чародеев освободить и отпустить, дать знать об этом во все губернские, провинциальные и городовые канцелярии и в Синод сообщить ведение. В 1772 году Синод дал знать Сенату, что посланными к архиереям и прочим духовным особам указами запрещено им вступать в следственные дела о чародействах и волшебствах, ибо эти дела считаются подлежащими гражданскому суду.
Мы упоминали о свидетельстве императрицы Екатерины, что она не нашла в Сенате карты России. Осенью 1774 года, вероятно, вследствие пугачевского бунта генерал-прокурор предложил, что в Сенате нет верного известия о расстоянии мест от каждого города, как до других с ним соседственных, так губернских и провинциальных к ним ближайших, и чрез какие знатные места, урочища или селения дороги к тем городам идут, какие на тех дорогах реки и чрез них есть ли мосты или переправы. Приказали: послать во все канцелярии губернские, провинциальные и воеводские велеть означенные расписания прислать в Сенат.
Относительно жизни второстепенных учреждений в описываемое время замечателен следующий случай: президент Главного магистрата гр. Толстой и прокурор Сушков были отрешены от должностей за непорядочное баллотирование членов в московский магистрат.
В областном управлении по-прежнему особенной деятельностью отличался новгородский губернатор Сиверс. В 1769 году он прислал в Сенат ведомости о числе в его губернии рожденных, сочетавшихся браком и умерших за прошлый 1768 год. Приказали: приняв в известие, послать к нему указ, что Сенат толь похвальное и рачительное его должности своей исправление благоволительно приемлет и как желательно, чтоб и все господа губернаторы таковыми полезными сведениями Прав. сенат уведомляли, тем более что присланные от новгородского г. губернатора известия ясно доказывают, что сообщить о сем похвальном его, могущем служить средством к доставлению и от каждого о своей губернии таковых ведомостей поступке чрез г. генерал-прокурора. Но другого рода предписание Сенат должен был послать лифляндскому генерал-губернатору графу Брауну, который донес, что по силе манифеста 1766 года надобно выбирать голов и предводителей на два года. Лифляндского земства предводитель представил, что скоро минет этому двухлетний срок, на который он был выбран, и потому просил призвать земство для выбора нового предводителя. Земство надлежащим образом было созвано; но явился на выборы только один человек, да четверо отозвались письменно. «Из этого, – писал гр. Браун, – я заключаю, что лифляндское земство больше предводителя выбирать и особливый корпус составлять не хочет». Сенат приказал предписать генерал-губернатору, что, признавая такое отрицание лифляндского земства от выбора предводителя весьма предосудительным, он, Сенат, поручает ему вразумить на этот счет тамошнее земство и подтвердить ему самым строгим образом, чтоб теперь же непременно приступили к выбору нового предводителя; если же кто и после того явится ослушником, с тем поступить по всей строгости законов. Еще прежде по предложению генерал-прокурора Сенат предписал губернским канцеляриям рижской, ревельской и выборгской, чтоб находящиеся в них канцелярские служители старались приобрести совершенное знание русского языка и могли занимать высшие места предпочтительно пред теми, которые русского языка не знают, чего как государственное, так и собственное их благосостояние и польза требуют; в посылаемых Сенату представлениях о кандидатах на места должно именно означать, кто из них знает и кто не знает русского языка.
В описываемое время присоединена была к империи новая область – Белоруссия. Но при административном устройстве новоприобретенные земли разделены были на две половины и к одной из них присоединена часть от обширной Новгородской губернии; образованы были две губернии: первая названа Псковскою, а вторая – Могилевскою; Псковская разделена на 5 провинций, из которых две великороссийские – Псковская и Великолуцкая, а три присоединенные от Польши – Двинская, Полоцкая и Витебская; Могилевская губерния разделена на три провинции – Могилевскую, Оршанскую и Рогачевскую. Губернскими городами назначены: для Псковской – город Опочка, для Могилевской – Могилев; губернаторами определены генерал-майоры: в Псковскую – Кречетников, а в Могилевскую – Каховский; над обеими губерниями поставлен генерал-губернатором граф Захар Чернышев. Императрица, дав знать Сенату 10 сентября о присоединении к России некоторых польских земель, приказала представить мнение, где этим новоучрежденным губерниям состоять под апелляциями. В докладе Сенат признал нужным, чтоб с самого же начала, сколько возможно, уравнять жителей новоприсоединенных земель со старинными русскими подданными, дабы теперь же пресечь им повод к притязанию какого-либо особого права себе на будущее время в вечную привилегию, чем еще и теперь Лифляндия, Эстляндия и Финляндия в производстве дел причиняют некоторые затруднения. Поэтому Сенат считает полезным подчинить эти губернии относительно апелляции по судебным делам Юстиц-коллегии, а по вотчинным и земляным – Вотчинной коллегии, по другим же делам – тем учреждениям, в которых эти дела ведаются. Но так как личные тяжебные дела между жителями этих губерний производятся теперь по их праву, следовательно, и на их языке, то поэтому не угодно ли будет повелеть в Юстиц– и Вотчинной коллегиях учредить для этих губерний еще по одному департаменту и в них определить потребное число переводчиков польского языка.
Выбор правительственных лиц в новоприобретенные области не везде был удачен, как видно из донесения мстиславского прокурора Бабаева, который писал о немалых беспокойствах и несогласиях по Мстиславской провинции, так что нередко доходило и до смертоубийств. Из таких дел, вступивших в провинциальную канцелярию, ни одно до сих пор еще не решено, в чем от обывателей принесены жалобы на воеводу губернатору. Вследствие неприсутствия воеводы продолжительное время в канцелярии не только между обывателями, но и между канцелярскими служителями и штатною командою явилась распущенность, все пришло в расстройство, между обывателями происходят беспрестанные ссоры и драки, беднейшее шляхетство, вдовы и сироты разоряются и управы найти не могут. Воевода коллежский советник Лебедев сказывается всегда больным, очень редко бывает в канцелярии и производит некоторые дела на дому, но о них в канцелярии неизвестно; да и воеводский товарищ Роде по приезде своем в канцелярию уходит всякий день в дом к воеводе, а оттуда возвращается уже в такое время, когда из присутствия уже выходить должно. Помещица Парцевская из провинциальной канцелярии повелений не принимает и крестьянам повиноваться не велит; из посланных команд многим ее люди нанесли большие обиды и мучения, а солдата Квасова застрелили.
Во время тяжелой шестилетней войны внимание Сената должно было особенно обращаться на цели, указанные его основателем: бережливость в расходах, умножение доходов, снабжение войска людьми: «Денег как можно более сбирать, ибо деньги суть артериею войны». Мы видели, что вслед за объявлением войны турками учрежден был ассигнационный банк. Теневая сторона этого учреждения не замедлила обнаружиться. В июне 1771 года Н. И. Панин получил от императрицы записку, обличавшую большую тревогу; тревога обнаруживалась и в том, что на человека, заведовавшего воспитанием наследника престола и делами иностранными, возлагалось поручение, вовсе не соответствовавшее этим занятиям: «Извольте обще с генерал-прокурором и гр. Шуваловым (Андр. Петр., директором ассигнационного банка) входить во все подробности того приключения, которое сегодня сделалось в банке государственных ассигнаций в рассуждении двадцатипятирублевых бумаг, кои переделаны в семидесятипятирублевые, и что окажется, о том вы мне дадите знать; также положите на мере, как наискорее можно будет упредить, чтоб банковый кредит фальшивыми ассигнациями не был поврежден». На другой день новая записка: «Писал ко мне гр. Шувалов, что воры его сысканы и признались; только не пишет, у них сысканы ли готовые еще цедели, а только глухо пишет, что они до 5000 рублей выиграли или 90 нумеров испакостили своим манером». В 1772 году производилось дело о двоих братьях Пушкиных, из которых один ездил за границу и привез оттуда штемпеля и литеры для делания фальшивых ассигнаций, но был схвачен на границе. При учреждении банка было выпущено ассигнаций на миллион рублей, но в начале 1774 года Сенату дан был именной указ об обращении в империи не более как на 20 миллионов рублей ассигнаций с тем, что, когда взятая сумма выпущена будет из банков, тогда уже Сенату печатать вновь ассигнации единственно только на обмен присылаемых от банков ветшалых ассигнаций. Приказано: подтвердить всем присутственным местам, которые могут иметь какое-нибудь дело с банками, чтоб они крайне остерегались представлять обязательство и требовать отпуска ассигнаций, не имея действительно в сборе следуемой по тому наличной монеты в полном количестве, не полагаясь отнюдь на то, что эта монета в скором времени вступит. Старый банк для дворянства донес Сенату о злоупотреблениях, с которыми не имеет средств бороться: хотя, писал банк, всякая подлежащая строгость и осторожность к отвращению подлога в закладном имении употребляется, однако число преступников не только не уменьшается, но еще от времени до времени умножается, и потому просит, чтоб повелено было о всех фамилиях, сколько за кем мужеска пола душ и в каких уездах состоят, Камер-коллегии прислать именной список, к которому банк сделает алфавит и при выдаче денег будет справляться, подлинно ли закладываемое имение состоит за заимщиком, не продано ли и не заложено ли. Сенат сначала решил: предписать Камер-коллегии составить список, сообщить его в банк; но потом чрез несколько недель переменил свое решение и велел отвечать банку: так как эти ведомости без крайнего затруднения сочинены быть не могут, а указами уже предписано, какие при даче взаймы денег предосторожности банк наблюдать должен, то и поступать ему на основании предписанных указов.
В октябре 1769 года был опубликован указ во всенародное известие: «Настоящая ныне война с турками, умножая расходы противу того, как было в мирное время, требует, чтоб и доходы государственные по мере той надобности умножаемы были. И хотя при таком обстоятельстве нужда требовала бы в способствование общей обороны и безопасности наложить на народ особливую подать, однако ж ее и. в-ство, имея матернее о своем народе попечение, изыскивает способы, чтоб и при сих обстоятельствах, поелику возможно, не отягощать верноподданных ее общенародными налогами, но заменять оные возвышением таких государственных доходов, которые неотяготительны. Таков есть принадлежащий королю доход от питейной во всем государстве продажи». Вино велено продавать по три рубля ведро, на французскую водку прибавить пошлины по три рубля на анкер.
В 1769 году императрица поручила двоим известным дельцам, Волкову и Теплову, изыскать, какую подать на нынешнее военное время купечество и мещанство должны платить, причем составители проекта обязаны были держаться непременных правил: 1) чтоб всеобщая тягость была, сколько можно, уравнительнее в рассуждении всего государства; 2) чтоб не число душ, но состояние городов и их промыслов и торгов приняты были во внимание; 3) в числе купечества и мещанства и тех надобно разуметь, которые хотя и выключены из подушного оклада, но пользуются фабриками, заводами и другими мещанскими промыслами; 4) так как эта подать есть временная, а не всегдашняя, то смотреть, чтоб она соответствовала времени. Волков и Теплов нашли, что таких фабрик, на которых работа производится ткачеством, в 1769 году было 230; фабрик таких, на которых работа не ткачеством производится, 256; на первых 12771 стан, на вторых ежегодно обращается капитала 921534 рубля. Железных заводов 111, и на них ежегодно обращается капитала 1192540; медных заводов 48, и на них обращается капитала 780175. Число купечества с цеховыми – 228209. В докладе своем Волков и Теплов объяснили, что ими было принято правило: если нужда требует наложить новую подать, то принять в основание старую и по ней возвысить временную новую, ибо так делается во всем свете. Они нашли, что не будет отяготительно, если ежегодно платимые подати с фабрик и заводов будут удвоены; этим способом получится 287646 рублей. На том же основании уравняется и купечество, если на него к нынешнему сорокаалтынному окладу прибавится по полтора рубля на душу. Государственные крестьяне платят столько же, а именно по 2 рубля оброчных и по 70 копеек подушных. Правда, что бедный в мелких городах мещанин не имеет выгод государственного крестьянина, но правда и то, что только лень и нерадение причиною их бедности и что зажиточные мещане всегда большую часть бедных, как и теперь, будут оплачивать, тогда как крестьянин по большей части сам себя оплачивает. Всего мещанства, по последней переписи, 228209 душ, следовательно, временный налог принесет 342313 рублей. Этим способом казна каждый год в военное время получит нового дохода 629959 рублей. На основании этого доклада издан был указ о новой подати 30 октября того же года.
Но если должны были увеличивать налоги, то прежде всего должны были постараться добрать старые подати и отвратить явления, вредившие финансовым мерам. В начале 1769 года Сенат принужден был признаться, что хотя сбор подушных денег и взыскание доимки преимущественно возложены на попечение губернаторов, но, сколько со стороны комиссариата и Военной коллегии старания ни было и сколько Сенат ни посылал подтверждений, все осталось без действия: не только прежних лет доимка не выбрана, но и вновь от одного нерадения накопляется; так что комиссариат по 1768 год считает всей доимки 644000 рублей; к тому же и донесений комиссариат в свое время не получает, напротив, еще оказывается упрямство и ослушание, как то доказывает поступок Московской губернской канцелярии секретаря и канцелярских служителей, которые, будучи комиссариатом задержаны в канцелярии, осмелились отбивать часового, поставленного у дверей. Сенат приказал опять подтвердить губернаторам, чтоб старались взыскивать доимку. Разумеется, гораздо легче было взыскать казенные деньги с одного или нескольких известных лиц. Оказалось, что бывший казанский губернатор Квашнин-Самарин купил у сенатора графа Ив. Ларион. Воронцова в казну вино по превосходным ценам и в такое время, когда его вовсе не нужно было покупать, и оттого произошел казенный убыток на 31511 рублей. Для вознаграждения этого убытка взыскано с откупщика Шемякина 9675 рублей да определено еще взыскать с него же и с другого откупщика Белавина 5084 рубля, а остальные 16740 рублей взыскать с Квашнина-Самарина. Сенат приказал взыскать с Воронцова и Квашнина-Самарина. Жаловались на контрабанду, и гр. Миних подал императрице проект для ее прекращения: купцы в таможнях должны получать ярлыки за руками всех таможенных служителей, с прописанием звания и количества товаров и сколько к ящикам или тюкам приложится печатей, дабы никто из купцов в дороге, не доехав до учрежденного места, не отважился распечатать, вынуть и распродавать под страхом конфискации всех товаров. Когда купцы с товарами к назначенным городам приедут, то караулы должны проводить их прямо в главное местное правительство, где товары свидетельствуются и, если что найдется сверх ярлыка, конфискуется; если же все явится исправно, то купцам вольно продавать товары. Во всех пограничных городах и селах по церквам читать, чтоб разночинцы, а особливо крестьяне к поимке контрабандистов более приохочены были. Так как большая часть купцов с контрабандою надеются приобрести большие барыши в главнейших городах, особенно в Москве, то надобно учредить там контору ведомства Главной канцелярии над таможенными сборами, которую поручить одному верному человеку с хорошим жалованьем и потребным числом служителей: он должен всех приезжающих в Москву купцов осматривать и, найдя какие-нибудь таможенные беспорядки, давать знать канцелярии, по подозрению осматривать дома и лавки купцов, у которых предполагается контрабанда. Императрица передала проект на рассмотрение Сената, который представил, что при уничтожении внутренних таможен и переносе пошлин к гаваням и пограничным таможням предполагалось менее миллиона рублей сбора, а вышло более миллиона, иногда получается полтора миллиона, почему Сенат и не видит прямой надобности отменять такое учреждение, которое до сих пор, принося казне немалую прибыль, приносит и купечеству большую пользу, доставляя свободное и безостановочное обращение. Свидетельство по ярлыкам товаров у тех, на кого никакого подозрения нет, будет весьма несправедливо и для купечества тягостно: купечеству нельзя будет избегнуть привязок и такого же разорения, какое во время внутренних таможен было. Крестьянство от частого напоминания в церквах поощрено будет к свободному грабежу товаров под именем сохранения казенного дохода. Сенат не утверждает, чтоб на границах не происходило упущения пошлин: и прежде это замечалось, а теперь в Боевской пограничной таможне открылось прямое воровство директора и других управителей; но Сенат причины тому полагает следующие: 1) слишком большое число таможен, причем купец может ехать в какую ему угодно, где имеет надежду на послабление в пошлинах; 2) служащие при таможнях назначаются из разного рода людей сомнительной нравственности; 3) таможни стоят очень низко между учреждениями, и чиновники в них не могут служить из одного честолюбия и усердия к отечеству. Потому Сенат полагает: давать на границах и в гаванях ярлыки купцам только для того, чтоб в случае доноса можно было купцу оправдаться; уменьшить количество таможен; определить в них чиновных людей, заслуженных и честных, дать им хорошее жалованье.
В 1769 году государственный доход простирался до 16996902 рублей, причем в недоимке осталось 983856. В 1773 году доход простирался уже до 23611300 рублей, причем из доимок вступило 2835823, осталось в недоимке прошлых лет 4544017 рублей, а от того же 1773 года – 4302102. В 1774 году по окончании турецкой войны генерал-прокурор объявил Сенату, что императрица приказала рассмотреть о государственных доходах, нет ли между ними тягостных, которые следует сложить. Сенат, рассмотревши, решил: 1) сложить все подати, которые наложены для бывшей турецкой войны, как-то: контрибуции в Лифляндии, с купцов прибавочные подушные, также с фабрик и заводов; 2) сложить некоторые собираемые по местам подати (с стругового и лодочного караула, красильного промысла, с харчевен, с камней, с полков, с кузниц, постоялых дворов, бритовных изб и проч.); 3) с выдаваемых купечеству и крестьянству паспортов сбирать половину. По этому решению убывало пошлин на 807683 рубля.
Кроме денег война требовала усиленной поставки рекрут. Мы видели, что немедленно же было сделано распоряжение о взятии в военную службу священно– и церковнослужительских детей, живущих праздно при отцах и родственниках. Мера эта вызвала многочисленные жалобы на неправильности, вследствие чего один архиерей (тамбовский) лишился епархии; вскрылись странности вроде следующей: в Москве при разборе священно– и церковнослужительских детей кремлевских ружных осьми церквей, состоящих в ведомстве мастерской и оружейной конторы, оказались сверх штата многие Церковнослужители, не только в это звание не произведенные архиереем, но и не имеющие письменных видов ни от какого Духовного правительства; они были церковнослужителями на основании указов, данных им из мастерской и оружейной конторы за подписью присутствующих в ней. Сенат приказал: всех этих дьячков и пономарей, состоявших сверх штата, записать в военную службу, а мастерской и оружейной конторе предписать, чтоб они впредь сами собою в означенные церкви служителей не определяли, но, выбрав достойных, представляли архиерею.
По другим отношениям к церковному правительству Сенат находился в затруднительном положении по делам раскольничьим. С одной стороны, правительство высказывало терпимость и предписывало кроткие меры: раскольникам возвращались гражданские права, например позволено было допускать их к присяге и свидетельству по делам судным; правительство не желало употребления внешних принудительных средств, но внутренних средств не было, ибо рассылка по церквам и монастырям книжки «Раскольникам увещания» не могла заменить живых устных увещаний, разумной и горячей проповеди со стороны православного духовенства, а между тем раскол почувствовал ослабление внешних средств и начал действовать смелее. Синод дал знать Сенату, что в 1765 году из заграничной слободы Ветки раскольниками вывезена церковь и поставлена близ раскольничьих слобод Климовой и Митковки; в этой церкви совершается служба по старопечатным книгам: в недавнем времени в принадлежащей к слободе Злынке местности близ реки Ипути, в лесу, в урочище Малийном Острове, построена небольшая церковь и служба отправляется. А сверх того, по справке в Синоде оказалось, что еще имеются построенные раскольниками часовни: одна недалеко от Саратова, за Волгою, по реке Иргызу, при которой и колокола медные имеются; другая в крепости св. Елисаветы в пригородной слободе; третья Царевосанчурского заказа в дворцовой Устинской волости, в починке Ларионова; в этих часовнях раскольники для моленья публично во множестве собираются да и правоверных христиан от церквей божьих отлучают. Сенат решил поднести императрице доклад, что Сенат согласен со св. Синодом относительно уничтожения означенных церквей и часовен, чтоб от них правоверным смущения и развращения последовать не могло.
Но являлись секты, которые не строили церквей и часовен. По поводу появления скопческой ереси в половине 1772 года императрица дала полковнику Волкову любопытный указ: «Слух носится, будто бы в Орловском уезде оказался новый род некоторой ереси и будто бы действительно в орловское духовное правление привелено уже несколько человек из крестьян разных помещиков, в той ереси найденных. В таковых случаях ничего нужнее не бывает, как, с одной стороны, утушение в самом начале подобных безрассудных глупостей, а с другой – сохранение и безопасность множества людей от прицепок и забираний в каком ни есть нижнем судебном месте, паче же от всяких иногда невинным людям быть могущих привязок и притеснений. В рассуждении сего повелели мы вас отправить в город Орел, где имеете наперед у тамошнего воеводы и в духовном правлении наведаться, действительно ли состоит там таковое дело и где оно производится. Если найдете, что подобное следствие начато, то имеете истребовать к себе сие дело и всех людей, кои доныне приведены; получая же о всем полное сведение, должны вы обще с тамошним воеводою и его товарищем изыскать прежде всего, кто сей вредной ереси зачинщик и кто ее над другими в действо производил; буде доныне сии люди не сысканы, то велите их сыскать немедленно. Всех же в сем деле участвующих вины разделить на три класса: 1) начинщик или начинщики и те, кои других изуродовали; 2) те, кои, быв уговорены, других на то приводили; 3) тех простяков, кои, быв уговорены, слепо повиновались безумству наставников; о тех же, кои по сю пору не забраны, стараться и вам должно, узнав их имена и жилища, без крайней надобности их не забирать, а единственно дать знать под рукою их начальникам, чтоб за ними имели бденное смотрение, дабы воздержаны были от всяких иногда неистовств. По окончании следствия с первыми имеете поступить как с возмутителями общего покоя, т. е. высечь кнутом в тех жилищах, где они проповеди свои производили и где более людей уговаривали, и потом сошлите их в Нерчинск вечно; вторых велите высечь батожьем и сошлите в фортификационную работу в Ригу, а третьих разошлите на прежние их жилища. Мы за нужное находим здесь прибавить, чтобы вы при следствии поступили для изыскания правды без всякого истязания и самым кротчайшим образом, и что если найдете, что забраны невинные люди, то старайтесь оных наискорее отпустить безвредно в их жилища; чем же скорее и без дальной огласки сие дело исследовано и окончено будет, тем по существу сего рода дел полезнее быть может, ибо, чем менее к нему от правительства окажется уважения, тем менее утвердится безумство таковое в несмысленных умах и, следовательно, тем скорее исчезнет привлеченная к нему мысль людская. Не меньше же находим мы за нужное вам прибавить, чтобы вы сие дело трактовали как обыкновенное гражданское, а отнюдь не инако и для того и в разделении вин вам стараться, чтобы наказаны были гражданские преступления».
Несмотря на это объявление скопчества как дела гражданского, а не церковного, церковь должна была заняться им, когда жены двенадцати оскопленных крестьян, возвращенных помещику, подали просьбу о позволении вступить им во второй брак. Синод решил, что эти женщины как ни в чем не виновные имеют право отвергнуть от себя супругов, которые браком возгнушались и тем уничтожили благословение церкви, данное им на супружество. Позволив женам скопцов вступать в новый брак, относительно самих скопцов Синод постановил: семь лет не допускать их до св. причащения, кроме смертного случая, а исповедоваться им дважды в год.
В 1769 году несколько раскольнических учителей были сосланы в Азовскую и Таганрогскую крепости для определения в военную службу, причем Военной коллегии было предписано иметь за ними наикрепчайшее наблюдение, чтоб они между собою никакого сообщения не имели и прелести своей не рассевали. Но предписание не исполнялось. Воронежский губернатор донес Сенату, что один из таких сосланных, солдат Степан Кузнецов, часто отлучаясь от своей команды на прежнее свое место жительства, в Воронеж, распространял в этом городе раскол; особенно усердными его ученицами явились женщины, из которых две крестьянки, Варвара Ефимова и дочь сержанта Овчинникова девица Акулина, торжественно на площади проповедовали народу о необходимости двуперстного сложения. У раскольников нашли четыре псалма, которые они пели в своих собраниях, причем Акулина Овчинникова и мать ее Мавра показали, что петь эти псалмы научил их бог. Сенат наикрепчайше подтвердил, чтоб сосланные в крепости за отступление от благочестия отнюдь не были отпускаемы на прежние жилища, но прибавил распоряжение: из всех вступивших теперь о раскольниках в Сенат дел, сочиня экстракт, отослать в св. Синод на его примечание, с тем чтоб благоволил духовным властям дать наставление: при случае производства следствий о каких-нибудь суевериях подлежащие духовному суду люди требованы были в консисторию со всевозможным осмотрением и осторожностью, чтоб как-нибудь и таким, которые к суевериям непричастны, не могло быть причинено ни малейшего притеснения и чрез то «не произвесгь бы существительного вида инквизиции». Мы видели, что Синод указывал на построение раскольниками часовни с колоколами на реке Иргизе. Узнали, что на обеих реках Иргизах образовались раскольничьи скиты, служащие убежищем для беглых, вследствие чего Сенат предписал казанскому губернатору Бранту отправить туда команду и осмотреть все скиты вдруг, чтоб раскольники не могли укрыться из одного скита в другой; этим способом в них найдено беглых разного звания мужчин и женщин 44 человека.
Такого же рода щекотливые отношения продолжались по делам магометан. Синод жаловался, что в Казани вопреки прежним указам построены мечети подле православных церквей и что прежний губернатор Квашнин-Самарин, с позволения которого это сделано, объявил о получении им на это устного указа от императрицы. На доклад Сената об этом Екатерина велела отвечать: «Как всевышний бог на земле терпит все веры, языки и исповедания, то и она из тех же правил, сходствуя его святой воле, и в сем поступает, желая только, чтоб между подданными ее всегда любовь и согласие царствовали; а впрочем, ее в-ство приказать соизволили Сенату объявить, что бывший губернатор Квашнин-Самарин дозволение строить каменные мечети сделал в сходственность данного большого наказа 494, 495 и 496-й статей». Месяца через два Синод дал знать Сенату, что магометане, приезжая в Барабинскую степь, обращают в свою веру обращенных недавно в христианство идолопоклонников, и хотя сибирский губернатор въезд туда татарам и бухарцам запретил, однако все же происходят от них разные обольщения: так, разглашают, будто бы из Сената прислан указ, которым позволено им и мечети там строить, отчего новокрещенные, пришедши в соблазн, перестали ходить в церковь, особенно же к исповеди и причастию. Сенат приказал: тобольскому губернатору предписать, чтоб он не запрещал магометанам совершенно въезда к новокрещенным, ибо они могут приезжать для торговли, а приказал бы только накрепко смотреть, чтоб они не совращали новокрещен в свою веру. Что же касается наказания кнутом совратившихся из христианства, то от него совсем удержаться и стараться приводить их в благочестие посредством духовных лиц одним увещанием и ласкою, а не наказанием. Что же касается разглашения, будто бы дозволено строить мечети, даже и каменные, то губернатор должен их уверить, что это разглашение неосновательно.