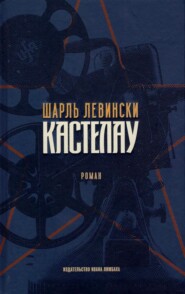По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воля народа
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Препятствие, да, это было препятствие, табличка с названием улицы, и как бы ему вспомнить, что на ней было написано…
Альте Ландштрассе.
Нет ничего удивительного в том, что событие дня преследует тебя и во сне. Сперва странное поведение Дерендингера, потом его смерть, а ему ещё и некролог писать, тысячу знаков. «Не очень важный человек», сказал тот нахалёнок. Притом что Дерендингер был как раз величина. Но обычный смертельный случай, не важно, как это произошло, не повод для броского заголовка, не то что рухнувший самолёт или смачное убийство.
Убийство.
Он не мог бы объяснить, какой механизм сработал в его голове, но внезапно все части сами собой встали на место. Всё это время мысль его шла по ложному следу, он рылся не в том ящичке; так бывает, когда встретишь на улице человека, про которого точно знаешь, что он тебе знаком, но не можешь вспомнить, откуда. Мысленно перебираешь картотеку коллег, а потом оказывается, что это школьный товарищ, с которым не виделись после выпуска, или аптекарь, у которого всегда покупаешь таблетки от головной боли, не важно, человек из совсем другого отделения твоей жизни. Но это произошло с ним только потому, что Дерендингер говорил о шахматной партии, а к шахматам это не имело отношения.
Цолликон, Альте Ландштрассе, это был адрес, где тогда совершилось убийство Моросани, с первого же дня историю так и называли, тут сочинителю заголовков не пришлось ломать голову, обозначение само напрашивалось из-за аллитерации Morosani-Mord. M & M. Когда же это было? Лет двадцать тому назад? Больше тридцати. Ты постарел. Столько всего изменилось с того времени.
В редакции тогда так и говорили: Мо-Мо. Момо, как у Михаэля Энде.
Если для Дерендингера в этом и заключалось всё дело, почему он не сказал напрямую? Старческое слабоумие? Или у него была причина говорить обиняками? Маскировка? Может, он говорил про шахматную партию, потому что в той обстановке это меньше бросалось в глаза? Но отчего Дерендингеру приходилось маскироваться? От кого?
«Сто вопросов не продвинут тебя вперёд, – гласит старое журналистское правило. – А единственный ответ продвинет».
Итак, по порядку. Если Дерендингер действительно имел в виду убийство Моросани, если просто принять это в качестве гипотезы, что ещё из этой истории он упомянул?
Самого Вернера Моросани, естественно. Президента-основателя партии конфедеративных демократов, государственного советника и успешного бизнесмена. Торговля сырьём. Мог себе позволить жить по одному из самых дорогих адресов страны, на одной из улиц золотого побережья, которые на первый взгляд даже не бросались в глаза, выглядели чуть ли не мелкобуржуазными, но лишь потому, что резиденции, которые прятались в обрамлении этих улиц, были повёрнуты к ним скромными боковыми флигелями, а роскошное основное здание и парк были деликатно скрыты за живой изгородью. Кто в Швейцарии показывает, чем он владеет, тот не настоящий богач. Моросани вывел на позднюю вечернюю прогулку свою собаку, далматинца, странно, что по прошествии стольких лет помнишь такие детали. Неподалёку от дома его сразил выстрел, всего один, прямо в грудь, и Моросани тотчас упал замертво. Никто не среагировал сразу, его соседи приняли выстрел за хлопок в зажигании двигателя, и только после того, как собачий лай никак не прекращался, кто-то вышел из своего дома с намерением поругаться из-за нарушения ночной тишины, он-то и обнаружил на тротуаре труп Моросани, труп и собаку, которая стояла над ним – над ним, а не рядом, тоже деталь, которая тогда впечаталась в память. История многократно пересказывалась, в газетах, по телевидению, а потом вслед за этим и в предвыборной пропаганде. Вайлеман даже помнил плакат с лужей крови, не оригинальное фото с места преступления, естественно, а постановочное, но своё действие оно возымело.
Убийца был эритреец, соискатель статуса беженца с уже полученным отказом, справедливым отказом, как потом оказалось, сугубо экономический беженец, которому на родине вообще ничто не угрожало. Уже было готово распоряжение о его выдворении из страны, в этом и предполагался мотив убийства: месть конфедеративным демократам, которые всегда выступали за ужесточение политики в отношении беженцев. То, что пострадал именно Моросани, было опять же почти иронией, поскольку внутри партии он в то время подвергался критике за свою чересчур либеральную позицию в вопросе иностранцев, ходили даже слухи о подготовке мятежа против него на очередном съезде. Как же звали того эритрейца? Вайлеман не мог вспомнить фамилию, помнил лишь, что имя носило какое-то смысловое значение, как, например, Феликс означает «счастливый», а сам он, Курт – «смелый».
Полиция явилась на место преступления большим нарядом, не то что вчера к Дерендингеру. Хотя в то время конфедеративные демократы ещё не имели такого веса, как сегодня, Моро-сани был важным человеком. Преступник пытался скрыться и на бегу открыл огонь по служивым и был тотчас застрелен. Поэтому судебного процесса не понадобилось, факты были ясны, в кармане преступника было найдено орудие убийства. Правда, другой соискатель статуса беженца позднее дал показания, что убийца якобы рассказывал ему: мол, какой-то незнакомец вызвал его в Цолликон – и он не знал, с какой целью. Может, речь шла о помощи с его заявкой на статус беженца, но в эту историю никто не верил, разумеется, слишком однозначным был отказ в ходатайстве и распоряжение о выдворении из страны. «Документально подтверждённый преступник», так это называлось у конфедеративных демократов, рекламно-технически правильно подобранное слово, потому что, с одной стороны, оно не было лживым, а с другой стороны, внушало, что у преступника длинный список судимостей, и он всегда был злонамеренным. Как же его звали, того эритрейца?
В каком-то из наносных слоёв газетных вырезок на его письменном столе наверняка отыскалась бы статья на эту тему, но когда ответ требовался срочно, интернет всё-таки был сподручнее.
Бисрат Хабеша его звали.
Вайлеман уже давно встал, повелев кроватному механизму катапультировать себя, и теперь сидел в пижаме за письменным столом.
Бисрат Хабеша. В тот момент, когда он увидел это имя на экране компьютера, всё воспоминание целиком восстановилось, ведь конфедеративные демократы тогда громогласно трубили о случившемся, на всех плакатах и во всех газетах. Имя Бисрат означало «благую весть», тоже ирония, поскольку в избирательной рекламе они использовали его как символ всяческого зла, угрозы Швейцарии, исходящей от нежелательных мигрантов, от людей, которые и не думали придерживаться наших законов и не останавливались даже перед убийством. Панихида по Моросани в переполненном Гросмюнстере превратилась в демонстрацию на эту тему, получился не столько поминальный обряд, сколько партийное мероприятие. Компьютер выдал множество картинок, венки из красных и белых цветов, и гроб, покрытый флагом Швейцарии. Воля тогда держал основную речь, очень эмоциональную, с трудом доведя её до конца, потому что его то и дело душили слёзы. Воля тогда был перспективным политиком, питомцем Моросани, и вот теперь он сам лежал тяжело больной в университетской больнице, и только аппараты поддерживали его жизнь.
Возникла неприятная мысль, что Воля сейчас такой же старый, как и сам Вайлеман.
Конфедеративные демократы тогда одержали победу на выборах, не только из-за убийства Моросани, но и из-за него тоже. То есть тогда был не просто криминальный случай, а нечто большее, гораздо большее, можно сказать: то был момент, когда в Швейцарии окончательно изменилось настроение. И Воля тогда очень скоро стал президентом партии, впоследствии пожизненным. «Воля народа». Этот оборот им не пришлось внедрять в массы, настолько он был естественным.
Если Дерендингер имел в виду эту старую историю – а он не мог иметь в виду ничто другое, иначе не говорил бы про «Цолликон», «Альте Ландштрассе» и что «Это было во всех газетах», – если дело действительно было в убийстве Моро-сани, тогда, может, это и было той большой историей, о работе над которой он говорил на встрече ветеранов. Тогда ему никто по-настоящему не поверил, но всё было возможно: может, Дерендингер, вопреки всему, что уже было об этом написано, открыл ещё одну деталь – может, о прошлом того Хабеши, или…
Или он просто впал в старческое слабоумие. Поиски Вайлемана в интернете показали, что Дерендингер получил свою первую журналистскую премию за материалы как раз об этом случае, так что было вполне возможно, что в своей путаной стариковской голове он переместился в то счастливое время; в мечты о том, как ещё раз в качестве выдающегося репортёра осуществить большой замысел, воображал себе геройскую историю, в которой сам играл главную роль. Это объяснило бы весь тот обезьяний театр, который он устроил вчера, со «встретимся на Линденхофе», и сделал вид, будто стал теперь папой римским в шахматах, вся эта деланная таинственность. В триллерах про шпионов, где тайные агенты опознавались всегда по абсурдным фразам, они всегда возвещали такие же прорицания оракула, «чёрным был мат, ещё до первого хода белых», ведь в этом действительно не было никакого смысла.
Это не содержало смысла. Автоматический голос корректора в его мозгу не успокоится, пожалуй, и на смертном одре. «Последний вздох» – всего лишь штамп, так он наверняка подумает в тот самый момент, когда будет этот последний вздох делать.
Но не важно, как это сформулировать: логически следовало принять, что устами Дерендингера вещал неумолимый Алоиз. Бритва Оккама: брать простые гипотезы, а не сложные. Дерендингер, должно быть, вспомнил о своём журналистском триумфе, а остальное дофантазировал. Прежде всего потому, что он называл какого-то Лойхли, который в его фантазиях играл, должно быть, важную роль, но это имя в связи с убийством Моросани нигде не всплывало, абсолютно нигде, а ведь Гугл его бы совершенно определённо выдал, даже если бы он был всего лишь ветеринаром далматинца Моросани. Запрос Лойхли И Моросани не дал ни одного результата.
Нет, не было никакого смысла в том, чтобы Вайлеман среди ночи бился над фантазиями слабоумного старика, не было смысла даже с учётом его несчастного случая со смертельным исходом; ничего, кроме простуды, он себе этим не наживёт. Лучше бы ему снова вернуться в постель, хотя он – судя по опыту – пролежит теперь несколько часов без сна; голову не так просто переключить в режим сна, как компьютер. А не поможет ли ему заснуть ещё один стаканчик кальвадоса из Тургау? Лучше нет, у него и так уже пересохло во рту.
Часы на церковной башне пробили четыре. Странно, как иногда развиваются события то в одну сторону, то в другую: сперва ночные звуки были запрещены в больших городах, потому что жители жаловались на нарушение покоя, а теперь они не только снова были разрешены, но даже предписывались: ради соблюдения традиций. Вайлеман потом ещё прослушал, как часы отбивали четверть пятого, половину пятого и без четверти пять, и когда на следующее утро он проснулся, совершенно не отдохнувший, его голова так и не ответила на один-единственный вопрос: не важно, был ли, не был ли Дерендингер свихнувшимся, но вот как ему удалось рухнуть с Линденхофа вниз так, что этого никто не заметил?
6
Производственная экскурсия в доме престарелых, вот как это выглядело, жалкая кучка отставных журналистов, собравшаяся на панихиду по Дерендингеру. Будь крематорий совсем рядом с кладбищем Нордхайм, прямо там бы и встречались и сообща могли бы ждать, когда дойдёт очередь до тебя. Долго ждать уже никому не придётся, думал Вайлеман, сам он был ещё самый живой из всех, но так, наверное, думал про себя каждый. Здоровались с обычными любезностями, и каждый из коллег, знавших его, поздравлял его с некрологом, который всё-таки был опубликован, хотя и на день позже, чем было запланировано. Комплименты подтверждали две вещи: первое, что все они были никудышными журналистами, потому что никто не заметил, что в истории самоубийства Дерендингера многое не сходится. И второе: их льстивые речи показывали, что притворщики не вымрут никогда. Некролог не был хорошим текстом, да и чего можно ждать от тысячи знаков? Разговоры велись тихо, как будто не хотели нарушить покой мёртвых, следовавших здесь один за другим с интервалом в один час. Вайлеману бросилось в глаза, что все, кроме него, прикололи себе значки с гербом своего кантона; Пфеннингер, которого он знал ещё по работе в Тагес Анцайгер, носил, невзирая на свою немецко-швейцарскую фамилию, герб Тессина. На самом деле сказать друг другу им было нечего, и разговоры скоро заглохли. И все сидели молчком, первые два ряда стульев оставались незанятыми, и только двое стариков уселись рядом, остальные оставляли между собой одно-два пустых места, можно было подумать, что старческие недуги заразны. «Старческим недугам» можно было дать и другое определение, думал Вайлеман, и назвать их «старческими литаниями».
Это называлось «панихида в зале 2», но в обозначении «зал» для помещения, в котором они собрались, просматривалась мания величия, оно было не больше школьного класса. Декор был выдержан в компромиссном стиле, а вернее сказать, ни рыба ни мясо, поправил его встроенный детектор дерьма, ни традиции, ни модерна. Видимо, сказали архитекторам, что всё должно иметь христианский вид, но быть при этом религиозно-нейтральным, и тогда им пришло в голову решение – витраж с мотивом солнца, который в плохую погоду казался не столь утешительным, как это было задумано. Почему, собственно, на похоронах так часто бывает дождливо, причём не только в телевизионных фильмах, там-то разумеется, но и в действительности? Передняя часть помещения была отгорожена барьером, и за ним, немного смещённая в сторону, стояла странно закруглённая трибуна, похожая на кафедру, которая решила отлучиться от церкви.
Они ждали не так уж долго, но в таких ситуациях и пять минут кажутся вечностью. Наконец дверь позади трибуны открылась, и вошёл мужчина в тёмном костюме, в своей торжественной обыкновенности, казалось, спроектированный теми же архитекторами, что и вся обстановка: поп в гражданском. С тех пор, как началась нехватка пополнения священнослужителей, город стал поставлять для панихид этих людей, так же, как власти предоставляют человеку водителя с катафалком. «Поминальный ведущий» – так это называется у них в ЗАГСе. В течение нескольких лет церковные общины возмещали нехватку пополнения импортными священнослужителями, индийцами или африканцами, но это не годилось, герб кантона на лацкане стал важнее духовной семинарии.
Служащий встал за пульт и что-то там искал – Вайлеману с его места не было видно, что именно, – потом достал из кармана бумажку и смотрел в неё – должно быть, у него был записан порядок действий. Потом он склонился над пультом так низко, что стала видна его круглая лысина. Наконец он нашёл искомое и что-то включил. Послышалось металлическое дребезжанье, как от неисправного механизма, стрёкот, который становился всё громче, пока мужчина наконец не отыскал другой выключатель, и скрипичная сюита Баха перекрыла шум. В полу рядом с кафедрой раскрылась створка, и гроб на некой каталке поднялся вверх, с небольшим рывком остановился, на покрывале одинокий, не слишком пышный букет цветов с сине-белой лентой. В последние годы Вайлеман принимал участие во многих похоронах коллег и сразу опознал её: то был нормированный последний привет цюрихского объединения прессы. В стареющем составе членов уже давно недоставало средств на венки.
Мужчина за кафедрой хотел приглушить музыку, но сделал это так неловко, что мелодия резко оборвалась посреди каденции.
– Извините, – сказал он, и его голос с лёгкой реверберацией донёсся из громкоговорителей, – прошу прощения. Я тут на подмене. Так-то я на регистрации браков.
В это мгновение позади всех сидящих открылась дверь, через которую они вошли сюда, и все присутствующие как по команде обернулись к вошедшей, которая совсем не подходила к остальному сообществу скорбящих. «Сообщество скорбящих» – не то слово, поправил Вайлеман свои мысли, это было не сообщество, да и особенно скорбящим никто не выглядел, вид был скорее усталым. Женщина – лет тридцати, на его взгляд, но, может, и старше – ничуть не смутилась всеобщим вниманием, даже не приняла его к сведению. Она прошла по короткому проходу между рядами стульев так самоуверенно, как кинозвезда прошла бы сквозь заполненный ресторан к заказанному столику, не замечая перешёптывания и взглядов со всех сторон. Рыжие волосы. Она на ходу сняла плащ, под которым оказалась юбка, коротковатая для такого повода, но, возможно, теперь так носят, Вайлеман в этом не разбирался. Когда она проходила мимо его ряда – он на таких мероприятиях старался сесть подальше, оттуда лучше наблюдать за происходящим, – ему показалось, что на него пахнуло облаком тяжёлого парфюма. Пачули, пронеслось у него в голове, хотя он не знал ни что это такое, ни как это пахнет. Женщина села в самом первом ряду и кивнула ведущему, как будто в её задачу входило подать ему сигнал к началу.
Родственница? Может, племянница. В таком случае надо будет выразить ей соболезнование.
Мужчина из ЗАГСа держал слишком длинную речь, всё время улыбаясь – видимо, по привычке, как на церемонии бракосочетания. Вайлеман коротал время тем, что предугадывал следующий штамп и давал себе балл за каждое попадание. Было тут, разумеется, и «незабвенный», и «будет жить в наших сердцах». Особенно смешно было то, что ведущий, так многословно превознося Дерендингера, постоянно забывал его фамилию и заглядывал в бумажку. В заключение, видимо, по привычке процедуры бракосочетаний, он прочёл стихотворение, в котором «вместе надо жизнь пройти» рифмовалось со «смех и слёзы на пути», да и в остальном эти стихотворные стопы спотыкались. Наконец всё это осталось позади.
Мужчина ещё раз нагнулся над пультом и на сей раз попал на нужные кнопки. На фронтальной стене две половинки двери разъехались в стороны, освободив проход, через который гроб медленно выехал наружу по утопленным в пол рельсам, навстречу сожжению, под звучание Канона ре-мажор Пахельбеля, только в фортепьянном исполнении, как видно, остальные инструменты пали жертвой мер городской экономии. Когда музыка отзвучала, ведущий с облегчением вздохнул, но забыл перед этим выключить микрофон, так что от сверхгромкого шороха присутствующие испуганно вздрогнули. Он сказал: «Извините» и ретировался через дверку за кафедрой, вероятно, радуясь возвращению к своим привычным бракосочетаниям.
Рыжеволосая женщина, кажется, всё-таки не имела отношения к семье Дерендингера. Она не осталась принимать соболезнования, а быстрой походкой двинулась к выходу, когда другие даже ещё не поднялись с мест. Надо будет посмотреть, что же такое пачули, подумал Вайлеман.
На поминки или хотя бы на круговую чарку после панихиды не приглашали, да и кто пригласит, а в окрестностях крематория и негде было собраться пенсионерам-завсегдатаям. Да если бы и было где, Вайлеман бы не пошёл. При разговорах в таких компаниях, где все уверяют друг друга, как плохо нынче обстоят дела с журналистикой и насколько лучше сделали бы всё они сами; где преувеличенно смеются над давними событиями, которые и тогда не были смешными; при всём этом полумёртвом оживлении тебе ещё неприятнее осознавать, как ты постарел. Пока другие расходились, разговаривая громче, чем до панихиды, он оставался сидеть, опустив голову. Пусть принимают за скорбь то, что в действительности было попыткой избавить себя от стыда. Он не хотел, чтобы после долгого сидения кто-нибудь видел, с каким трудом он поднимается с места, потому что его тазобедренный сустав опять ему отказал. Доктор Ребзамен советовал ему ходить с тростью, но с нею Вайлеман сам себе казался бы собственным дедушкой.
Когда потом кто-то около него остановился, ему поневоле пришлось поднять голову. То был ведущий панихиды.
– Извините, пожалуйста, – сказал он, – но вам придётся уйти. Сейчас начнётся следующая панихида.
В настоящей церкви подняться было бы проще, там можно было бы ухватиться за переднюю скамью, но Вайлеман справился и так.
– Хорошо, что я вас увидел, – сказал он ведущему. – Я хотел бы у вас спросить.
– Да?
– Стихотворение, которое вы читали, чьё оно?
Мужчина покраснел.
– Моё, – сказал он, застенчиво отводя взгляд. – Стихи – моё хобби.
– Хорошо. Очень хорошо. Кстати, слово «Rhythmus» пишется с двумя h.
– Разумеется. А почему вдруг…
– У меня сложилось впечатление, что вы никогда не слышали это слово.
То была дешёвая победа над безоружным противником, намного ниже достоинства Вайлемана, но время от времени это приносило облегчение – нанести такой вербальный укол и тем самым доказать себе, что ты ещё не совсем разучился играть с языком. Единственным, что испортило эффект, было мучительное отступление к двери. Раньше бы он после такой остро?ты развернулся и бодро зашагал прочь, но ведь раньше каждый шаг не причинял ему такой боли.