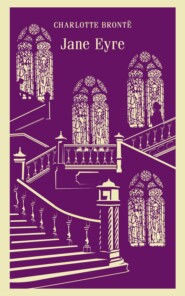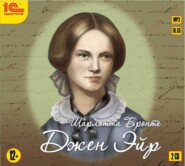По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Джейн Эйр
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она позвонила.
– Барбара, – сказала она вошедшей горничной, – я еще не пила чаю. Принесите поднос и поставьте две чашки для этих двух молодых барышень.
Поднос был принесен. Какими красивыми казались мне фарфоровые чашки и ярко начищенный чайник, стоявший на маленьком круглом столике возле камина. Как благоухал горячий чай и поджаренный хлеб! Но, к сожалению (ибо я начинала испытывать голод), гренков оказалось очень мало. Мисс Темпл тоже обратила на это внимание.
– Барбара, – сказала она, – не можете ли вы принести нам побольше хлеба с маслом? Здесь на троих не хватит.
Барбара вышла, но вскоре вернулась.
– Сударыня, миссис Харден говорит, что она прислала обычную порцию.
К сведению читателей, миссис Харден была экономка; эта женщина, которой мистер Броклхерст весьма доверял, вся состояла из китового уса и железа.
– Ну, хорошо, – отозвалась мисс Темпл, – мы как-нибудь обойдемся, Барбара. – И, когда девушка ушла, она пояснила, улыбаясь: – К счастью, я могу добавить кое-что к этому скудному угощению.
Предложив мне и Элен сесть за стол, она поставила перед каждой из нас чашку чая с восхитительным, хотя и очень тоненьким кусочком поджаренного хлеба, а затем поднялась, отперла шкаф и вынула из него что-то завернутое в бумагу и оказавшееся большим сладким пирогом.
– Я хотела дать вам это с собою, когда вы уйдете, – сказала она, – но так как хлеба мало, то вы получите его сейчас. – И она нарезала пирог большими кусками.
Нам казалось в этот вечер, что мы питаемся нектаром и амброзией; немалую радость доставляло нам и присутствие ласковой хозяйки, которая с улыбкой смотрела на то, как мы утоляли свой голод, наслаждаясь столь изысканным и щедрым угощением. Когда мы кончили чай и поднос был убран, она снова подозвала нас к камину; мы сели по обе стороны от нее, и затем между мисс Темпл и Элен начался разговор, присутствовать при котором оказалось для меня действительно большой честью.
На всем облике мисс Темпл лежал отпечаток внутреннего покоя, ее черты выражали возвышенное благородство, она говорила неторопливо и с достоинством, исключавшим всякую несдержанность, порывистость, горячность; в ней было что-то, внушавшее тем, кто смотрел на нее и слушал ее, чистую радость и чувство благоговейного почитания; таковы и сейчас были мои ощущения. Что касается Элен Бернс, то я не могла надивиться на нее.
Быть может, вкусный чай, яркое пламя камина, присутствие и ласка ее обожаемой наставницы были тому причиной, а может быть, оказались еще неизвестные мне черты ее своеобразной натуры, но в ней точно пробудились какие-то новые силы. Ее всегда бледные и бескровные щеки окрасились ярким румянцем, а глаза засияли влажным блеском, что придало им вдруг необычайную красоту, и они казались теперь красивее, чем глаза мисс Темпл, но поражал не их яркий блеск, не длинные ресницы и словно нарисованные брови – красота этих глаз была вся в их выражении, живости, сиянии. И вот сердце заговорило ее устами, и ее речь полилась из неведомых мне глубин, – ибо как может четырнадцатилетняя девочка иметь душу достаточно сильную, чтобы из нее бил родник чистого, всеобъемлющего и пламенного красноречия? А именно такими казались мне рассуждения Элен в тот знаменательный вечер; словно ее дух стремился пережить в несколько часов все то, что у многих растягивается на целую долгую жизнь.
Они беседовали о предметах, о которых я никогда не слышала: о канувших в вечность временах и народах, о дальних странах, об уже открытых или едва подслушанных тайнах природы; они говорили о книгах. И сколько же книг они успели прочесть! Какими сокровищами знаний они владели! И как хорошо они, видимо, знали Францию и французских писателей! Однако мое изумление достигло предела, когда мисс Темпл спросила Элен, не пытается ли она в свободную минуту вспомнить латынь, которой ее учил отец, и затем, взяв с полки книгу, предложила ей перевести страничку Вергилия; девочка выполнила ее просьбу, и мое благоговение росло с каждым прочитанным стихом. Едва она успела закончить, как прозвонил звонок, возвещая о том, что настало время ложиться спать. Медлить было нельзя. Мисс Темпл обняла нас обеих и, прижав к своему сердцу, сказала:
– Бог да благословит вас, дети!
Она задержала мою подругу в своих объятиях чуть дольше, чем меня, и отпустила ее с большой неохотой; за Элен, а не за мною следили ее глаза, когда мы шли к двери, о ней она второй раз тяжело вздохнула, из-за нее отерла слезу.
Едва войдя в спальню, мы услышали голос мисс Скетчерд. Она осматривала ящики комода и только что обнаружила беспорядок в вещах Элен Бернс. Встретив девочку резким замечанием, она тут же пригрозила, что завтра приколет к ее плечу с полдюжины неаккуратно сложенных предметов.
– Мои вещи действительно были в позорном беспорядке, – прошептала мне Элен. – Я хотела убрать их, но забыла.
На другой день мисс Скетчерд написала крупными буквами на куске картона слово «неряха» и украсила этой надписью широкий, умный и спокойный лоб девочки. Та ходила с ним до вечера, терпеливо и кротко, считая, что заслужила наказание. Едва мисс Скетчерд, закончив вечерние уроки, ушла, как я побежала к Элен, сорвала картон и швырнула его в камин. Ярость – чувство, совершенно ей незнакомое, – жгла меня весь день, и горячие, крупные слезы то и дело набегали на глаза, ибо зрелище этого смирения причиняло мне невыносимую боль.
Примерно неделю спустя после описанных событий мисс Темпл получила от мистера Ллойда ответ на свое письмо, видимо подтвердивший правоту моих слов. Собрав всю школу, мисс Темпл объявила, что в связи с обвинением, выдвинутым против Джейн Эйр, было произведено самое тщательное расследование, и она счастлива, что может заявить перед всеми о моем полном оправдании. Учительницы окружили меня. Все жали мне руки и целовали меня, а по рядам моих подруг пробежал шепот удовлетворения.
Таким образом, с меня была снята мучительная тяжесть, и я с новыми силами принялась за работу, твердо решив преодолеть все препятствия. Я упорно трудилась, и мои усилия увенчались успехом; постоянные занятия укрепляли мою память и развивали во мне ум и способности. Через две-три недели я была переведена в следующий класс, а меньше чем через два месяца мне было разрешено начать уроки французского языка и рисования. Помню, что в один день я выучила первые два времени глагола etre[8 - Еtre (фр.) – быть.] и нарисовала свой первый домик (его стены были так кривы, что могли поспорить с Пизанской башней). Вечером, ложась в постель, я даже забыла представить себе роскошный ужин из жареной картошки или же из булки и парного молока – мои излюбленные яства, которыми я обычно старалась в воображении утолить постоянно мучивший меня голод. Вместо этого я представляла себе в темноте прекрасные рисунки, и все они были сделаны мной: дома и деревья, живописные скалы и развалины, стада на пастбище во вкусе голландских живописцев, пестрые бабочки, трепещущие над полураскрытыми розами, птицы, клюющие зрелые вишни, или окруженное молодыми побегами плюща гнездо королька с похожими на жемчуг яйцами. Я старалась также прикинуть в уме, скоро ли я смогу переводить французские сказки, томик которых мне сегодня показывала мадам Пьеро; однако я не успела всего додумать, так как крепко уснула.
Прав был Соломон, сказав: «Угощение из зелени, но при любви лучше, нежели откормленный бык, но при нем ненависть».
Теперь я уже не променяла бы Ловуд со всеми его лишениями на Гейтсхед с его навязчивой роскошью.
Глава IX
Однако лишения, вернее – трудности жизни в Ловуде становились все менее ощутимы. Приближалась весна. Она пришла незаметно. Зимние морозы прекратились, снега растаяли, ледяные ветры потеплели. Мои несчастные ноги, обмороженные и распухавшие в дни резких январских холодов, начали заживать под действием мягкого апрельского тепла. Ночью и утром уже не было той чисто канадской температуры, от которой застывает кровь в жилах. Час, предназначенный для игр, мы теперь охотнее проводили в саду, а в солнечные дни пребывание там становилось просто удовольствием и радостью; зеленая поросль покрывала темно-бурые клумбы и с каждым днем становилась все гуще, словно ночами здесь проносилась легкокрылая надежда, оставляя наутро все более явственный след. Между листьями проглянули цветы – подснежники, крокусы, золотистые анютины глазки. По четвергам, когда занятия заканчивались, мы предпринимали далекие прогулки и находили еще более прелестные цветы по обочинам дороги и вдоль изгородей.
Я открыла также бесконечное удовольствие в созерцании вида – его ограничивал только горизонт, – открывавшегося поверх высокой, утыканной гвоздями ограды нашего сада: там тянулись величественные холмы, окружавшие венцом глубокую горную долину, полную яркой зелени и густой тени, а на каменистом темном ложе ее шумела веселая речушка, подернутая сверкающей рябью. Совсем иным казался этот пейзаж под свинцовым зимним небом, скованный морозом, засыпанный снегом! Тогда из-за фиолетовых вершин наплывали туманы, холодные, как смерть, их гнали восточные ветры, и они стлались по склонам и сливались с морозной мглой, стоявшей над речкой, и сама речка неслась тогда бурно и неудержимо. Она мчалась сквозь лес, наполняя окрестности своим ревом, к которому нередко примешивался шум проливного дождя или вой вьюги, а по берегам стояли рядами остовы мертвых деревьев.
Апрель сменился маем. Это был ясный и кроткий май. Каждый день ярко синело небо, грели мягкие солнечные лучи, и ласковые ветерки дули с запада или юга. Растительность мощно пробивалась повсюду. Ловуд встряхивал своими пышными кудрями, он весь зазеленел и расцвел. Его высокие тополя и дубы вновь ожили и облеклись в величественные зеленые мантии, кусты в лесу покрылись листьями, бесчисленные виды мхов затянули бархатом каждую ямку, а золотые первоцветы казались лучами солнца, светившими с земли. В тенистых местах их бледное сияние походило на брызги света. Всем этим я наслаждалась часто, долго, беспрепятственно и почти всегда в одиночестве, – эта неожиданная возможность пользоваться свободой имела свою особую причину, о которой пора теперь сказать.
Разве описанная мною восхитительная местность среди гор и лесов, в речной излучине не напоминала райский уголок? Да, она была прекрасна; но здорова ли – это другой вопрос.
Лесная долина, где находился Ловуд, была колыбелью ядовитых туманов и рождаемых туманами болезней. И сейчас началась эпидемия тифа; болезнь распространялась и росла по мере того, как расцветала весна; заползла она и в наш сиротский приют – многолюдная классная и дортуары оказались рассадником заразы; и не успел еще наступить май, как школа превратилась в больницу.
Полуголодное существование и застарелые простуды создали у большинства воспитанниц предрасположение к заболеванию – из восьмидесяти девочек сорок пять слегли одновременно. Уроки были прерваны, правила распорядка соблюдались менее строго, и те немногие, что еще не заболели, пользовались неограниченной свободой. Врач настаивал на том, что им для сохранения здоровья необходимо как можно дольше находиться на открытом воздухе; но и без того ни у кого не было ни времени, ни охоты удерживать нас в комнатах. Все внимание мисс Темпл было поглощено больными: она все время находилась в лазарете и уходила только ночью на несколько часов, чтобы отдохнуть. Все остальные учителя были заняты сборами в дорогу тех немногих девочек, которые, по счастью, имели друзей или родственников, согласившихся взять их к себе. Однако многие были уже заражены и, вернувшись домой, вскоре умерли там. Другие умерли в школе, и их похоронили быстро и незаметно, так как опасность распространения эпидемии не допускала промедления.
В то время как жестокая болезнь стала постоянной обитательницей Ловуда, а смерть – его частой гостьей, в то время как в его стенах царили страх и уныние, а в коридорах и комнатах стояли больничные запахи, которые нельзя было заглушить ни ароматичными растворами, ни курениями, – над крутыми холмами и кудрявыми рощами сиял безмятежный май. В саду цвело множество мальв ростом чуть не с дерево, раскрывались лилии, разноцветные тюльпаны и розы, маленькие клумбы были окружены веселой темно-розовой каймой маргариток. По вечерам и по утрам благоухал шиповник, от него пахло яблоками и пряностями. Но в большинстве своем обитатели Ловуда не могли наслаждаться этими дарами природы, и только мы носили на могилы умерших девочек пучки трав и цветов.
Однако те дети, которые оставались здоровыми, полностью наслаждались красотой окрестностей и сияющей весной. Никто не обращал на нас внимания, и мы, как цыгане, с утра до ночи бродили по долинам и рощам. Мы делали все, что нам нравилось, и шли, куда нас влекло. Условия нашей жизни тоже стали лучше. Ни мистер Броклхерст, ни его семейство не решались даже приблизиться к Ловуду. Никто не надзирал за хозяйством, злая экономка ушла, испугавшись эпидемии. Ее заместительница, которая раньше заведовала лоутонским лазаретом, еще не переняла ее обычаев и была щедрее, да и кормить приходилось гораздо меньше девочек: больные ели мало. Во время завтрака наши мисочки были налиты до краев. Когда кухарка не успевала приготовить настоящий обед – а это случалось довольно часто, – нам давали по большому куску холодного пирога или ломоть хлеба с сыром, и мы уходили в лес, где у каждой из нас было свое излюбленное местечко, и там с удовольствием съедали принесенное.
Я больше всего любила гладкий широкий камень, сухой и белый, лежавший посредине ручья; к нему можно было пробраться только по воде, и я переходила ручей босиком. На камне хватало места для двоих, и мы располагались на нем с моей новой подругой. Это была некая Мери-Энн Вильсон, неглупая и наблюдательная девочка; ее общество мне нравилось – она была большая шутница и оригиналка, и я чувствовала себя с ней просто и легко. Мери-Энн была на несколько лет старше меня, больше знала жизнь, ее рассказы были для меня интересны, и она умела удовлетворить мое любопытство. Будучи снисходительна к моим недостаткам, она никогда не удерживала и не порицала меня. У нее был дар повествования, у меня – анализа; она любила поучать, я – спрашивать. Поэтому мы прекрасно ладили, и если это общение и не приносило нам особой пользы, оно было приятно.
А где же была Элен Бернс? Отчего я не с ней проводила эти сладостные дни свободы? Разве я забыла ее? Или я была так легкомысленна, что начала тяготиться ее благородной дружбой? Конечно, Мери-Энн Вильсон была несравнима с моей первой подругой: она рассказывала занятные истории и охотно болтала и шутила со мной, в то время как Элен всегда умела пробудить в тех, кто имел счастье общаться с ней, интерес к возвышенному.
Все это верно, читатель; и я это прекрасно знала и чувствовала. Хотя я и очень несовершенное создание, с многочисленными недостатками, которые вряд ли могут искупить мои слабые достоинства, я никогда бы не устала от общества Элен Бернс; в моей душе продолжало жить чувство привязанности к ней, такое сильное, нежное и благоговейное, какое я редко потом испытывала. Да и как могло быть иначе, ведь Элен всегда и при всех обстоятельствах дарила мне спокойную, верную дружбу, которую не могло смутить или ослабить ни раздражение, ни непонимание. Но Элен была больна: вот уже несколько недель, как мы с ней не виделись; я даже не знала, в какой комнате верхнего этажа она находится. Ее не положили, как я выяснила, в лазарет, где лежали тифозные больные, ибо у нее была чахотка, а не тиф. Мне же, по моему неведению, чахотка представлялась чем-то очень безобидным, такой болезнью, которую уход и время могут излечить.
Эту уверенность поддерживало во мне и то обстоятельство, что в солнечные дни ее иногда выносили в сад; но и тут мне не разрешалось приближаться к ней и разговаривать; я видела ее только из школьного окна, и притом очень неясно: она была закутана в одеяло и сидела довольно далеко от меня, в саду возле веранды.
Однажды, в начале июля, мы с Мери-Энн очень поздно загулялись в лесу; отделившись, как обычно, от остальных, мы забрели в глушь так далеко, что начали плутать и вынуждены были, чтобы расспросить о дороге, зайти в уединенный домик, где жили мужчина и женщина, пасшие в этом лесу стадо полудиких свиней. Когда мы наконец вернулись домой, уже всходила луна. У ворот дома мы увидели лошадь, которая, как мы знали, принадлежала врачу. Мери-Энн высказала предположение, что, вероятно, кому-нибудь стало очень худо, если за мистером Бейтсом послали так поздно. Она вошла в дом, а я еще задержалась в саду, чтобы посадить несколько кустиков растений, принесенных из леса, так как боялась, что они завянут, если я это отложу до утра. Закончив посадку, я все еще медлила вернуться в комнаты: садилась роса, и цветы благоухали особенно нежно. Вечер был такой чудесный, спокойный, теплый; все еще алевший закат обещал и на завтра ясный день. Луна величественно всходила на потемневшем востоке. Я наслаждалась всем этим, как настоящее дитя, и вдруг во мне с небывалой остротой мелькнула мысль:
«Как грустно сейчас лежать в постели, зная, что тебе грозит смерть! Ведь этот мир прекрасен! Как тяжело быть из него отозванной, уйти неведомо куда!»
И тут я впервые попыталась осмыслить привитые мне представления о Небе и Аде и отступила, растерянная; впервые, оглядевшись кругом, я увидела повсюду зияющую бездну. Незыблемой была только одна точка – настоящее; все остальное рисовалось мне в виде бесформенных облаков и зияющей пропасти; и я содрогнулась от ужаса перед возможностью сорваться и рухнуть в хаос. Погруженная в эти размышления, я вдруг услышала, как открылась парадная дверь: вышел мистер Бейтс, а с ним одна из нянек. Он сел на лошадь и уехал, и она уже собиралась запереть дверь, когда я подбежала к ней.
– Как чувствует себя Элен Бернс?
– Очень плохо, – ответила она.
– Это к ней приезжал мистер Бейтс?
– Да.
– А что он говорит?
– Он говорит, что ей уже недолго быть с нами.
Эта фраза, услышь я ее вчера, вызвала бы во мне только мысль, что Элен собираются отправить домой, в Нортумберленд. Я бы не заподозрила в этих словах намек на ее близкую смерть; но сейчас я поняла это сразу. Мне тут же стало ясно, что дни Элен Бернс сочтены и что она скоро уйдет в царство духов, – если это царство существует. Меня охватил ужас, затем я почувствовала приступ глубокой скорби, затем желание, просто потребность увидеть ее; и я спросила, в какой комнате она лежит.
– Она в комнате у мисс Темпл, – сказала няня.
– А можно мне пойти поговорить с ней?
– О нет, девочка. Едва ли это возможно. Да и тебе пора домой. Ты тоже заболеешь, если останешься в саду, когда выпала роса.
Няня заперла парадную дверь. Я направилась по коридору в классную комнату. Как раз пробило девять, и мисс Миллер звала воспитанниц в дортуар.