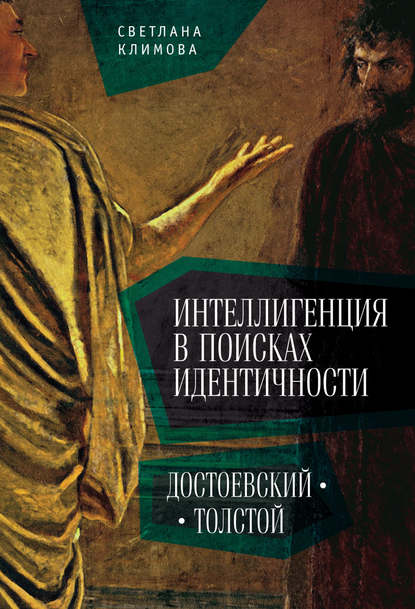По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Интеллигенция в поисках идентичности. Достоевский – Толстой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако есть и принципиальное различие между фонвизинским текстом и «Философическим письмом»[42 - Можно сказать, что перед нами один из первых образцов дискурсного письма. Дискурс, в отличие от текста имеет дело с весьма специфическим адресатом, который не независим, но «сконструирован» автором текста. В этом смысле автор вкладывает определенный посыл (повелительный, пророческий, предупредительный) в свой текст, ища не собеседника, а слушателя (читателя). Адресатом может стать любой, умеющий читать.] П.Я. Чаадаева. Текст последнего не был литературным или научным; это было письмо-откровение; его автор не вопрошал, не диалогизировал, не обращался к равному или высшему; власть здесь априори не могла выступить диалогическим визави П.Я. Чаадаева. Несмотря на то, что его формальным адресатом являлась, как и у Фонвизина, дама (Е.Д. Панова), ее трудно назвать равным субъектом разговора. Если Д.И. Фонвизин вопрошает первую даму в государстве, то П.Я. Чаадаев уже стоит на «высших позициях» пророка: он наставляет, учит жизни свою визави, он абсолютно уверен в своем интеллектуальном и моральном превосходстве не только в отношении своей корреспондентки, но и власти в принципе.
Между тем, есть здесь и важные точки пересечения. Между текстами, как мы отмечали, наблюдается перекличка (метадиалог-размышление) их создателей, двух интеллектуалов: если Д.И. Фонвизин спрашивает и указывает на больную тему, то П.Я. Чаадаев уверен в ответах и безжалостно давит на «больное» место для крайнего заострения ситуации. Например, для обоих национальное самосознание связано с ролью и статусом дворянства в России, и оба понимают эту роль «негативно». Фонвизинские «отчего» выглядят как констатация печального факта у П.Я. Чаадаева. «Вам все еще приходится разыскивать, чем бы наполнить не жизнь даже, а лишь текущий день. <…> Одна из печальных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах. Ни у кого нет определенного круга действия, нет ни то, что добрых навыков, ни для чего нет твердых правил, нет даже и домашнего очага. <…> Внутреннего развития, естественного прогресса у нас нет, прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не вырастают из первых, а появляются откуда-то извне»[43 - Чаадаев П.Я. Сочинения. Москва 1989. С. 18–19, 21.].
Таким образом, данный метадиалог маркирует культурный сдвиг в размышлении о природе национального самосознания и истории, смещая разговор от диалогов с властью к широкому интеллектуально-литературному обсуждению темы, в русло общественной дискуссии. Разница между эпохальными вопросами и эпохальным ответом налицо. Если Д.И. Фонвизин остается в традициях единой культурной среды, позволяющей, сохраняя всю значимость вертикали власти, чувствовать себя с ней в едином интеллектуальном поле, то П.Я. Чаадаев – открытый оппозиционер; он уже практически знает, чем заканчиваются разговоры подобного рода. Поэтому – он не диалогизирует или вопрошает, а декларирует, не пытается разговаривать, а раздает оценки и поучает.
Он сознательно отделяет себя от власти, маркируя свой особый статус учителя и пророка. Тем самым мыслитель присваивает себе статус пророка – быть властителем дум, стать образцом духовного реформатора. Его визави становится не чем иным, как творимым им же коллективным сообществом, которое выступает не равноправным участником диалога, а «некоей коллективной дамой», трепетно внимающей громким словам учителя и создающей на этой основе свое, то есть общественное мнение.
Следует напомнить и оценку А.С. Пушкиным идей П.Я. Чаадаева, впрочем, хорошо известную в литературе. Думается, что роль и значение последнего он оценивает примерно в тех же позитивных коннотациях, что и роль Д.И. Фонвизина. В частности, в своем знаменитом ответе на письмо П.Я. Чаадаева он резюмирует: «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести к отчаянию. Вы хорошо сделали, что сказали это громко»[44 - Пушкин А. С. Письмо П.Я. Чаадаеву от 19.02.1836 г.//П.Я Чаадаев. Pro et contra. Там же. С. 75.].
В данном случае – громко сказанное слово в России, подобно «выстрелу в ночи», как правило, ведет к духовному «ранению» тех, к кому оно было обращено. А.С. Пушкин прямо называет субъекта: это дворянское (позже и разночинское) общество, которое стоит на пороге формирования собственного мнения на различные вопросы и понимания своего особого статуса интеллигенции.
П.Я. Чаадаев не был первым русским историософом, не был и пионером в открытии темы национального самосознания; его появление на общественной авансцене также не было неожиданностью для русских интеллектуалов, которые видели в действиях самой власти возможность скорого появления «чаадаевщины». Например, П.А. Вяземский в «Проекте письма С.С. Уварову» красноречиво показал противоречивую природу поведения власти, на примере конфликта Н.М. Карамзина и Н.Г. Устрялова в вопросах генезиса и периодизации русской истории. Он показал, как первого, подлинного патриота, который всегда был верен самодержавию, но который как историк «не щадит самодержца перед неизбежным зерцалом потомства», ошельмовали и «низвергли» и критики, и власть, а второго— университетского профессора, насмешливо отказывающего России в уникальности, праве на свою историю, высмеявшего того же Н.М. Карамзина с его идеей наличия «русской истории как таковой», защитившего на эту тему диссертацию и широко вещавшего о русской «недалекости» в студенческой аудитории, напротив, всячески поощряло Министерство просвещения. «Исторический скептицизм, терпимый и даже поощряемый Министерством просвещения, неминуемо довел до появления в печати известного письма П.Я. Чаадаева, помещенного в «Телескопе». Напрасно искать в сем явлении тайных пружин, движимых злоумышленными руками. Оно просто естественный созревший результат направления, которое дано нашей критике. Допущенное безверие к писанному (например, к истории Карамзина – С.К.) довело до безверия к действительному»[45 - Вяземский П.А. Проект письма к С.С. Уварову// П.Я Чаадаев. Pro et contra. С. 119.].
Однако роль П.Я. Чаадаева в нашей культуре не может быть оценена в какой-то одной идейной плоскости. Он стал зачинателем нового формата дискуссий о русской истории, ее национальном самосознании и перспективах, переведя обсуждение с официального (властного) – литературного (журнального) и научного (университетского) уровней на общественный. В то же время он оказался одним из творцов этого публичного пространства, вовлекая в него самые широкие слои образованного (читающего) и полуобразованного общества, которому после П.Я. Чаадаева суждено было стать особой интеллектуальной силой с самостоятельными суждениями и поступками в области созидания и укрепления национальной истории и самосознания. П.Я. Чаадаев, подобно А.И. Герцену, разбудил общество, кинув (вернее, подняв) перчатку «вызова на дуэль» за честь и достоинство собственной нации; в итоге был создан новый формат широких общественных дискуссий. «Качество» такого общества не стоит преувеличивать. Как заметил И.И. Панаев, «статья, вследствие которой запрещался журнал, приобретала популярность не только между всеми грамотными и читающими людьми, но и даже полуграмотными, которые придавали ей Бог знает какие невежественные толкования»[46 - Панаев И.И. Литературные воспоминания. Ленинград, 1928. С. 184–185.].
Власть того времени также хорошо представлена по воспоминаниям А.И. Герцена, который справедливо назвал период николаевского правления – с 1825 по 1855 год «моровой полосой» нашей истории, на всем протяжении которой «Николай перевязал артерию – но кровь переливалась проселочными тропинками. Вот эти-то волосяные сосуды и оставили свой след в сочинениях Белинского, в переписке Станкевича»[47 - Герцен А.И. Былое и думы. Собр. Соч. в 8-ми т. М.: Правда, 1975. Т5. С. 116.], письмах П.Я. Чаадаева.
Сформировав общественную полемическую среду, П.Я. Чаадаев создал пространство интеллектуальной оппозиции, идеи которой были принимаемы полуобразованной разночинной публикой за «истины в последней инстанции». Оппозиционность не только к власти, но и к своему народу, своей истории, культуре, родному языку, друг другу становится новой устойчивой формой интеллигентской «любви к родине», самоидентичности, о которой так мечтал П.Я. Чаадаев, однако не только не скрепив этим общество, но расколов его окончательно. Теперь, чтобы быть популярным, успешно продавать свои труды, надо громко звучать («проповедовать»); интеллектуал должен был превратиться в интеллигента, то есть «стать в оппозицию», начать подрывать (через литературу, философию, публицистику или революционные практики) устои собственного государства и общества. «Проповедь» (чаще всего, журнальная) все более походила на партийные требования верности тем или иным идеям и вождям, носила характер непримиримого оппонирования всякому инакомыслию.
Правительство же не нашло ничего лучшего, как «замолчать» факт чаадаевской публикации, не отвечая недостойному оппоненту. «Отвечать на произведения такого рода – было бы унизить священное дело нашей народности. Кто уважил впечатление, произведенное этой пьесой над читателями, тот, конечно, убедится в бесполезности опровержения и будет смотреть с молчанием презрения на тщетное покушение ума не-здравого и сожаления достойного»[48 - Проект официального опровержения статьи Чаадаева// П.Я Чаадаев. Pro et сontra. С. 73.]. Объявление всякого инакомыслия следствием «нездорового ума» стало традиционным русским способом «затыкания ртов». Это, собственно, никогда никого особенно не пугало, зато придавало «правдолюбцам-мученикам» больший вес и авторитет в глазах общественного мнения, а их словам – вес святой праведности и желанного проповедничества. Это, конечно, лучшее наказание, чем ссылки оппонентов в Сибирь, как это делала просвещенная Екатерина; но, по сути, речь шла об аналогичном противостоянии и монологическом оппонировании со стороны власти, которая также не сделала ни малейшего движения навстречу другому мнению или голосу; отвергались любые попытки вступить в диалог, хотя бы и эпистолярный, развивать публичное пространство разномыслия, услышать или принять другого как иного, имеющего право на свою позицию и слово. Любая точка зрения воспринималась властью как «бунт», посягательство на незыблемость ее статуса и десакрализация высшего лица.
Молчаливое презрение «свыше» дорого стоило и власти, и обществу. Общественное мнение, которое складывалось независимо от воли властей, привело к разгулу политического мифотворчества и позднейшим практическим (революционным) действиям, а также к вечному бинарному противопоставлению «наших и не наших» людей, идей и ценностей. В авторитарной системе другого исхода русским интеллигентам было не дано.
Вместе с тем, в своей категоричности П.Я. Чаадаев, как в лице властей, так и с точки зрения общественного мнения (сформированного под его же влиянием), оказался «виновным» за многие нерешенные социальные и духовные проблемы в отечестве; образно говоря, его фигура приобрела черты сакральной жертвы, принеся которую, пусть и символически в ходе изоляции «сумасшедшего» от нормальных, власть была на время «спасена» от революционных взрывов инакомыслия и инако-действия французского толка. Общество же подхватило полемический накал письма и обнажило дискуссионное пространство понимания собственной идентичности, направив энергию на литературное творчество и публицистку, а не на революцию и войну.
При этом власть, отказавшись от участия в диалогах и совместных обсуждениях ключевых проблем истории и ментальности России с интеллектуальной и творческой элитой, «компенсировала» свой просчет идеологическими манипуляциями, управлением общественным мнением, с помощью реакционной культурной элиты и интеллигенции определенного сорта. Многие деятели культуры, были использованы как своеобразный анклав для «налаживания связей» с разными группами общества; власть подбрасывала ей удачные или не очень лозунги, идеи, символы, которые та широко насаждала в массы. В переломные моменты именно интеллигенты внедряли в общественное сознание то патриотический дискурс, то православный, то национальный, то интернациональный, выполняя неведомые им самим «заказы» властных структур, стремясь протестовать или «занять место» власти, не фигурально (как П.Я. Чаадаев), но практически и исторически конкретно и реально. В дальнейшем попробуем понять такой «механизм» развития интеллектуальных идей. Главная же особенность заключалась в том, что интеллигенция любого толка свято верила в свою особенность и предназначение быть «руководительницей» народа. Одними из первых с этим пафосом стали бороться Достоевский и Толстой.
В конце XIX века все это приобрело черты фатальной необратимости, о которой так много писал Толстой, разоблачая суть государственного зла, его институций, а также интеллектуальной элиты, обслуживающей его интересы. Если государство, с его точки зрения, формирует авторитарно-бюрократическую систему, санкционирует безответственное следование любым, даже самым чудовищным своим приказам, то церковь совершает нравственное преступление – берет на себя груз морального одобрения этого насилия и безответственности, духовно одобряя любые злодеяния высшей волей Творца. Он показал, что деятели искусства, науки или религии – интеллигенты – не просто рационально и морально оправдывают государственное зло, но и становятся идеологическим оплотом его легитимности, фактически добровольно и безответственно выполняя ту же роль «проводников зла», что и бюрократы, становясь неформальным элементом бюрократической и авторитарной госсистемы.
1.4. Третий путь русского интеллектуализма
После П.Я. Чаадаева путь диалогического общения оказался практически невозможен не только в отношении к власти, но и различных интеллектуальных сил в отношении друг к другу. Склонность к идейным и аксиологическим крайностям стала характерна для различных групп интеллектуалов, начиная с 30-х годов XIX в. Речь идет не о дискуссиях и обсуждении различных точек зрения, но о ярко выраженной склонности к оппозиционным суждениям и крайним этическим и эстетическим позициям, то есть латентном или открытом противостоянии мировоззрений, идеологем и даже литературно-философских конструкций.
Этот факт неоднократно отмечался российскими и зарубежными исследователями[49 - См.: Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж: YMCA-PRESS, Париж, 1955; Москва: Наука, 1990; Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры // Успенский Б.А. Избр. труды. Т.1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Гнозис, 1994. С. 3–35; Billington J.H. The Icon and the Axe. An Interpretive History of Russian Culture. Vintage Books Edition, New York 1970.]. Данная оппозиционность выглядит по меньшей мере странно, если учитывать ту уникальную миссионерскую роль, которую «назначила» себе русская элита: быть проводником русских идей, стать выразительницей целостного – русского национального самосознания, спасти Россию, а заодно и весь мир.
Представители различных интеллектуальных групп в России обладали не только знаниями, но и чувствами особого рода, которые можно назвать страстью к преобразованиям. Исторической основой этих преобразований была романтическая философия и поэзия Запада, которые традиционно вызывали восхищение и изумление русского образованного общества, хотя и очень ? la russe. «Русский романтизм так отличается от иностранных романтизмов, что он всякую мысль, как бы она ни была дика или смешна, доводит до самых крайних граней, и при том на деле»[50 - Григорьев А.А. Мои литературные и нравственные скитания. Наука: Ленинград, 1980. С.58.]. Крайними формами проявления такого рода романтизма стал культ религии (мистический, сакральный и духовный опыт), с одной стороны, и культ революции, с идеей трансформации временного мира в вечную гармонию «на земле», с другой.
Постепенно, шаг за шагом, со второй половины XIX века русское общественное мнение начинает приобретать все более конкретную бинарную конфигурацию. Первоначально это было зафиксировано в кружковых (или салонных) дискуссиях 30–40-х годов по теоретическим и мировоззренческим вопросам. Но в скором времени любое несогласие с директивной позицией стало приводить к «бойкоту непартийной точки зрения» (А. И. Герцен). Позднее Вл. С. Соловьев шутливо назвал тягу к «единомыслию» наших интеллектуалов и интеллигентов того времени «одностанционностью нашего образовательного движения»[51 - См.: Соловьев В.С. Идея сверхчеловека//Соловьев В.С. Избранное. М.: Советская Россия, 1990. С.219.].
Описанное противостояние стало субстанциональной основой особого пути самоидентификации и рефлексии русской интеллигенции. Оно состоит в регулярной инверсии ценностей, когда тем или иным элементам картины мира приписывают попеременно то положительную, то отрицательную ценность. Сама же картина, ее структура, «репертуар» базовых элементов почти не меняются. Любые, в том числе и новые проблемы, противоречия, факты замечаются, осмысливаются лишь в той мере, в какой укладываются в «базовую» оппозицию. Данный механизм интеллигенция унаследовала от предыдущих эпох – традиционное русское православное сознание вообще отличалось крайней остротой бинарных оппозиций и почти полным отсутствием нейтральных ценностно не отмеченных элементов[52 - См.: Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры //Успенский Б.А. Избр. труды. Т.1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Гнозис, 1994. С.219–253.]. Именно интеллигенция «захватила» эту особенность позднего средневековья в Новое время, приспособила к особенностям нового периода истории и распространила на рождающееся секуляризованное сознание. Такую инверсию мы и назвали «маятником бинарного сознания».
Например, на протяжении столетия поисков самоидентификации русский народ был объявлен такими противоположными мыслителями, как Достоевский и Толстой самым религиозным, а затем, сразу же после революции, он оказался самым атеистичным, и тому нашлось множество доказательств не только в идеологии, но и в науке, и в практике[53 - Hindus M. Humanity uprooted. New York, Jonathan Cape and Harrison Smith, 1929, 369 p.; Булгаков С. Н. На пиру богов // Из глубины: Сборник статей о русской революции / Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «Вехи» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.vehi.net/bulgakov/napirubogov.html.]. Сегодня оказалось, что русский – православный – не просто риторическая фраза из «Дневника писателя» Достоевского, а самая что ни на есть истинная форма самоидентификации советско-русско-российского народа, пережившего «нерушимый союз народов», сталинский лагерный режим, хрущевскую интеллигентскую оттепель и горбачевскую капиталистическую перестройку. Россия в свою очередь традиционно описывается в бинарных образных клише, будучи попеременно и матерью и ребенком, и святой и грешной, и смиренной и дикой вольницей. Подобно этому Запад поочередно наделяется то характеристиками дьявольского порожденья; объявляется, то врагом, то другом, а то и страной святых чудес и общечеловеческих ценностей.
В данном контексте мыслить и быть философом означало лишь одно – принадлежать к тому или иному кружку, то есть защищать определенные ценности и «выбрасывать знамена» (выражение Вл. С. Соловьева) конкретного цвета. Это и означает в России «иметь позицию», а по сути, быть в оппозиции к любому инакомыслию. В итоге, уже около трехсот лет наша интеллигенция, как носительница базовых «русских идей» увлечена этой бинарной аксиологией.
Сегодня эта тенденция еще более обострена; в период развития глобализационных и интернациональных процессов наши ценности, подобно маятнику, колеблются на крайних границах от плюса к минусу и обратно – от полного растворения в чужой картине мира, до полного забвения всякой общности с мировой культурой[54 - Ярким примером является реформирование системы образования, которое представляет собой странный симбиоз западных ориентаций и русской «национальной гордости». Чтобы стать вузом мирового класса, ему необходимо потерять все отечественное: систему преподавания, язык, на котором говорит нация, ценности, которые веками декларировались как традиционные. Это самоочевидно. Но не ясно, как при этом «основываться на российских реалиях: культуре, институтах… и ресурсах» и вести достойный диалог // Волков А.Е., Кузьминов Я.И., Реморенко И.М. и др. Российское образование – 2020: модель образования для инновационной экономики // Вопросы образования. 2008. № 1. С.32–64.].
Парадоксально, однако, такой тип бинарного мировоззрения был рожден в ходе бесконечных салонных дискуссий[55 - “Вчитайтесь в интимные документы тех поколений, в дневники и в переписку, в черновые тетради, – и станет очевидно, что подлинная ‘паника’ (философская – С.К.) захватила и взволновала души… Вздрогнула и отклонилась стрелка некоего душевного сейсмографа… Люди тех поколений не построили своих и новых систем. Они кажутся со стороны какими-то растерянными эклектиками. Они слишком много спорят и говорят, – говорят больше, чем пишут. Очень немногое из тогдашнего брожения кристаллизовалось в литературных формах. И, однако, совершилось самое важное – мысль пробудилась… (так и хочется добавить – свободная – С.К.)” // Флоровский Г.B. Пути русского богословия, YMCA-PRESS, Париж 1937. С. 306.], которые были очень свободными и составляли пространство для разнообразных диалогов, развития самосознания и всего того, что способствовало формированию творческого мышления, высоких чувств, созданию целостной творческой личности, так восхищавшей многих интеллектуалов того времени. Например, П. В. Анненков писал: «Старание выработать из себя нравственное лицо, человека, в благороднейшем смысле слова, получает особенную цену, когда оно кладется в основание самой жизни, не слабеет при напоре живых, естественных впечатлений молодости и когда дает тон и краску тем чувствам, которые в известные эпохи нераздельно господствуют над всеми нашими способностями»[56 - Анненков П.В. Биография Николая Владимировича Станкевича// Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, Типография Каткова и К°, Москва 1857. С. 79.].
Другими словами, процесс и результат оказались прямо противоположны друг другу. Тяга к идейным/ценностным крайностям и целостное развитие «идеи личности»[57 - Наиболее репрезентативно представленной в идее «критически мыслящей личности» П. Л. Лаврова.] стали двумя противоположными результатами свободно развивающейся мысли; и то, и другое замешано на основе искренних, высоких чувств и субъективного (зачастую, религиозного) опыта переживания идей, а также конкретных поступков.
Русский интеллигент формировал сам себя, специфически истолковывая свое предназначение, а также специфически погружаясь в жизнь. Диалогическое пространство (салонного и кружкового типа) равных друг другу интеллектуалов стало одновременно и способом индивидуального самопознания и самооткрытия личности.
Это же противоречие между тем, что делалось и тем, что стало результатом этой деятельности, легло в основание изощренного спора между всеми поколениями и номинациями славянофилов и западников. К середине XIX в. основные тенденции предыдущего века: стремление к инициативе, апология реформ Петра – вылились в глобальную проблему самоидентификации русской интеллигенции – особой группы, которая взяла на себя ответственность за судьбу общества, культуры, государства. Интеллигенты созидали свою жизнь по образу и подобию Петрову, ставя лично перед собой те задачи, который Петр сделал первоосновой многочисленных государственных реформ.
Началась уже не просто инверсия ценностей, но ее рефлексия и личностное страстное переживание. Уже в 50-е годы значительное место в развитии этой тенденции принадлежало Толстому, который, по словам Ап. А. Григорьева, научил его поколение искренности: «В нашей эпохе не было искренности перед собой; не многие из нас добивались от себя усиленным трудом искренности, но боже! Как болезненно она нам доставалась»[58 - Григорьев А.А. Воспоминания. Там же. С.33.].
Следует обратить внимание на новую роль «интимных жанров»: дневников, переписок, автобиографий, которые демонстрировали процесс «рождения» писателя, мыслителя, общественного деятеля или творческой личности[59 - Через полвека возникнет обратная потребность возвращения к самому себе, очищенному от любых ролей искусственности. Этот процесс станет важной вехой в «Исповеди» Толстого не только для него, но и для многих людей в предреволюционной России.] не только с точки зрения его внешнего проявления, но и как результат само-творения. Они обнажают природу диалогического пространства мира личности, фиксируя спонтанный процесс рождения, развития и изменения мысли в контексте субъективного эмоционального опыта переживания. Интимность и искренность стали основой формирования целостной личности. Человек зачастую раскрывает свою душу гораздо полнее в письмах и дневниках, чем в изданных сочинениях. «Основное и неписанное условие искреннего общения предполагает сознание соблюдения истины, коррелируемое с внутренней верой, убеждениями и ценностными ориентациями <…> искренность и откровение связаны и исповедью и исповедальным словом, генетически восходящим к таинству исповеди»[60 - Салманова И.Ф. Переписка Н.В. Станкевича в контексте русской исповедальной культуры // Проблемы российского самосознания: патриотизм, гражданственность и отечественная культура. К 200-летию со дня рождения Н.В. Станкевича. Материалы 10-й Международной научной конференции 3 октября 2013 г., Москва, 8–10 октября 2013 г., ИД “Белгород” НИУ “БелГУ”, Москва-Белгород, 2013. С. 200.].
Кажется, человек раздваивается, размышляет о себе, как о другом человеке, пытается понять свою общечеловеческую сущность. Часто это походило на способ мыслительного противостояния самому себе – чувствам, поступкам, стереотипам. Под влиянием немцев шел процесс обнаружения в единичном всеобщего, феноменальном ноуменального и трансцендентного. Очевидно, что личный духовный рост был болезненным, очень сложным и противоречивым, требуя не только абсолютной честности по отношению к себе, но и искренней веры в человека – собеседника или читателя. Искренность становится обязательным элементом самопредставления и в то же время основой для рождения «добросовестного ума» (П.В. Анненков). Она также определяла отношение к другим – друзьям, миру и обществу – буквально цементируя творческую природу личности. Самораскрытие возможно лишь в том случае, когда ваш собеседник разделяет с вами отношение «сочувственного взаимопонимания»[61 - Процитируем Гоголя: «Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Этого мало; самый ум проясняется: дотоле сокрытые положенья и поприща людей становятся тебе известны, и делается видно, что кому из них потребно… Страданьями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Но кто уже приобрел одну из этих крупиц, тот уже не имеет права скрывать ее от других. Она не твое, но божье достоянье. Бог ее выработал в тебе; все же дары божьи даются нам затем, чтобы мы служили ими собратьям нашим: он повелел, чтобы ежеминутно учили мы друг друга» // Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями// Гоголь Н.В. Собрание сочинений в 8-ми томах, т. 7, Правда, Москва 1984. С. 248.] и сопереживания.
Таким образом, собственный интимный мир переживаний становится лабораторией рождения личности. Роль философии в этом процессе для молодых людей 30–40-х годов была первостепенной: «Тот, кто самоотверженно ищет истину, очищает душу и готовит ее для принятия Божественного. Царство Истины есть Царство Божье. Это в мире, но не в этом мире»[62 - Анненков П.В. Биография Николая Владимировича Станкевича, там же. С. 193.].
Философские дискуссии различались «исповеданием веры», приводя молодых интеллектуалов к поиску смысла жизни, служению обществу и особому способу бытия в мире. Следует согласиться с В.С. Библером: «на пределе регулятивной идеи личности сами понятия «идеи» и «личности» не могут быть отщеплены друг от друга. Здесь речь идет о личности-идеи, о том, что только в личности идея (как ее можно понимать в контексте культуры)… находит свое адекватное, полное и трагическое персонализированное воплощение»[63 - Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. Два философских введения в XXI век. Политическая литература, Москва 1991. С. 334.]. Это может быть, как воплощением творческих личностей-идей, так и конкретных практических проявлений.
Предположительно, именно здесь и находится точка перехода интеллектуальности, свободной мысли и искренности чувств к миру единодушных и однонаправленных веяний и партийных интересов. В конце концов, для того, чтобы иметь основание и условия для ведения диалога, противопоставлять логику и чувства собственному духовному развитию необходимо разделить мысленное существование и концептуально формализованную оппозицию религиозных абстракций, и практику, жизнь, конкретное поведение.
Но вернёмся к личности. Когда мы погружаемся в интимный мир переписки, например, Н.В. Гоголя, Н.В. Станкевича, Достоевского или Толстого, мы улавливаем реальный процесс перетекания субъективных переживаний и передачи эмоционального и чувственного состояния в идею или духовный субъективизм как весьма болезненный и неоднозначный акт самопознания, самоанализа и критического мышления личности.
Приведем в качестве примера выдержку из письма Н.В. Станкевича Т.Н. Грановскому: «Твой предмет – жизнь человечества: ищи же в этом человечестве образа Божьего; но прежде приготовься к трудным испытаниям – займись философией. Занимайся и тем и другим, эти переходы из отвлеченной к конкретной жизни и снова углубление в себя – наслаждение»[64 - Анненков П.В. Биография Николая Владимировича Станкевича//Там же. СС. 185–186.]. В другом письме он уточняет свою романтическую позицию, добавляя важнейший критерий мыслительных действий – практику, или саму жизнь с ее трагедиями и непредсказуемыми ходами: «Я не знаю, как назвать мою душу, совершенно пустой или только опустошённой… Любовь – ведь это род религии, которая должна наполнять каждое мгновение, каждую точку жизни… но для того, чтобы испытывать подобную любовь, надо быть более развитым… Моя мысль не обнимала такой жизни во всем ее пространстве… то было несчастье и последняя страшная катастрофа может быть была необходима, чтобы исцелить меня от романтических стремлений, от сонливости души, чтобы разрушить выдуманные, фантастические представления жизни, чтобы выбросить меня в свет, где мог бы действовать как человек, как разумное существо….»[65 - Там же. С. 156–157].
Вполне схоже и весьма специфически звучит позиция современника и идейного оппонента – западника Н.В. Станкевича – И.В. Киреевского, который рассматривал процесс формирования философа как «двойственную активность православного ума». Если мы отбросим конфессиональные импликации этого утверждения, то сможем увидеть, что мыслитель раскрыл здесь категорическое требование к формированию целостной личности, т. е. указал на необходимую связь мышления с верой, скреплённую религиозным послушанием, в котором должна протекать практическая жизнь философа. Его категорическое требование совместить свет разума со светом веры весьма схоже, хотя и только внешне, с позднейшими установками Толстого, при этом судьбы их идей – диаметрально противоположны. Для обоих существовало особое взаимоотношение между разумом и верой, суть которого – в формировании нового способа мышления. И.В. Киреевский понимал его как сознательное подчинение мысли общему нравственному понятию, а Толстой, напротив, считал основой индивидуального преображения, назвав жизни-верой. Объединяет их сам принцип целостного представления личности через органическое соединение мышления и веры, нравственного и духовного в человеке. Сам же способ соединения, понимание сути личностного Я весьма специфично и является основой различения одного мыслящего субъекта от другого.
Православный философ И.В. Киреевский утверждал идеал цельной личности как единство логики и веры, свободного протекания мышления и одновременно религиозно-нравственного осмысления того, что является его предметом, содержанием. При этом трудно понять, как можно было совместить свободу нейтрального по своей сути мышления со строгим следованием вере, под которой философ понимал абсолютное подчинение догматам православной церкви. «Но в том-то и заключается главное отличие православного мышления, что оно ищет не отдельные понятия устроить сообразно требованиям веры, но самый разум поднять выше своего обыкновенного уровня – стремиться сам источник разумения, самый способ мышления возвысить до сочувственного согласия с верой»[66 - Киреевский И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии// Киреевский И.В. Разум на пути к истине. М.: Правило веры, 2002. С. 248.]. В ходе общественных дискуссий эта категоричность была оформлена в указанную оппозицию славянофилов и западников.
Итак, цельные начала – основа новой философии, которая предполагает не столько выработку новых принципов мышления, сколько выработку новых принципов жизни, созидаемых как некий творческий и божественный акт. Требования, предъявляемые молодыми философами к себе весьма строги, но в них есть понимание необходимого единства мышления и действия, скреплённого нравственными и практическими выводами. При этом православная установка мышления есть не что иное, как установка на созерцательность, сродни восточным практикам – аскетическому погружению отцов церкви в собственный внутренний мир, противоположный поступкам; не проверяемый на практике, но закрепляемый в абстрактном чувстве принадлежности к вере, как к высшей истине. Когда же эти требования из внутреннего и личностного созерцания становятся основой идейно заряженной жизни, цельность испаряется; идеи превращаются в категорическую партийную установку – идеологию, означающую обязательность следования выбранному курсу (православному, атеистическому, социальному, духовному, революционному, любому), и отсутствие творческой свободы уже гарантированно. Человек, обязанный мыслить ценностно (а по сути, идейно), не может быть свободен в своих инструментальных посылках и научных выводах. Таким образом, между человеком деятельным и человеком созерцательным создается не цельное единство, но бинарность оппозиционного сознания.
Это состояние русские мыслители воспринимали как существование личности в точке «бифуркации», суда и или внутреннего кризиса, заставляя видеть себя со стороны. В то же время происходило связывание идеи, ее философское осмысление и прочувствование через иное – не идею, чувство или опыт, но особое состояние, близкое к совести или «искренности», что означало исповедально-открытое отношение к жизни. Это было необходимое условие целостного ее постижения, критерий испытания идей любого сорта на их нравственную жизнеспособность. Зачастую речь шла о чем-то невыразимом в словах, но составляющем смысл чувств и порывов, обрабатываемых умом. Более подробно опишем этот процесс в следующей главе.
Таким образом, диалогическое пространство частного или интимного мира раскрывает «следы тех глубоких борозд, по которым узнается невидимая и напряженная работа головы»[67 - Анненков П.В. Биография Николая Владимировича Станкевича//Там же. С. 127.], души и сердца. Затем сформированная мысль попадает в журналы, начинает идеологически перерабатываться критикой, становится доминирующей тенденциозной идеей, которая захватывает не только умы читающей разночинной молодежи, но даже, как отметил Н.В. Гоголь, попадает в «головы многих высокопоставленных чиновников»[68 - Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями//Указан. соч. С. 228.].
Происходит странная метаморфоза рождения мысли и ее публичного «воплощения», причем, без всякого тютчевского «сочувствия». Все волнения, противоречия, интимность и искренние переживания автора вдруг по законам инверсии оказываются «идеями-камнями» (выражение Достоевского), сцементированными общественным мнением и партийными требованиями журналов и коллег, став монологическими «идеями-идеологиями», которые объединяли или отделяли, единомышленников или друзей, превращая в бескомпромиссных оппонентов и врагов. Следующие мемуары А.И. Герцена заслуживают внимания: «Молодые философы наши испортили себе не одни только фразы, но и пониманье; отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное, это было то ученое пониманье простых вещей, над которым так гениально смеялся Гете в своем разговоре Мефистофеля со студентом. Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью. Во всем том была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно»[69 - Герцен А.И. Былое и думы // Герцен А.И. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 5. М: Худлит, 1956. С. 16.].
Те же, кто не попадал под шаблоны или был чрезмерно самобытен, нещадно перерабатывался критикой, в одночасье теряя свою уникальность и право быть иным, не схожим с большинством партийцев. Достаточно вспомнить отношения между молодым Достоевским и литературными критиками «Современника» во главе с В.Г. Белинским, которые сначала возвысили его до небес, а потом «раздавили», умалив до «ку-мирчика» и «нового прыща на носу литературы»[70 - Строки из известной эпиграммы И.С. Тургенева: «Витязь горестной фигуры, Достоевский, милый пыщ, На носу литературы, Рдеешь ты, как новый прыщ».]. То же самое пытались проделать с Н.В. Гоголем, когда он использовал свое право на искренность в «Выбранных местах из переписки с друзьями». В.Г. Белинский, который «назначил» его основателем и лидером натуральной школы, затем занялся его «разоблачением», превратив в сумасшедшего («или вы больны – и вам надо спешить принять лекарство, или… я боюсь, чтобы положить мои мысли в слова!)»[71 - Белинский В.Г. Письмо к Гоголю // Белинский В.Г. Собр соч. в 9-ти т. М.: Худлит, 1976. Т. 8. С. 283.].
«Безумие», как мы уже отмечали, – любимый диагноз власти. С ее легкой руки он стал способом дифференциации своих/чужих и у самой интеллигенции. Диагноз, выставляемый всем инакомыслящим, инаковерующим, инакочувствующим, всем, кто позволяет себе оставаться свободной личностью не только в интимных записках и письмах, но и в общественной позиции. Как заметил В.В. Розанов: «все последующие, после Пушкина, русские умы были более, чем он, фанатичны и самовластны, были как-то неприятно партийны, очевидно, не справляясь с задачами времени своего, с вопросами ума своего, не умея устоять против увлечений. Можно почти с уверенностью сказать, что проживи А.С. Пушкин дольше, в нашей литературе, вероятно, вовсе не было бы спора между западниками и славянофилами, в той резкой форме, как он происходил, потому что авторитет Пушкина в его литературном поколении был громаден, а этот спор между европейским Западом и Восточной Русью в Пушкине был уже кончен, когда он вступал на поприще журналиста»[72 - Розанов В.В. Пушкин // Розанов В.В. О писательстве и писателях. Республика, Москва, 1995. С. 46–47.].
1.5. Русская интеллигенция: история и судьба
История идей: литературных, философских, социальных с этого времени стала не чем иным, как субъективным переосмыслением всевозможных проблем в ходе самоописания русской интеллигенции. Г.П. Федотов, как один из самых цитируемых по данной теме исследователей, отмечал, что история такого рода идей есть не что иное, как описание истории русской интеллигенции.
Тем самым интеллигенция оказалась в центре всей русской культуры, ее собственная история была отождествлена с историей всего народа, плоды ее творчества стали восприниматься как специфическая характеристика общенациональной культуры. Место, которое определила себе интеллектуальная и творческая элита, обрело в ее глазах сакральный статус, себя же она стала описывать и воспринимать сквозь специфически понятый религиозный дискурс. Многие отмечают процесс секуляризации и антиклерикализма,[73 - Прт. Георгий Ореханов использует выражение «культурный антиклерикализм», подчеркивая, что представители РПЦ не имели возможности присутствовать в культурном пространстве и участвовать в культурной жизни страны в первой половине XIX в. Именно поэтому христианство получает специфическую социально-политическую окраску в это время. Подр: Ореханов Г. Лев Толстой. «Пророк без чести». Хроника катастрофы. М.: Эксмо. С. 28–30.] охвативший к середине века Европу и Россию, но был ли он таковым в сознании представителей указанного интеллигентского слоя? Безверие и формальное отношение к церкви, описанное самыми разными мыслителями, не означали принципиального разрыва с Богом и верой, как таковыми. Напротив, русское мышление, даже однозначно ориентированное на разумное познание действительности, всегда было вплетено в религиозно-духовный контекст, сопрягая разум и веру, занимаясь поисками способа религиозного самопозиционирования.
Мы рассмотрим, как проходил процесс самоописания интеллигенции, прежде всего, в ходе ее идентификации и размежевания с христианским дискурсом и формами аскетической практики в исследуемый исторический период.
Концептуализация русской интеллигенции выявляется в процессе созидания и предпочтений различных текстов культуры. В соответствии с подходом Ю.С. Степанова[74 - Степанов Ю.М. Константы: Словарь концептов русской культуры. Опыт исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. С.619–629.] в концепте можно выделить три слоя: первый – ее основной и актуальный признак; второй – дополнительный, пассивный – культурное пространство коннотаций; и третий – внутренняя форма, неосознаваемая, но запечатленная в слове.
Слово «интеллигенция» используется активно всеми носителями русского языка без объяснений и толкований. Первым признаком русской интеллигенции необходимо назвать ее самоопределение в качестве «самосознающей социальной группы» (Степанов). Коннотаций у слова огромное количество: неявных признаков и культурных ассоциаций, начиная от «шляпы и очков» и заканчивая «врагами народа», «диссидентами» или абстрактно-мифологическим кентавром «ум, честь и совесть» нашей эпохи.