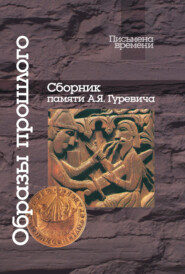По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Культурология: Дайджест №1 / 2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В работе Мамардашвили изложена, пожалуй, наиболее оригинальная «антисинтезная» концепция культурного процесса в Латинской Америке (в том, что касается того общего культурного ареала, который охватывает страны «бывшего СССР»). В среде отечественных латиноамериканистов-профессионалов позицию отрицания синтеза с наибольшей ясностью выразили представители Центра культурологии ИЛА РАН (Б.Ю. Субичус, П.А. Пичугин, Н.А. Шелешнева-Солодовникова). Эти исследователи склонны подчеркивать зависимость латиноамериканской культуры от европейской, они утверждают мысль о безусловной принадлежности Латинской Америки к ареалу западной цивилизации, рассматривают ее как периферийную зону данной цивилизации. Идея о том, что Латинская Америка представляет собой самостоятельное цивилизационное образование, таким образом решительно отвергается.
Впервые данная система взглядов была поднята на уровень теоретического обобщения в сборнике «Латинская Америка и мировая культура»[5 - Латинская Америка и мировая культура. – М.: ИЛА РАН, 1995. – Вып. 1. – 216 с.]. В ее основе – усиленная акцентировка реальных явлений: факта периферийного положения Латинской Америки в системе западной «субэкумены», слабой способности латиноамериканской культуры к самостоятельному формотворчеству, того обстоятельства, что формы, в которых выражал себя латиноамериканский дух, в подавляющем большинстве случаев заимствованы из Европы. При этом неповторимая оригинальность латиноамериканской культуры и искусства отнюдь не отрицается, однако для представителей данного направления речь идет о специфике в рамках принадлежности к западной традиции.
Таким образом, разница между сторонниками концепций синтеза и периферийности – не в признании или непризнании оригинальности латиноамериканской культуры (таковая признается всеми), а в разном решении вопроса о степени инакости данной культуры по сравнению с западноевропейской.
Решающим аргументом в пользу того, что Латинская Америка все же представляет собой особый цивилизационный тип, является то обстоятельство, что на протяжении своей истории латиноамериканцы определенно обнаружили устойчивую склонность к поискам своих особых способов решения коренных проблем – противоречий человеческого существования, качественно отличных в ряде принципиальных моментов от тех подходов к данным проблемам, которые характерны для Запада.
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
РОМАН В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ ХХ ВЕКА
А.А. Асоян
Аннотация. Д. Лукач, М. Бахтин, Ю. Кристева – кульминационные этапы в развитии теории романа в ХХ столетии. Их преемственность в построении теории жанра – пример творческого отношения к интеллектуальному наследию, единства научного знания.
Ключевые слова: теория романа, жизнь, смысл, внутренняя форма романа, культура, идеал, память, опыт, познание, полифоничность, трансгрессия, монологичность, диалогизм, эпичность, мениппейность.
Annotation. G. Lukacs, M. Bachtin, J. Kristeva – their theories present culmination stages in the XX-th century novel theory development. Their succession in the genre theory construction – gives us an example of the creative attitude to the intellectual heritage, to the scientific knowledge unity.
Keywords: novel theory, life, sense, inner novel form, culture, ideal, memory, experience, epistemology, transgression, dialogism.
Три имени знаменуют важнейшие этапы теории романа в ХХ в.: Дьёрдь Лукач (1885–1971), Михаил Бахтин (1895–1975), Юлия Кристева (р. 1935). Впервые монография Лукача «Теория романа» была опубликована в немецком журнале «Zeitschrift f?r ?sthetik und allgemeine Kunstwissenschaft» за 1916 г. Рождение жанра венгерский философ связывал с конфликтом между жизнью и смыслом, бытием и судьбой, которые в эпопее, древнем эпосе, предстают разновеликими понятиями, ибо древний эпос – например, гомеровские поэмы, – предполагает «тотальность бытия», или ситуацию, когда между непосредственной жизнью и ее сущностью нет разрыва и «всё однородно еще до того, как оно образует форму; когда формы не стесняют, а лишь служат самопознанию, выходу на поверхность всего того, что томилось и дремало в недрах формирующейся вещи; когда знание является добродетелью, а добродетель – счастьем и когда красота раскрывает мировой смысл»[1 - Лукач Д. Теория романа // Новое лит. обозрение. – М., 1994. – № 9. – С. 22.].
Завершенность и замкнутость эпической системы ценностей является причиной, почему герой эпопеи никогда не бывает индивидом. Эпический космос – цельное, тотальное единство. Оттого главным предметом эпоса оказывается не личная судьба, а судьба рода, некоего сообщества, и сущность жизни является бытийственно имманентной, не мыслимой в конфликте с самой жизнью.
В ходе эволюции, полагал Лукач, субъект стал сам для себя явлением, иначе говоря, объектом; в результате искусство перестало быть «слепком жизни»; оно превратилось в «сотворенную тотальность», потому что естественное единство метафизических сфер оказалось разорвано навсегда.
По Лукачу, историко-философским переходом от эпопеи к роману стала «Божественная комедия» Данте. Правда, этой поэме, писал Лукач, еще присущи замкнутая имманентность и игнорирование дистанции между жизнью и смыслом, но персонажи «Комедии», в отличие от эпопеи, это уже индивиды, «сознательно и энергично противящиеся сковывающей их действительности и благодаря такому сопротивлению становящиеся настоящими личностями»[2 - Там же. – С. 38.]. Конечно, такая индивидуализация больше касается второстепенных, нежели главных лиц. Она усиливается на периферии по мере удаления от цели путешествия Данте, где каждая частичная единица сохраняет собственную лирическую жизнь, чего не знал и знать не мог древний эпос. Вместе с тем везде господствует особый конституирующий принцип, «устраняющий эпическую самостоятельность органических частиц и превращающий их в иерархически упорядоченные части»[3 - Там же.].
Это наличие предпосылок в «Комедии» как эпоса, так и романа, обусловлено двойственностью дантовского мира: в «священной поэме» мирской разлад жизни и смысла преодолевается и устраняется благодаря совпадению жизни и смысла в непосредственно переживаемой трансцендентальности, предполагаемой христианским символом веры. Но, утверждал Лукач, подобное равновесие возникает в первый и последний раз.
Роман, писал он, это эпопея эпохи, для которой жизненная имманентность стала проблемой. Суть романа, определяющая его форму, обнаруживается в психологии его героев – они постоянно в поиске. При этом бесконечность поисков свидетельствует о том, что ни цели, ни пути не являются отражением какой-либо этической необходимости, существующей вовне, – искания составляют лишь факт душевной жизни героя, которой совсем не обязательно что-либо должно соответствовать в мире объектов или в мире норм. Именно поэтому роман выступает как нечто становящееся, как процесс. Его внешняя форма по сути биографическая. И центральная биографическая фигура в романе все свое значение находит лишь в отношении к «возвышающемуся» над нею миру идеалов, но и сам этот мир реализуется лишь постольку, поскольку живет в данном индивиде, в данном жизненном опыте. Таким образом, устанавливается равновесие этих двух жизненных сфер, и возникает новая, самобытная – парадоксально завершенная и осмысленная – жизнь проблематичного индивида.
Движение индивида к самому себе – от смутной погруженности в наличную действительность к ясному самосознанию – представляет собой внутреннюю форму романа. По достижении искомого самосознания противоречия между бытием и долженствованием остаются, ибо объективность романа – в зрелом понимании той истины, что смысл никак не может полностью пронизать действительность, но без него она распадется в ничто. Содержание романного жанра, писал Лукач, это история души, идущей в мир, ищущей приключений ради самоиспытания, чтобы в этом испытании обрести собственную меру и сущность. В итоге обнаруживается, что есть два типа души: она либо ?же, либо шире внешнего мира, назначенного ей в качестве арены и субстрата ее деяний.
Второй тип души демонстрирует герой Сервантеса. «Дон Кихот» – первый великий роман в мировой литературе, «первое великое сражение внутреннего мира с прозаической низостью души»[4 - Там же. – С. 53.]. Эта книга появляется на пороге эпохи, когда христианский Бог начинает устраняться из мира; когда человек оказывается одиноким и может обрести смысл и субстанцию только в своей бездомной душе, так как дороги к трансцендентальной родине вдруг стали непроходимыми. Вот отчего чистейший героизм неизбежно превращается в гротеск, а неколебимая вера – в безумие. Глубокая меланхолия исторического процесса как раз и заключается в том, что, когда приходит час, вечные идеи и вечные позиции теряют смысл и что время может возобладать даже над вечным. Но время только тогда одерживает верх, когда прерывается связь с трансцендентальной родиной. И вполне понятно, полагает Лукач, почему в романе, содержание которого «составляет необходимость искать Сущность и неспособность ее найти», время сливается с формой. Здесь время – это сопротивление, оказываемое жизненной органикой застывшему смыслу. В эпопее же имманентность смысла самой жизни так сильна, что отменяет время: жизнь как таковая делается вечной, мыслится вечной, ибо органика берет себе из времени лишь расцвет, преодолевая и предавая забвению увядание и умирание. В отличие от эпопеи, в романе жизнь и смысл отделяются друг от друга, а вместе с ними – сущностное и временное; «можно даже, пожалуй, сказать, – писал Лукач, – что все внутреннее действие романа есть не что иное, как борьба с могуществом времени»[5 - Там же. – С. 63.]. В этой борьбе парадоксальность романного жанра и начало тяготения поистине великих романов к эпопее.
Впервые данная система взглядов была поднята на уровень теоретического обобщения в сборнике «Латинская Америка и мировая культура»[5 - Латинская Америка и мировая культура. – М.: ИЛА РАН, 1995. – Вып. 1. – 216 с.]. В ее основе – усиленная акцентировка реальных явлений: факта периферийного положения Латинской Америки в системе западной «субэкумены», слабой способности латиноамериканской культуры к самостоятельному формотворчеству, того обстоятельства, что формы, в которых выражал себя латиноамериканский дух, в подавляющем большинстве случаев заимствованы из Европы. При этом неповторимая оригинальность латиноамериканской культуры и искусства отнюдь не отрицается, однако для представителей данного направления речь идет о специфике в рамках принадлежности к западной традиции.
Таким образом, разница между сторонниками концепций синтеза и периферийности – не в признании или непризнании оригинальности латиноамериканской культуры (таковая признается всеми), а в разном решении вопроса о степени инакости данной культуры по сравнению с западноевропейской.
Решающим аргументом в пользу того, что Латинская Америка все же представляет собой особый цивилизационный тип, является то обстоятельство, что на протяжении своей истории латиноамериканцы определенно обнаружили устойчивую склонность к поискам своих особых способов решения коренных проблем – противоречий человеческого существования, качественно отличных в ряде принципиальных моментов от тех подходов к данным проблемам, которые характерны для Запада.
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
РОМАН В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ ХХ ВЕКА
А.А. Асоян
Аннотация. Д. Лукач, М. Бахтин, Ю. Кристева – кульминационные этапы в развитии теории романа в ХХ столетии. Их преемственность в построении теории жанра – пример творческого отношения к интеллектуальному наследию, единства научного знания.
Ключевые слова: теория романа, жизнь, смысл, внутренняя форма романа, культура, идеал, память, опыт, познание, полифоничность, трансгрессия, монологичность, диалогизм, эпичность, мениппейность.
Annotation. G. Lukacs, M. Bachtin, J. Kristeva – their theories present culmination stages in the XX-th century novel theory development. Their succession in the genre theory construction – gives us an example of the creative attitude to the intellectual heritage, to the scientific knowledge unity.
Keywords: novel theory, life, sense, inner novel form, culture, ideal, memory, experience, epistemology, transgression, dialogism.
Три имени знаменуют важнейшие этапы теории романа в ХХ в.: Дьёрдь Лукач (1885–1971), Михаил Бахтин (1895–1975), Юлия Кристева (р. 1935). Впервые монография Лукача «Теория романа» была опубликована в немецком журнале «Zeitschrift f?r ?sthetik und allgemeine Kunstwissenschaft» за 1916 г. Рождение жанра венгерский философ связывал с конфликтом между жизнью и смыслом, бытием и судьбой, которые в эпопее, древнем эпосе, предстают разновеликими понятиями, ибо древний эпос – например, гомеровские поэмы, – предполагает «тотальность бытия», или ситуацию, когда между непосредственной жизнью и ее сущностью нет разрыва и «всё однородно еще до того, как оно образует форму; когда формы не стесняют, а лишь служат самопознанию, выходу на поверхность всего того, что томилось и дремало в недрах формирующейся вещи; когда знание является добродетелью, а добродетель – счастьем и когда красота раскрывает мировой смысл»[1 - Лукач Д. Теория романа // Новое лит. обозрение. – М., 1994. – № 9. – С. 22.].
Завершенность и замкнутость эпической системы ценностей является причиной, почему герой эпопеи никогда не бывает индивидом. Эпический космос – цельное, тотальное единство. Оттого главным предметом эпоса оказывается не личная судьба, а судьба рода, некоего сообщества, и сущность жизни является бытийственно имманентной, не мыслимой в конфликте с самой жизнью.
В ходе эволюции, полагал Лукач, субъект стал сам для себя явлением, иначе говоря, объектом; в результате искусство перестало быть «слепком жизни»; оно превратилось в «сотворенную тотальность», потому что естественное единство метафизических сфер оказалось разорвано навсегда.
По Лукачу, историко-философским переходом от эпопеи к роману стала «Божественная комедия» Данте. Правда, этой поэме, писал Лукач, еще присущи замкнутая имманентность и игнорирование дистанции между жизнью и смыслом, но персонажи «Комедии», в отличие от эпопеи, это уже индивиды, «сознательно и энергично противящиеся сковывающей их действительности и благодаря такому сопротивлению становящиеся настоящими личностями»[2 - Там же. – С. 38.]. Конечно, такая индивидуализация больше касается второстепенных, нежели главных лиц. Она усиливается на периферии по мере удаления от цели путешествия Данте, где каждая частичная единица сохраняет собственную лирическую жизнь, чего не знал и знать не мог древний эпос. Вместе с тем везде господствует особый конституирующий принцип, «устраняющий эпическую самостоятельность органических частиц и превращающий их в иерархически упорядоченные части»[3 - Там же.].
Это наличие предпосылок в «Комедии» как эпоса, так и романа, обусловлено двойственностью дантовского мира: в «священной поэме» мирской разлад жизни и смысла преодолевается и устраняется благодаря совпадению жизни и смысла в непосредственно переживаемой трансцендентальности, предполагаемой христианским символом веры. Но, утверждал Лукач, подобное равновесие возникает в первый и последний раз.
Роман, писал он, это эпопея эпохи, для которой жизненная имманентность стала проблемой. Суть романа, определяющая его форму, обнаруживается в психологии его героев – они постоянно в поиске. При этом бесконечность поисков свидетельствует о том, что ни цели, ни пути не являются отражением какой-либо этической необходимости, существующей вовне, – искания составляют лишь факт душевной жизни героя, которой совсем не обязательно что-либо должно соответствовать в мире объектов или в мире норм. Именно поэтому роман выступает как нечто становящееся, как процесс. Его внешняя форма по сути биографическая. И центральная биографическая фигура в романе все свое значение находит лишь в отношении к «возвышающемуся» над нею миру идеалов, но и сам этот мир реализуется лишь постольку, поскольку живет в данном индивиде, в данном жизненном опыте. Таким образом, устанавливается равновесие этих двух жизненных сфер, и возникает новая, самобытная – парадоксально завершенная и осмысленная – жизнь проблематичного индивида.
Движение индивида к самому себе – от смутной погруженности в наличную действительность к ясному самосознанию – представляет собой внутреннюю форму романа. По достижении искомого самосознания противоречия между бытием и долженствованием остаются, ибо объективность романа – в зрелом понимании той истины, что смысл никак не может полностью пронизать действительность, но без него она распадется в ничто. Содержание романного жанра, писал Лукач, это история души, идущей в мир, ищущей приключений ради самоиспытания, чтобы в этом испытании обрести собственную меру и сущность. В итоге обнаруживается, что есть два типа души: она либо ?же, либо шире внешнего мира, назначенного ей в качестве арены и субстрата ее деяний.
Второй тип души демонстрирует герой Сервантеса. «Дон Кихот» – первый великий роман в мировой литературе, «первое великое сражение внутреннего мира с прозаической низостью души»[4 - Там же. – С. 53.]. Эта книга появляется на пороге эпохи, когда христианский Бог начинает устраняться из мира; когда человек оказывается одиноким и может обрести смысл и субстанцию только в своей бездомной душе, так как дороги к трансцендентальной родине вдруг стали непроходимыми. Вот отчего чистейший героизм неизбежно превращается в гротеск, а неколебимая вера – в безумие. Глубокая меланхолия исторического процесса как раз и заключается в том, что, когда приходит час, вечные идеи и вечные позиции теряют смысл и что время может возобладать даже над вечным. Но время только тогда одерживает верх, когда прерывается связь с трансцендентальной родиной. И вполне понятно, полагает Лукач, почему в романе, содержание которого «составляет необходимость искать Сущность и неспособность ее найти», время сливается с формой. Здесь время – это сопротивление, оказываемое жизненной органикой застывшему смыслу. В эпопее же имманентность смысла самой жизни так сильна, что отменяет время: жизнь как таковая делается вечной, мыслится вечной, ибо органика берет себе из времени лишь расцвет, преодолевая и предавая забвению увядание и умирание. В отличие от эпопеи, в романе жизнь и смысл отделяются друг от друга, а вместе с ними – сущностное и временное; «можно даже, пожалуй, сказать, – писал Лукач, – что все внутреннее действие романа есть не что иное, как борьба с могуществом времени»[5 - Там же. – С. 63.]. В этой борьбе парадоксальность романного жанра и начало тяготения поистине великих романов к эпопее.