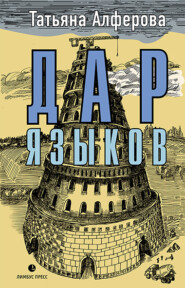По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Память по женской линии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Память по женской линии
Татьяна Георгиевна Алфёрова
Новая книга Татьяны Алферовой – это сборник рассказов, состоящий из нескольких циклов. «Память по женской линии» – своего рода история семьи, из поколения в поколение обрастающая легендами и преданиями: тут и Рыбинск начала ХХ века, и послевоенный Ленинград. «Неомифологический словарь» – цикл рассказов о том, как герои известных мифов выглядели бы сегодня, окажись они в наши дни рядом с нами, и об обычных людях, поступающих, как персонажи мифов. «Рассказы, написанные осенью» – большей частью автобиографические зарисовки, забавные или печальные по обстоятельствам.
Татьяна Алферова
Память по женской линии
© Татьяна Алферова, 2023
© ООО «Издательство К. Тублина», 2023
© А. Веселов, оформление, 2023
www.limbuspress.ru (http://www.limbuspress.ru/)
Память по женской линии
Я последняя хранительница памяти нашей семьи. Той памяти, что передавалась из поколения в поколение по женской линии, от матери к дочери. Некогда огромная семья до сих пор внушительна: у меня десять племянников, но своих детей нет, и линия прервалась. Женщины играли ведущую роль не обязательно в силу характера, порой за счет количества. В третьем колене их было три – три сестры. Старшая – Мария, моя бабушка. Средняя – Катерина и младшая – Антонина не продолжили рода.
Такое важное женское понятие, как семья, у каждой висело в рамочке на почетном месте, а вот любовь обдувалась ветерком во дворике. Это не означает, что они не мечтали об избраннике, но один принц вполне подлежал замене другим. Унаследованное свойство, традиция. Со смехом, но более с гордостью, передавалась история сватовства прабабушки Анны. К безземельной сироте, живущей у крестного отца, посватались сразу четверо. Ответ отложили на следующий день, до утра. Тетка Пелагея, жена крестного, искрутилась на лавке, а прабабушка спит себе на полатях. Но тетка не обладала безмятежной сонливостью, которая будет передаваться по наследству, как память, и поэтому сердито шептала снизу:
– Анна, спишь, что ли?
– Сплю, Кока, сплю.
И в конце концов:
– Да ты не спи, Анна, думай, за кого идти-то!
Отдали, конечно, за самого богатого.
Оборачиваясь, обнаруживаешь прошлое сахарным. Решения принимались легче и быстрее. Их поступки, увеличенные биноклем времени, кажутся полновеснее наших. И разумнее. Несмотря на то, что они промахивались, даже если выбирали богатых. Жизнь складывалась из бесконечной работы, а память хранила, в основном, историю отношений.
1. Каменные розы
Бабушка умерла, и я прокатила родственников с наследством. Я забрала не только фаянсового теленка, который каждое утро, пока я была маленькой, приносил в копытцах горошину обсыпанного сахаром драже, но и весь город. Город с непременным городским садом, желудями и черемухой, с центральной улицей, где обосновалась местная сумасшедшая, умещавшая в одном выкрике-предложении целые истории:
– Она бегала с бритвой по переулку, когда за ним пришли!
И двор, бабушкин двор, я забрала со всеми дровяными сарайчиками и пристройками, со старой квартирой, помещавшейся в каретном сарае бывшей купеческой усадьбы. В центре двора стояла маленькая покосившаяся мазанка, там жил Универсам. Так прозвал его мой дед за «помоечный» промысел. С утра Универсам с тележкой совершал обход мусорных баков по всему району, к обеду возвращался нагруженный, тяжело стуча разномастными колесиками по булыжной мостовой. Через тридцать лет этот промысел повсеместно освоят бомжи. По смерти Универсама осталась полуслепая жена Раечка, взятая им «из тюрьмы» после войны. Выпив, она часто пела странные будоражащие песни. Некоторые из них я встречу позже в сборниках «Русский городской романс» и «Споем, жиган». На семидесятом году у Раечки появился молодой двадцатишестилетний кавалер. Пока хватало Раечкиной инвалидной пенсии по зрению, они пили «белое» и вместе пели по вечерам, когда пенсия кончалась, переходили на «синюху» – средство для мытья окон; иногда дрались. Во дворе давно перестали об этом судачить, привыкли.
Загадкой оставалась лишь Дуся, живущая не в каретном сарае, как все, а в старом господском доме с полуразрушенным вторым этажом. Она выходила из дому раз в сутки, ненадолго: вынести мусорное ведро и покормить кошек. Во дворе обреталась целая орава серых, рыжих, полосатых и муаровых Васек и Мусек. Как говорит знакомый кошковед: «Порода помоечная, мелкобашковая». Где Дуся брала еду или, допустим, спички, не ходя на улицу, – не знаю. Дровяные некрашеные сараи в то время не зияли провалами и скрывали массу удивительных вещей – в дедушкином я нашла слегка объеденного мышами «Дон Кихота». Он пах подберезовиком и сыроежками, это был восхитительный запах.
Я приезжала на время летних каникул. Темнело рано, и вечерами мы перематывали шерсть. Я растягивала пряжу на руках, а бабушка мотала клубок и рассказывала истории, каждый вечер по одной. Большей частью о наших родственниках, населявших, похоже, половину Рыбинска. Прабабка со стороны деда, не нашей женской линии, родила одиннадцать сыновей, и все, кроме последнего, выжили, я имею в виду – из младенцев. Потом-то погибли, кто в германскую, кто в финскую, кто в Отечественную. Мой дед, младший из братьев, дожил до девяноста и умер от пневмонии. Все оставили наследников. Я не знаю даже имен.
Бабушкины истории могучими ударами сокрушали литературу. Вряд ли она выдумывала сюжеты, описаний не давала, характеристики персонажей выводила крайне скупо. Может быть, поэтому истории ошеломляли.
Я забрала их с собой, как город, но в той моей памяти, памяти десятилетней школьницы, они сохранились неотчетливо.
К примеру, образ дочери вдовы вижу ярко, почти как мост через Черемуху или пожарную каланчу, но подробностей не соберу. Да ведь от каланчи в памяти тоже остались: галки на белых наличниках и струи воды перед воротами, когда пожарные мыли машины, – ни фактуры стен, ни точного их цвета.
А вдова сделалась вдовой еще до революции. Какая-то очередная моя родственница из девятнадцатого века. Ко всем прочим неприятностям, бобылка, безземельная. Дочерей вдова нарожала не меньше трех, число неважно, ведь речь об одной, старшей и самой красивой. В крестьянских семьях старшие дети частенько вырастали самыми красивыми, рослыми и сильными, успевая родиться, пока родители их еще любили друг друга без повседневной неизбежной привычки, не то ненависти от трудного быта, тяжкой работы. Нынче не проверишь: либо детей мало – ну, один, много два, либо любовь и семья уж очень отличаются от тех патриархально-крестьянских. Это я не иронизирую, это я по-честному.
И эта вот дочь, достигнув определенного возраста, стала пользоваться успехом не только в своей деревне, но и в трех соседних. Вдова возложила на нее большие надежды: выгодная партия, все как положено. Наконец-то, паче чаяния, своя землица появится. Но город Рыбинск недалеко, при желании – пешком дойти, а желание у дочери присутствовало, у кого его не будет-то от скуки и тяжести полевых работ, тем более на чужом поле. В городе, как водится, нашелся молодой купец. Дальше по схеме: любовь, угроза мезальянса, разгневанные и богатые родители. Ну, мальчишка и струсил. Лет ему, надо полагать, ненамного больше, чем ей, а ей исполнилось шестнадцать.
Месяца через три-четыре вдова замечает, что с дочерью неладно: тошнит по утрам, и на соленые огурчики аппетит прорезался. Положение у вдовы пиковое. Во-первых, позору не оберешься, очень непринято это было, видать, в той деревне. Может, глобальное пробуждение достоинства в народе после отмены крепостного права или еще чего. Но не принято, и все. Во-вторых, материальная сторона вопроса. И так трех девок кормить-одевать, а тут еще будущий младенец. Вдова с месячишко поплакала, пока уже заметно не стало у дочери-то, да и выгнала ее из дому от греха.
Чуть не забыла: у вдовы еще сын имелся, погодок с дочерью. Но то ли он в это время на заработки в город ушел, то ли рыбу промышлял.
Где скиталась изгнанница до родов, не помню. А все-таки не в городе, потому что родила в скирде, ибо там нашли мертвого ребеночка. Как установили, задушенного.
Как ее разыскали, не знаю – не ходила же она кругами по лесам и долам в оборванном платье, питаясь одними ягодами. А вдруг как раз зима была? Хотя, скорее, лето или осень, раз речь о скирде в поле. Короче, ее судили и отправили в тюрьму. Там она от горя немного помешалась на время. Но свое отсидела, хоть и не слишком долго, раз вышла немногим старше двадцати лет. Домой не вернулась, устроилась в городе. А дальше у меня огромный провал в истории.
Может, она имя-фамилию сменила, может, еще что, но, встретив родного брата в городе, не признала его, как и он ее. И кончилось тем, что от большой любви они повенчались. Через несколько лет все выяснилось, но брак не расторгли. Не иначе революция подоспела с антиклерикальными настроениями и свободой выбора. В деревне к женитьбе отнеслись спокойно, то ли уморились склонять на все лады бедную дочь, то ли брак между близкими родственниками считался в их краях приличнее, чем внебрачный ребенок.
Дети, кстати, у них имелись. Совершенно полноценные.
Жить устроились в городе, где вопрос владения землей никого не волновал. То есть, буквально, они были счастливы и умерли в один день.
Какой там Маркес-сто-лет-одиночества!
Бабушка, я все забрала с собой, и потому мне некуда приехать, чтобы посмотреть на «каменные розы», что по традиции сажают у вас на кладбище.
2. Ландрин
Если бы снова прожить те дни, когда я кричала на нее или, схватив за локти, отчего на истончившейся коже проступали белые пятна, тащила в ванную отмывать неистребимый старушечий запах.
Если бы снова прожить, может, кричала бы тише?
Иногда она ошарашивала какой-то дремучей логикой. Если я расходилась из-за хлебных корок, упрятанных под подушку, спокойно заявляла:
– Ну, чего надрываешься, а еще инженер! – И ехидно добавляла, обернувшись к стенке: – Боялись мы тебя!
Отец называл ее Кати`нка, Каточек. Все говорили, что она была необычайно хороша собой, и не только в молодости, а еще очень-очень долго. Мне-то кажется, что у нее не было ни молодости, ни зрелости. Из Катинки сразу скачком превратилась в Бабу Катю, когда ее племянница родила (меня), и ей пришлось стать нянькой, а потом в Бабаньку, когда в девяностолетнем возрасте согласилась ко мне переехать, сама уже не управлялась.
У нее не было ни молодости, ни зрелости, потому что со всем этим нежным и румяным цветом лица, узкими алыми губами и маленьким прямым носом она совершенно не желала взрослеть. И взрослую – чужую – жизнь успешно отвергала. Даже ее недоброта и капризность являлись чисто детскими.
Отторжение жизни обнаружилось с женихами, они начали поступать рано, едва ей исполнилось пятнадцать. В общей сложности ее сватали тридцать восемь раз. Число имело символическое значение – последним сватался тот несостоявшийся Единственный, когда ей исполнилось как раз тридцать восемь. Наверное, посватался бы еще, год спустя, но началась война.
Впервые Единственный появляется в свеженькой подготовительной партии женихов, которую она без раздумий отвергает, как первое наступление взрослости. А он, Единственный, думает, что дело в Косте Белове, который провожает ее после «беседы», а совсем не в оборонительной, непонятной его бесхитростному деревенскому уму, позиции.
На «беседу» – деревенские молодежные посиделки – собираются в доме одной из девушек под присмотром матери. Подруги прядут и поют песни, ждут парней – выражения «молодые люди» или «юноши» не в ходу. Те появляются скопом, для храбрости. Если изба просторная, затеваются танцы, нет – поют песни вместе с парнями. Медленнее крутится веретено, прядется уж не шерсть – будущая судьба, завязывается флирт, составляются пары, выпевается любовь. После «беседы» избранницу прилично проводить. Иные по дороге завернут не туда, запутаются длинной косой в мягком сене, кому придется со свадьбой торопиться, а кому и плакать.
Катинка ходит с Костей, ведь одной ворочаться стыдно. Костя провожает, сирени цветут, вечера липки и душисты, как припасенные Костей мятные леденцы, ландрин. А Единственный ходит в соседнюю деревню Пономарицы к ее старшей замужней сестре Марии и просит уговорить Катинку замуж, а дома мачеха шумит насчет лишнего рта, но быстро отходит. У Кости есть неоспоримое достоинство – в свое время ухаживал за старшей Марией, что как бы вводит его в круг семьи, делает неопасно-чужим. В прогулках с Костей нет стремления младшей догнать старшую, никакого нарождающегося кокетства, ничего женского, лишь детское самолюбие.
Но в какой-нибудь вечер она выглядит окончательно прирученной, и Костя совершает непоправимую ошибку. Вместо того чтобы бежать к мачехе сговорить свадьбу, решает заручиться согласием невесты, хуже того, ее целует. Ужасное прикосновение чужих мокрых губ она будет вспоминать и в девяносто шесть, когда черты Костиного лица растворятся в ее памяти. А сегодня – стремглав мчится домой до крови оттирать губы водой и золой. И мрачный Костя клянет день, когда обратился душой к этим сестрам, что не помешает ему через пять лет ухаживать, также безуспешно, за младшей Тоней. А Единственный тихо радуется Костиной отставке и караулит ее за гумном.
Время идет, мачеха настроена решительно, и Катинка собирается в батрачки, от греха подальше. Единственный рассчитывает верно, ждет до отъезда, надеясь, что ее маленькое, как леденец, сердце дрогнет хотя бы перед выбором: работать на чужих или на собственную семью. Да не учел, что другая семья – не ее клана, никогда не будет считаться ею собственной. Когда он повторно сватается вместе с Федей-пропойцей, Феде отказывают из-за пьянства, а ему заодно.
Татьяна Георгиевна Алфёрова
Новая книга Татьяны Алферовой – это сборник рассказов, состоящий из нескольких циклов. «Память по женской линии» – своего рода история семьи, из поколения в поколение обрастающая легендами и преданиями: тут и Рыбинск начала ХХ века, и послевоенный Ленинград. «Неомифологический словарь» – цикл рассказов о том, как герои известных мифов выглядели бы сегодня, окажись они в наши дни рядом с нами, и об обычных людях, поступающих, как персонажи мифов. «Рассказы, написанные осенью» – большей частью автобиографические зарисовки, забавные или печальные по обстоятельствам.
Татьяна Алферова
Память по женской линии
© Татьяна Алферова, 2023
© ООО «Издательство К. Тублина», 2023
© А. Веселов, оформление, 2023
www.limbuspress.ru (http://www.limbuspress.ru/)
Память по женской линии
Я последняя хранительница памяти нашей семьи. Той памяти, что передавалась из поколения в поколение по женской линии, от матери к дочери. Некогда огромная семья до сих пор внушительна: у меня десять племянников, но своих детей нет, и линия прервалась. Женщины играли ведущую роль не обязательно в силу характера, порой за счет количества. В третьем колене их было три – три сестры. Старшая – Мария, моя бабушка. Средняя – Катерина и младшая – Антонина не продолжили рода.
Такое важное женское понятие, как семья, у каждой висело в рамочке на почетном месте, а вот любовь обдувалась ветерком во дворике. Это не означает, что они не мечтали об избраннике, но один принц вполне подлежал замене другим. Унаследованное свойство, традиция. Со смехом, но более с гордостью, передавалась история сватовства прабабушки Анны. К безземельной сироте, живущей у крестного отца, посватались сразу четверо. Ответ отложили на следующий день, до утра. Тетка Пелагея, жена крестного, искрутилась на лавке, а прабабушка спит себе на полатях. Но тетка не обладала безмятежной сонливостью, которая будет передаваться по наследству, как память, и поэтому сердито шептала снизу:
– Анна, спишь, что ли?
– Сплю, Кока, сплю.
И в конце концов:
– Да ты не спи, Анна, думай, за кого идти-то!
Отдали, конечно, за самого богатого.
Оборачиваясь, обнаруживаешь прошлое сахарным. Решения принимались легче и быстрее. Их поступки, увеличенные биноклем времени, кажутся полновеснее наших. И разумнее. Несмотря на то, что они промахивались, даже если выбирали богатых. Жизнь складывалась из бесконечной работы, а память хранила, в основном, историю отношений.
1. Каменные розы
Бабушка умерла, и я прокатила родственников с наследством. Я забрала не только фаянсового теленка, который каждое утро, пока я была маленькой, приносил в копытцах горошину обсыпанного сахаром драже, но и весь город. Город с непременным городским садом, желудями и черемухой, с центральной улицей, где обосновалась местная сумасшедшая, умещавшая в одном выкрике-предложении целые истории:
– Она бегала с бритвой по переулку, когда за ним пришли!
И двор, бабушкин двор, я забрала со всеми дровяными сарайчиками и пристройками, со старой квартирой, помещавшейся в каретном сарае бывшей купеческой усадьбы. В центре двора стояла маленькая покосившаяся мазанка, там жил Универсам. Так прозвал его мой дед за «помоечный» промысел. С утра Универсам с тележкой совершал обход мусорных баков по всему району, к обеду возвращался нагруженный, тяжело стуча разномастными колесиками по булыжной мостовой. Через тридцать лет этот промысел повсеместно освоят бомжи. По смерти Универсама осталась полуслепая жена Раечка, взятая им «из тюрьмы» после войны. Выпив, она часто пела странные будоражащие песни. Некоторые из них я встречу позже в сборниках «Русский городской романс» и «Споем, жиган». На семидесятом году у Раечки появился молодой двадцатишестилетний кавалер. Пока хватало Раечкиной инвалидной пенсии по зрению, они пили «белое» и вместе пели по вечерам, когда пенсия кончалась, переходили на «синюху» – средство для мытья окон; иногда дрались. Во дворе давно перестали об этом судачить, привыкли.
Загадкой оставалась лишь Дуся, живущая не в каретном сарае, как все, а в старом господском доме с полуразрушенным вторым этажом. Она выходила из дому раз в сутки, ненадолго: вынести мусорное ведро и покормить кошек. Во дворе обреталась целая орава серых, рыжих, полосатых и муаровых Васек и Мусек. Как говорит знакомый кошковед: «Порода помоечная, мелкобашковая». Где Дуся брала еду или, допустим, спички, не ходя на улицу, – не знаю. Дровяные некрашеные сараи в то время не зияли провалами и скрывали массу удивительных вещей – в дедушкином я нашла слегка объеденного мышами «Дон Кихота». Он пах подберезовиком и сыроежками, это был восхитительный запах.
Я приезжала на время летних каникул. Темнело рано, и вечерами мы перематывали шерсть. Я растягивала пряжу на руках, а бабушка мотала клубок и рассказывала истории, каждый вечер по одной. Большей частью о наших родственниках, населявших, похоже, половину Рыбинска. Прабабка со стороны деда, не нашей женской линии, родила одиннадцать сыновей, и все, кроме последнего, выжили, я имею в виду – из младенцев. Потом-то погибли, кто в германскую, кто в финскую, кто в Отечественную. Мой дед, младший из братьев, дожил до девяноста и умер от пневмонии. Все оставили наследников. Я не знаю даже имен.
Бабушкины истории могучими ударами сокрушали литературу. Вряд ли она выдумывала сюжеты, описаний не давала, характеристики персонажей выводила крайне скупо. Может быть, поэтому истории ошеломляли.
Я забрала их с собой, как город, но в той моей памяти, памяти десятилетней школьницы, они сохранились неотчетливо.
К примеру, образ дочери вдовы вижу ярко, почти как мост через Черемуху или пожарную каланчу, но подробностей не соберу. Да ведь от каланчи в памяти тоже остались: галки на белых наличниках и струи воды перед воротами, когда пожарные мыли машины, – ни фактуры стен, ни точного их цвета.
А вдова сделалась вдовой еще до революции. Какая-то очередная моя родственница из девятнадцатого века. Ко всем прочим неприятностям, бобылка, безземельная. Дочерей вдова нарожала не меньше трех, число неважно, ведь речь об одной, старшей и самой красивой. В крестьянских семьях старшие дети частенько вырастали самыми красивыми, рослыми и сильными, успевая родиться, пока родители их еще любили друг друга без повседневной неизбежной привычки, не то ненависти от трудного быта, тяжкой работы. Нынче не проверишь: либо детей мало – ну, один, много два, либо любовь и семья уж очень отличаются от тех патриархально-крестьянских. Это я не иронизирую, это я по-честному.
И эта вот дочь, достигнув определенного возраста, стала пользоваться успехом не только в своей деревне, но и в трех соседних. Вдова возложила на нее большие надежды: выгодная партия, все как положено. Наконец-то, паче чаяния, своя землица появится. Но город Рыбинск недалеко, при желании – пешком дойти, а желание у дочери присутствовало, у кого его не будет-то от скуки и тяжести полевых работ, тем более на чужом поле. В городе, как водится, нашелся молодой купец. Дальше по схеме: любовь, угроза мезальянса, разгневанные и богатые родители. Ну, мальчишка и струсил. Лет ему, надо полагать, ненамного больше, чем ей, а ей исполнилось шестнадцать.
Месяца через три-четыре вдова замечает, что с дочерью неладно: тошнит по утрам, и на соленые огурчики аппетит прорезался. Положение у вдовы пиковое. Во-первых, позору не оберешься, очень непринято это было, видать, в той деревне. Может, глобальное пробуждение достоинства в народе после отмены крепостного права или еще чего. Но не принято, и все. Во-вторых, материальная сторона вопроса. И так трех девок кормить-одевать, а тут еще будущий младенец. Вдова с месячишко поплакала, пока уже заметно не стало у дочери-то, да и выгнала ее из дому от греха.
Чуть не забыла: у вдовы еще сын имелся, погодок с дочерью. Но то ли он в это время на заработки в город ушел, то ли рыбу промышлял.
Где скиталась изгнанница до родов, не помню. А все-таки не в городе, потому что родила в скирде, ибо там нашли мертвого ребеночка. Как установили, задушенного.
Как ее разыскали, не знаю – не ходила же она кругами по лесам и долам в оборванном платье, питаясь одними ягодами. А вдруг как раз зима была? Хотя, скорее, лето или осень, раз речь о скирде в поле. Короче, ее судили и отправили в тюрьму. Там она от горя немного помешалась на время. Но свое отсидела, хоть и не слишком долго, раз вышла немногим старше двадцати лет. Домой не вернулась, устроилась в городе. А дальше у меня огромный провал в истории.
Может, она имя-фамилию сменила, может, еще что, но, встретив родного брата в городе, не признала его, как и он ее. И кончилось тем, что от большой любви они повенчались. Через несколько лет все выяснилось, но брак не расторгли. Не иначе революция подоспела с антиклерикальными настроениями и свободой выбора. В деревне к женитьбе отнеслись спокойно, то ли уморились склонять на все лады бедную дочь, то ли брак между близкими родственниками считался в их краях приличнее, чем внебрачный ребенок.
Дети, кстати, у них имелись. Совершенно полноценные.
Жить устроились в городе, где вопрос владения землей никого не волновал. То есть, буквально, они были счастливы и умерли в один день.
Какой там Маркес-сто-лет-одиночества!
Бабушка, я все забрала с собой, и потому мне некуда приехать, чтобы посмотреть на «каменные розы», что по традиции сажают у вас на кладбище.
2. Ландрин
Если бы снова прожить те дни, когда я кричала на нее или, схватив за локти, отчего на истончившейся коже проступали белые пятна, тащила в ванную отмывать неистребимый старушечий запах.
Если бы снова прожить, может, кричала бы тише?
Иногда она ошарашивала какой-то дремучей логикой. Если я расходилась из-за хлебных корок, упрятанных под подушку, спокойно заявляла:
– Ну, чего надрываешься, а еще инженер! – И ехидно добавляла, обернувшись к стенке: – Боялись мы тебя!
Отец называл ее Кати`нка, Каточек. Все говорили, что она была необычайно хороша собой, и не только в молодости, а еще очень-очень долго. Мне-то кажется, что у нее не было ни молодости, ни зрелости. Из Катинки сразу скачком превратилась в Бабу Катю, когда ее племянница родила (меня), и ей пришлось стать нянькой, а потом в Бабаньку, когда в девяностолетнем возрасте согласилась ко мне переехать, сама уже не управлялась.
У нее не было ни молодости, ни зрелости, потому что со всем этим нежным и румяным цветом лица, узкими алыми губами и маленьким прямым носом она совершенно не желала взрослеть. И взрослую – чужую – жизнь успешно отвергала. Даже ее недоброта и капризность являлись чисто детскими.
Отторжение жизни обнаружилось с женихами, они начали поступать рано, едва ей исполнилось пятнадцать. В общей сложности ее сватали тридцать восемь раз. Число имело символическое значение – последним сватался тот несостоявшийся Единственный, когда ей исполнилось как раз тридцать восемь. Наверное, посватался бы еще, год спустя, но началась война.
Впервые Единственный появляется в свеженькой подготовительной партии женихов, которую она без раздумий отвергает, как первое наступление взрослости. А он, Единственный, думает, что дело в Косте Белове, который провожает ее после «беседы», а совсем не в оборонительной, непонятной его бесхитростному деревенскому уму, позиции.
На «беседу» – деревенские молодежные посиделки – собираются в доме одной из девушек под присмотром матери. Подруги прядут и поют песни, ждут парней – выражения «молодые люди» или «юноши» не в ходу. Те появляются скопом, для храбрости. Если изба просторная, затеваются танцы, нет – поют песни вместе с парнями. Медленнее крутится веретено, прядется уж не шерсть – будущая судьба, завязывается флирт, составляются пары, выпевается любовь. После «беседы» избранницу прилично проводить. Иные по дороге завернут не туда, запутаются длинной косой в мягком сене, кому придется со свадьбой торопиться, а кому и плакать.
Катинка ходит с Костей, ведь одной ворочаться стыдно. Костя провожает, сирени цветут, вечера липки и душисты, как припасенные Костей мятные леденцы, ландрин. А Единственный ходит в соседнюю деревню Пономарицы к ее старшей замужней сестре Марии и просит уговорить Катинку замуж, а дома мачеха шумит насчет лишнего рта, но быстро отходит. У Кости есть неоспоримое достоинство – в свое время ухаживал за старшей Марией, что как бы вводит его в круг семьи, делает неопасно-чужим. В прогулках с Костей нет стремления младшей догнать старшую, никакого нарождающегося кокетства, ничего женского, лишь детское самолюбие.
Но в какой-нибудь вечер она выглядит окончательно прирученной, и Костя совершает непоправимую ошибку. Вместо того чтобы бежать к мачехе сговорить свадьбу, решает заручиться согласием невесты, хуже того, ее целует. Ужасное прикосновение чужих мокрых губ она будет вспоминать и в девяносто шесть, когда черты Костиного лица растворятся в ее памяти. А сегодня – стремглав мчится домой до крови оттирать губы водой и золой. И мрачный Костя клянет день, когда обратился душой к этим сестрам, что не помешает ему через пять лет ухаживать, также безуспешно, за младшей Тоней. А Единственный тихо радуется Костиной отставке и караулит ее за гумном.
Время идет, мачеха настроена решительно, и Катинка собирается в батрачки, от греха подальше. Единственный рассчитывает верно, ждет до отъезда, надеясь, что ее маленькое, как леденец, сердце дрогнет хотя бы перед выбором: работать на чужих или на собственную семью. Да не учел, что другая семья – не ее клана, никогда не будет считаться ею собственной. Когда он повторно сватается вместе с Федей-пропойцей, Феде отказывают из-за пьянства, а ему заодно.