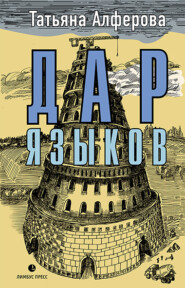По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Территория Евы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
макая всякого в определенный срок.
В летейских водах пестрая пыльца
мешается с хитиновым покровом,
захочешь разделить – родись Хароном
и смерть лови на леску на живца.
«Флоренция, надменная старуха…»
Флоренция, надменная старуха,
не ярость копит – вековую ругань.
Со всех углов, со всех сторон брюзгливый Дант.
Одна усталость – яростный талант.
Не отличу фасада от фасада:
дома – как черти, плоские вне ада.
Идти. И я иду куда-нибудь.
Судьбу маршрута не переобуть.
Слепые манекены вслед хохочут
над тем, как спотыкаюсь к Санта-Кроче.
Здесь колокольня высока, как мода,
и обе недоступны для народа.
Флоренция терзает, как мозоль,
и, сколь ты троп туристских ни мусоль,
останешься, чужая, в дураках,
с грошовым сувенирчиком в руках.
Вслед расщеперив створчатые ставни
Флоренция еще надменней станет.
«Усталый Рим, и усталость по всем статьям…»
Усталый Рим, и усталость по всем статьям.
Особенно ноги гудят. Под блузкою – пекло.
Дороги запутаны, как строка, как здешний тимьян,
что кверху по стенам длится и тянется блекло.
Уже улыбнулась волчица: зеленый оскал,
зеленый загривок, в сосцах запутались дети.
Возможно, ты что-то особенное искал?
Возможно, дороги? Но только не эти.
От вечности нас милосердно спасет суета.
Подумать-то жарко, что б стало – замри у дороги…
И задним числом догадаешься: именно та.
Буквально стоял, то есть шел
у нее на пороге.
«Вновь июнь прошивают щеглы…»
Вновь июнь прошивают щеглы,
реет в воздухе желтая стежка.
Лгут предметы, зря падает ложка:
нет гостей. Обступают углы,
стены сходятся – шаг не ступи,
летний дом – нескончаемый угол —
словно света, обид накопил,
пруд ночами ярится, что уголь.
Отзвонившись, друзья за «алло»
успевают простить и проститься,
имена завернутся страницей: