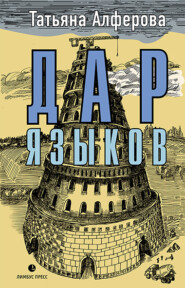По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Территория Евы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
эту спешку, подорожники.
Остаешься – в сердце выдолбы
и с ладонями порожними.
3
Оставь наконец этот выдох,
пусть радугой тянется вдох;
вот-вот задохнешься и выдашь —
июль входит в траурный док;
и август торопит бесслезный —
он, царственный, ждать не привык,
уже наливаются звезды,
кончается летний дневник.
«Вопрошать с кокетством живых у мертвых…»
Вопрошать с кокетством живых у мертвых
«как вы там?» – не то «как без вас теперь?»,
опошляя строку в заученных твердых,
то есть «гнать» и «видеть, держать, терпеть»…
У несчастья глаголов немного, разве
на один, безысходный, от счастья в плюс:
«умереть», а дальше с полудня праздность,
никуда сегодня не тороплюсь;
не напиться: похоже, коньяк стерилен,
то есть мне без градусов им «дышать»,
то есть что б о спряженьях ни говорили,
«ненавидеть» проще, чем «возвышать»;
и от серых выдохов угорая,
от верченья мышей на могиле льва
догадаешься: смерть – вторая,
а молва – вообще нулевая,
только Он и умел для края,
для предела найти слова.
«Осень скачет, скачет осень сама…»
Осень скачет, скачет осень сама,
с нею ветер – у груди злой шаман;
разгуляться, раскидать все дома,
чтоб соперница не скрала – зима,
чтоб не скрыла под периной тугой
кровь и золото, тот свет дорогой.
Чтобы всё прожить сейчас, оборвать,
колыбелью прирастает кровать:
хочешь, в мае, хочешь, летом роди —
и другой шаман вскричит у груди.
«Слепая суета в просторном стойле лета…»
Слепая суета в просторном стойле лета,
крушение жары, осоки вошкотня,
биение смолы в грудных еловых клетках
и выцветший узор оконного огня.
Толкается, орет летающая мелочь,
такая же – что здесь, что посреди войны,
которая опять прерваться не сумела,