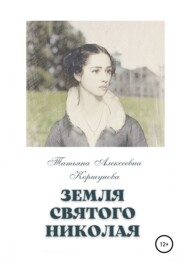По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Непобедимая буря
Год написания книги
2005
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дмитрий уединился с Марией у клавикорда. Брата оставил на растерзание «премудрой бабушке», будущей тёще и прочим. Впрочем… бледненькая носатая Сонечка молчала – оно и понятно: подросткам в домостроевских семьях права говорить не предоставляют. А вот старшая сестра Анна, двадцати лет от роду, словно сошла со страниц «Ночных этюдов» Гофмана. Новенькая книжка – только в прошлом году была выпущена, надо бы дать Дмитрию прочесть ради забавы. Хотя, зачем ему?..
Анна… Чернобровая красавица с мёртвыми глазами. Впору влюбиться Натаниелю[1 - Натаниель – герой новеллы Э. Т. А. Гофмана "Песочный человек".]. Василий же с первого взгляда понял, что эта девушка не для него. Как понял – он объяснить бы не смог. Как не может объяснить писатель, почему одни идеи захватывают его, а другие нет. Анна просто вошла, просто села у окна с полотном в пяльцах. Девица в обществе должна же чем-то себя занимать, чтобы не пришлось задавать вопросы или, чего доброго, отвечать самой. Вот она и втыкала-тянула иголку ритмическими марионеточными движениями.
То же рядом с Василием на розовом диване старалась и её мать Прасковья Даниловна. Только делала собачьи глазки (верно, чтобы маменьке понравиться, на пятом десятке лет, – та же любила собак), тянула губы по-французски и говорила тихо и нараспев:
– А вы, Василий Александрович, кто?
– Я?..
– Брат ваш – выпускник Императорского Московского университета, будущий губернский секретарь и владелец имения. А вы – кто?
– А я никто.
Агриппина Ивановна посмотрела на него из-под нависших век. Просто посмотрела. А что?
В русских семьях любят хвастаться. Пока талдычили что-то про гувернантку, что Софья уж три года как без неё живёт, а музыке её обучает крепостной, которого отправляли куда-то за образованием, Василий думал. Всенепременно заставят одну из девиц для него сыграть. Интересно, что у них в ходу? Клавикорды? Гитара?
Не угадал. Арфа! Сонечка, закусив кончик языка, задевала струны большими руками – в сереньком платье, сама вся серая: жёлтые волосы жидкие, прилизанные. Но старалась! Нота за нотой. Закончила. Потупила бесцветные глаза. Пожалуй, стоило порадовать ребёнка рукоплесканиями.
К ужину подали щи с яйцами вкрутую, огромную щуку вполстола, телятину, запечённую со шпинатом. Василий, усаженный напротив Агриппины Ивановны, надломил хлеб на блюдце. Взгляд хозяйки прирос к его правой руке с золотой печаткой на мизинце. «На безымянном пальце кольца нет. Как и на левой руке…»
– Так вы, говорите, четыре года путешествовали, – она разбила в зелёном бульоне ком сметаны серебряной ложкой. – На что же вы жили в Европе?
– Я распродал земли – свою часть наследства.
– А как же вы намеревались существовать, когда вернётесь, не имея дохода с земли?
– Я не собирался возвращаться.
– Почему же вернулись?
– Разочаровался.
Прасковья Даниловна покачала головой вправо-влево, вправо-влево… Агриппина Ивановна повела густой бровью, держа нож в правой руке, вилку в левой:
– И что же – теперь, когда у вас ни копейки? На доходы брата рассчитываете? Или разъезжаете по гостям в поисках богатой невесты?
– Деньги у меня есть. Я не имею страсти к расточительству.
– А по вашему английскому платью – так и не ска-ажешь, – пропела Прасковья Даниловна.
– Одежда не всё говорит о человеке, – и правой рукой с печаткой на мизинце Василий разрезал филей на кусочки – и поменял нож на вилку. Как привык в обществе английских литераторов.
Агриппина Ивановна перестала жевать. Наблюдала.
– В этом я с вами согласна, – она промокнула полные губы салфеткой. – Судить по одной наружности немудро.
– По мне, так судить и вовсе не мудро.
– Вот и не судите! – она ткнула пальцем через стол. – Это грех!
– Василий – как наш папенька покойный, – улыбнулся Дмитрий. – Тот тоже лишних растрат не любил.
– Но накопительство – это грех! – ахнула Агриппина Ивановна.
– На скопленные деньги отец построил часовню при въезде в наши земли с большой дороги, – Василий выстрелил в неё тёмными, как пушечные ядра, глазами.
– Ну и что? Всё равно – это грех стяжательства. О том у Апостола Павла говорится.
***
Братья поднялись в коляску, уселись на чёрное бархатное сиденье. Вечерний воздух посвежел. Солнце рисовалось за берёзовой рощей красным чётким кругом, тускло-огненная заря оттеняла силуэты облаков.
– Федот, откинь верх! – приказал Василий кучеру.
– Не пошёл бы дождь, – Дмитрий поднял ресницы к небу. Почти как поэт.
– Пусть.
Без крыши запахло распылённой влагой и заснувшими тюльпанами.
Скрипнули оглобли.
Над чёрными цилиндрами проплыла арка усадебных ворот.
– Ну, как тебе моя Мария? – цветущий маком Дмитрий заглянул в меланхоличное лицо брата.
– Мария красива. Но уж слишком послушна. Как её маменька. Впрочем…
– Это плохо?
– Для тебя, может быть, и неплохо… Смотря кого она будет слушаться. Я б сказал тебе, братец, – Василий пожал ему руку, – если ты так любишь свою Марию, лучше тебе жить с нею подальше отсюда!
– Почему?
– Додумайся сам. Говорить не буду. «Судить – это грех!»
– Уф-ф… Ну, а которая из сестёр больше понравилась тебе?
– Правду сказать, мне ни одна не понравилась, – Василий глядел на закат. – Все они слишком задавлены. В старшей совершенно нет живого, а Софья ещё мала и, с виду, не вполне здорова…
– Ох! Да существует ли женщина, которая пришлась бы тебе по вкусу?
– Не существует. Уймись.
– У них через две недели бал. Поедешь?
– Бал? У них денег нет гувернантку младшей нанять – и такая роскошь.