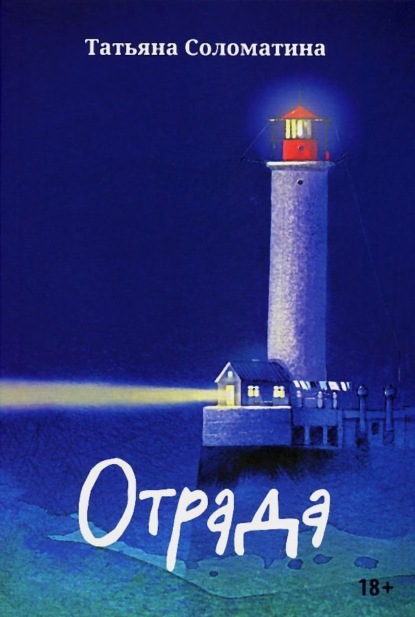По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отрада
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мой одесский язык хорош тем, что благодаря всем этим пляжам, афишам, крестам, взлётам и падениям, бассейну «Динамо», медицинскому институту имени величайшего русского хирурга Николая Ивановича Пирогова, консерватории имени Неждановой и вечно разрушенной кирхе наискосок от неё, улицам и улочкам, дворикам, переходикам, мальчикам и девочкам из «хороших» и «плохих» семей, здоровым и больным – я научилась понимать. И благодаря тому же – редко когда соглашаться с очевидным.
– Девочка, ты понимаешь, шо не надо два часа сидеть в холодной воде?
– Понимаю.
– Так чего ты туда лезешь и там сидишь? Ты же заболеешь!
– А я так закаляюсь, чтобы вы все уже были здоровы!
Дороги, которые не мы выбираем
Родилась я восьмого июля 1971 года в четвёртом родильном доме на Пересыпи. У мамы начались схватки, а папа был в ДНД.
О том, что такое роды, как они начинаются, развиваются и завершаются, мама знала: в 1963 году она родила моего старшего брата в шестом родильном доме в Парке Шевченко. И поэтому родов мама боялась. Но папа был в ДНД. Добровольной Народной Дружине. Добровольной она была очень условно, честнее было бы назвать её Принудительной Народной Дружиной. Но в те времена любой, осмелившийся публично и громко обозначить ДНД как ПНД, мог быть поставлен на учёт в Психоневрологический диспансер (ПНД). Впрочем, времена были не суровые, поэтому среди своих дружину называли ПНД. Это я, разумеется, значительно позже узнала, а когда решила появиться на свет, то ничего такого решительно не понимала. Помню, мною овладело беспокойство, охота к перемене мест…
Мама боится родов, потому что мамам всегда спокойнее, когда дети при них. Но папа в ДНД. Мобильных телефонов нет. Вообще. В природе. У нас тогда и домашнего не было. Это по рассказам родных и близких. Но с тех пор, как я себя помню – в квартире по адресу Проспект Мира угол Чкалова, у нас всегда был домашний телефон. Двадцать два – восемьдесят девять – восемьдесят два.
Господи, сколько номеров и дат я забыла! А этот помню: двадцать два – восемьдесят девять – восемьдесят два. Зелёный аппарат, прозрачный диск с дырочками. Указательным пальцем попеременно якоримся в соответствующее гнездо и крутим.
Пыр-пыр – пыр-пыр – пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр – пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр – пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр – пыр-пыр…
Лирическое отступление.
Всю жизнь удивляюсь: звонок себе всегда остаётся без ответа. Как к Богу.
Набираешь собственный номер – занято. Вот что нас с Ним отличает!
Казалось бы, если с кем и стоит общаться в первую очередь – с самим собой. А в ответ только ритмичная серия коротких гудков. Редко кто способен на конструктивный диалог с собственным «я». Не прорвёшься сквозь монотонный затяжной ливень внутреннего монолога: ту-ту-ту-ту-ту…
Конец лирического отступления.
Поскольку Зелёный Пыр-Пыр всегда был в моей жизни, значит, он появился вскоре после моего рождения.
А когда я собралась рождаться – телефона не было. Так что мама даже такси не могла вызвать. Да и вызывать такси по телефону в Одессе 1971 года было затеей безнадёжной. Даже будь у нас телефон, мама не смогла бы позвонить собственной маме, потому что у той тоже не было телефона. И чем бы моей маме помогла её мама, если моя мама на проспекте Мира, а мамина мама – на Шестнадцатой Станции Большого Фонтана, да ещё и с моим старшим братом и с целым кагалом гостей из разных городов?
Поэтому моя мама собралась, вышла из нашего проходного двора сразу на Чкалова, поднялась квартал наверх, к Советской Армии (к морю – вниз, от моря – наверх), и села на третий трамвай. Понятия не имею, почему меня повезли рождаться на Пересыпь, если брат был рождён в Парке Шевченко? Может быть, одесский шестой родильный дом был закрыт на помывку (или, как говорят в Москве – «на мойку»)? А может, маме третий трамвай, идущий на Пересыпь, нравился больше третьего троллейбуса, идущего в Парк Шевченко, причём остановка его была тогда всё на той же улице Чкалова, полквартала не доходя до Советской Армии? Не знаю. Но мама села на трамвай и поехала. Вышла на конечной, немного прошлась. И позвонила в двери приёмного покоя. Её впустили без второго слова.
В ту ночь в четвёртом родильном доме вообще мало говорили. У врачей были шальные сутки. В одном физиологическом родильном зале, куда маму молча и быстро направили, случилось пятнадцать родов за смену. Небывалый бэби-бум случился восьмого июля 1971 года на Пересыпи. Врачи охрипли и потому зря слов на ветер не бросали.
Я родилась и сперва ничего не поняла. Чувствую – родилась уже. Но всё ещё по-прежнему. Тепло, уютно и вода. Всё, как через…
– Рубашку! Рубашку вскрой, балда!.. Прочь, я сам!
Воду спустили. И через мгновение у меня всё стало как у всех. Холодно. Меня старый еврей поперёк тельца держит голой волосатой рукой без перчатки. А у меня голова такая тяжёлая, что я даже возмутиться не могу. Только в зобу дыханье спёрло. Понимаю, что если сейчас не заору, то задохнусь от ярости: последнюю рубашку содрали! То есть – первую. И я заорала.
– Ты посмотри на неё, она ещё и басом ругается, вместо того чтобы дядьке спасибо сказать, что вовремя мимо пробегал. Судя по обстоятельствам твоего рождения, всё и всегда в твоей жизни будет необычайно вовремя. Всем будет казаться, что уже швах, а ты – бац! – и в профите.
Поднял меня старый еврей, как поросёнка на базаре, и маме моей говорит:
– Видишь? Девочка. Счастливая, что таких уже немножко перевелось. Я роды в «рубашке» только у цыганок видел. Ещё у коз довелось. А у белых женщин с высшим образованием – никогда. Ты хоть понимаешь, мать, что такое родиться в «рубашке»? Ты думаешь, что? Пословицы с поговорками из шухлядки достают? Надо – бери! Нет – удочерю!
Мама не то смеётся, не то плачет, руки к дядьке доктору тянет, а я думаю: «Где же она, моя рубашка?! Мне без неё холодно! Не успела на свет родиться, как уже раздели на той Пересыпи!»
– Ладно-ладно, шучу. Бери своего цурипопика[3 - Несмышлёныша.]. Спасибо скажи, что я тут мимо пробегал.
Положил меня маме на грудь, прикрыл одеялом, и дальше я ничего не помню. До самого Зелёного Пыр-Пыра не помню. Потому что от тепла, сытости и покоя интеллект отшибает напрочь!
Мама рассказала, что врачи забегались, потужной период начался в коридоре на каталке, и роды молоденькая акушерка принимала. Ну как «принимала» – охала и ахала от страха, потому что только на днях из медучилища. В основном звала на помощь старших товарищей. А когда я в чудном радужном околоплодном пузыре появилась, она от ужаса не знала, что делать. Но тут мимо заведующий отделением пробегал. Хоть и без перчаток, но вовремя. Потому что моя мама всё-таки не коза и плодный пузырь вскрыть бы не догадалась. Потому что человек в иных вопросах соображает куда меньше животного. Юная акушерка на плакатах про рождение ничего такого не видела. А в учебниках было написано про «воды излились». Раньше ли, во время схваток, позже ли – во время потуг, – но излились. У мамы моей – не излились. Очень плотный был околоплодный пузырь. В крепкой меня родили «рубашке». Домотканной.
Через три дня нас с мамой выписали. Папа уже не был в ДНД и привёз распашонки, чепчики, розовые ленты и прочие девичьи глупости. Меня во всё это нарядили. Говорят, я орала густым басом. Я не помню ни факта ни причины, но уверена, что требовала нарядить меня в родную рубашку, а не запаковывать в праздничный торт.
Мама с папой вышли из родильного дома и решили поймать такси. Потому что ехать со свежим праздничным тортом в летнем одесском трамвае – негигиенично. Слева была улица Богатого, справа – улица Московская. Если стоять спиной к фасаду родильного дома. Если лицом, то справа – Богатого, слева – Московская. Движение по обеим улицами было двустороннее. Мама с папой покрутились-покрутились и пошли ловить такси на Московскую.
Меня никто не спросил, но результатом я довольна.
Я действительно счастлива. С тех самых пор, как родилась.
Хотя не единожды, слишком не единожды я попадала в ситуации, после которых если не панихида с эпитафией, то только и говорить: «Родилась в рубашке». Потому там, где другим полный швах – я в профите.
Что я могу сказать? Только то, что это чистая правда.
Зелёный пыр-пыр
У него был совершенно очаровательный тембр. Драматический тенор с порочной хрипотцой.
Он взирал на меня с недосягаемой высоты. Я была слишком юна и ползала у его ног, с интересом поглядывая. Он отвечал мне взаимностью. Безо всяких этих глупых взрослых бесчувственных «ути-пути» и ненавистной, тошнотворной «козы рогатой», а как-то пристрастно-нежно и в то же время отрешённо-отстранённо. У него были свои дела, но он был частью моего мира. У меня тоже были свои дела, но и я была частью его мира.
Я ползала не совсем у его ног, потому что у него ног не было. Я ползала у ножек его столика. Но столик был – в моём сознании – интернированной сущностью этого загадочного существа. И поэтому совсем-совсем им. Нога, с точки зрения Аристотеля, интернированная сущность человека. И самостоятельной сущностью не станет, даже если её ампутировать. Сто раз очень и очень красивая нога не станет самостоятельным существом. Столик был бесподобным. Я не скажу, каким. Не опишу. Нечто бледно-серо-бирюзовое там, высоко, с изогнутыми подножиями. Видимо, это было чугунное литьё. Точнее сказать не могу. К тому моменту, как я смогла говорить точнее, столик выкинули. Печальная история. Я плакала, но мне было стыдно сказать почему. Из-за телефонного столика умные девочки не плачут. Из-за платья, или из-за куклы – сколько угодно, и это всем понятно. Но рыдать взахлёб из-за телефонного столика? Нонсенс. Мои родители считали меня очень странной девочкой. Но они бы устали меня считать, если бы знали, что я рыдала из-за телефонного столика.
А тот, кто восседал на столике, был не совсем зелёный. Скорее цвета морской волны. Но я тогда таких цветов не знала. И папа мой не знал. Потому что именно папа сказал мне, что объект моего пристального интереса – зелёный. О том, что он живой, – я догадалась сама. Когда он запел.
Папа подошёл, взял его за руку, приложил эту его единственную руку к своему уху и сказал:
– Аллё! Слушаю!
Почему-то когда папа сказал это, Зелёный Пыр-Пыр перестал петь.
– Её нет, будет к восьми, звоните позже, – проговорил папа в его руку и положил её на место. – Это – телефон! – папа поймал мой восхищённый взгляд, брошенный с пола на недосягаемую для меня высоту. – Хочешь послушать?
Он снова снял его руку и протянул её мне. Рука Зелёного Пыр-Пыра оказалась приделанной к витому колечками шнуру. Я схватилась цепкой ладошкой за «руку» и… оказалась лицом в паркете. Увы и ах, я умела только ползать, и мне требовались все четыре точки опоры, чтобы земля подо мною не переворачивалась. Я зарыдала. Не столько от боли, сколько от досады. Но руку Зелёного Пыр-Пыра из своей не выпустила. Мой незадачливый папа долго уговаривал меня вернуть ему зелёную руку, называя её неправильно – «трубкой». Он приводил смешные аргументы, мол, ему сейчас должны звонить, и если не положить руку Зелёного Пыр-Пыра на место, будет всё время занято. Конечно, занято! Его рука занята мной! Зелёный Пыр-Пыр – мой!
Через полчаса папа догадался сменить тактику и пообещал, что если я отпущу руку Зелёного Пыр-Пыра, тот для меня обязательно споёт. Папа, правда, говорил, что Пыр-Пыр для меня «позвонит», и я ещё очень долго путала слова «петь» и «звонить».
Папа не обманул. Зелёный Пыр-Пыр запел спустя какой-то час. Или два. Всё это время я просидела на полу, не отпуская папу. Папа, кажется, был недоволен, но я всегда умела уговаривать мужчин. Громким криком или (если крик не действовал) слезами.
– Пыр-Пыр! – радостно расхохоталась я, когда он запел.
– Да-да, он зелёный! – согласился папа, хотя я вовсе не это имела в виду.
– Девочка, ты понимаешь, шо не надо два часа сидеть в холодной воде?
– Понимаю.
– Так чего ты туда лезешь и там сидишь? Ты же заболеешь!
– А я так закаляюсь, чтобы вы все уже были здоровы!
Дороги, которые не мы выбираем
Родилась я восьмого июля 1971 года в четвёртом родильном доме на Пересыпи. У мамы начались схватки, а папа был в ДНД.
О том, что такое роды, как они начинаются, развиваются и завершаются, мама знала: в 1963 году она родила моего старшего брата в шестом родильном доме в Парке Шевченко. И поэтому родов мама боялась. Но папа был в ДНД. Добровольной Народной Дружине. Добровольной она была очень условно, честнее было бы назвать её Принудительной Народной Дружиной. Но в те времена любой, осмелившийся публично и громко обозначить ДНД как ПНД, мог быть поставлен на учёт в Психоневрологический диспансер (ПНД). Впрочем, времена были не суровые, поэтому среди своих дружину называли ПНД. Это я, разумеется, значительно позже узнала, а когда решила появиться на свет, то ничего такого решительно не понимала. Помню, мною овладело беспокойство, охота к перемене мест…
Мама боится родов, потому что мамам всегда спокойнее, когда дети при них. Но папа в ДНД. Мобильных телефонов нет. Вообще. В природе. У нас тогда и домашнего не было. Это по рассказам родных и близких. Но с тех пор, как я себя помню – в квартире по адресу Проспект Мира угол Чкалова, у нас всегда был домашний телефон. Двадцать два – восемьдесят девять – восемьдесят два.
Господи, сколько номеров и дат я забыла! А этот помню: двадцать два – восемьдесят девять – восемьдесят два. Зелёный аппарат, прозрачный диск с дырочками. Указательным пальцем попеременно якоримся в соответствующее гнездо и крутим.
Пыр-пыр – пыр-пыр – пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр – пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр – пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр – пыр-пыр…
Лирическое отступление.
Всю жизнь удивляюсь: звонок себе всегда остаётся без ответа. Как к Богу.
Набираешь собственный номер – занято. Вот что нас с Ним отличает!
Казалось бы, если с кем и стоит общаться в первую очередь – с самим собой. А в ответ только ритмичная серия коротких гудков. Редко кто способен на конструктивный диалог с собственным «я». Не прорвёшься сквозь монотонный затяжной ливень внутреннего монолога: ту-ту-ту-ту-ту…
Конец лирического отступления.
Поскольку Зелёный Пыр-Пыр всегда был в моей жизни, значит, он появился вскоре после моего рождения.
А когда я собралась рождаться – телефона не было. Так что мама даже такси не могла вызвать. Да и вызывать такси по телефону в Одессе 1971 года было затеей безнадёжной. Даже будь у нас телефон, мама не смогла бы позвонить собственной маме, потому что у той тоже не было телефона. И чем бы моей маме помогла её мама, если моя мама на проспекте Мира, а мамина мама – на Шестнадцатой Станции Большого Фонтана, да ещё и с моим старшим братом и с целым кагалом гостей из разных городов?
Поэтому моя мама собралась, вышла из нашего проходного двора сразу на Чкалова, поднялась квартал наверх, к Советской Армии (к морю – вниз, от моря – наверх), и села на третий трамвай. Понятия не имею, почему меня повезли рождаться на Пересыпь, если брат был рождён в Парке Шевченко? Может быть, одесский шестой родильный дом был закрыт на помывку (или, как говорят в Москве – «на мойку»)? А может, маме третий трамвай, идущий на Пересыпь, нравился больше третьего троллейбуса, идущего в Парк Шевченко, причём остановка его была тогда всё на той же улице Чкалова, полквартала не доходя до Советской Армии? Не знаю. Но мама села на трамвай и поехала. Вышла на конечной, немного прошлась. И позвонила в двери приёмного покоя. Её впустили без второго слова.
В ту ночь в четвёртом родильном доме вообще мало говорили. У врачей были шальные сутки. В одном физиологическом родильном зале, куда маму молча и быстро направили, случилось пятнадцать родов за смену. Небывалый бэби-бум случился восьмого июля 1971 года на Пересыпи. Врачи охрипли и потому зря слов на ветер не бросали.
Я родилась и сперва ничего не поняла. Чувствую – родилась уже. Но всё ещё по-прежнему. Тепло, уютно и вода. Всё, как через…
– Рубашку! Рубашку вскрой, балда!.. Прочь, я сам!
Воду спустили. И через мгновение у меня всё стало как у всех. Холодно. Меня старый еврей поперёк тельца держит голой волосатой рукой без перчатки. А у меня голова такая тяжёлая, что я даже возмутиться не могу. Только в зобу дыханье спёрло. Понимаю, что если сейчас не заору, то задохнусь от ярости: последнюю рубашку содрали! То есть – первую. И я заорала.
– Ты посмотри на неё, она ещё и басом ругается, вместо того чтобы дядьке спасибо сказать, что вовремя мимо пробегал. Судя по обстоятельствам твоего рождения, всё и всегда в твоей жизни будет необычайно вовремя. Всем будет казаться, что уже швах, а ты – бац! – и в профите.
Поднял меня старый еврей, как поросёнка на базаре, и маме моей говорит:
– Видишь? Девочка. Счастливая, что таких уже немножко перевелось. Я роды в «рубашке» только у цыганок видел. Ещё у коз довелось. А у белых женщин с высшим образованием – никогда. Ты хоть понимаешь, мать, что такое родиться в «рубашке»? Ты думаешь, что? Пословицы с поговорками из шухлядки достают? Надо – бери! Нет – удочерю!
Мама не то смеётся, не то плачет, руки к дядьке доктору тянет, а я думаю: «Где же она, моя рубашка?! Мне без неё холодно! Не успела на свет родиться, как уже раздели на той Пересыпи!»
– Ладно-ладно, шучу. Бери своего цурипопика[3 - Несмышлёныша.]. Спасибо скажи, что я тут мимо пробегал.
Положил меня маме на грудь, прикрыл одеялом, и дальше я ничего не помню. До самого Зелёного Пыр-Пыра не помню. Потому что от тепла, сытости и покоя интеллект отшибает напрочь!
Мама рассказала, что врачи забегались, потужной период начался в коридоре на каталке, и роды молоденькая акушерка принимала. Ну как «принимала» – охала и ахала от страха, потому что только на днях из медучилища. В основном звала на помощь старших товарищей. А когда я в чудном радужном околоплодном пузыре появилась, она от ужаса не знала, что делать. Но тут мимо заведующий отделением пробегал. Хоть и без перчаток, но вовремя. Потому что моя мама всё-таки не коза и плодный пузырь вскрыть бы не догадалась. Потому что человек в иных вопросах соображает куда меньше животного. Юная акушерка на плакатах про рождение ничего такого не видела. А в учебниках было написано про «воды излились». Раньше ли, во время схваток, позже ли – во время потуг, – но излились. У мамы моей – не излились. Очень плотный был околоплодный пузырь. В крепкой меня родили «рубашке». Домотканной.
Через три дня нас с мамой выписали. Папа уже не был в ДНД и привёз распашонки, чепчики, розовые ленты и прочие девичьи глупости. Меня во всё это нарядили. Говорят, я орала густым басом. Я не помню ни факта ни причины, но уверена, что требовала нарядить меня в родную рубашку, а не запаковывать в праздничный торт.
Мама с папой вышли из родильного дома и решили поймать такси. Потому что ехать со свежим праздничным тортом в летнем одесском трамвае – негигиенично. Слева была улица Богатого, справа – улица Московская. Если стоять спиной к фасаду родильного дома. Если лицом, то справа – Богатого, слева – Московская. Движение по обеим улицами было двустороннее. Мама с папой покрутились-покрутились и пошли ловить такси на Московскую.
Меня никто не спросил, но результатом я довольна.
Я действительно счастлива. С тех самых пор, как родилась.
Хотя не единожды, слишком не единожды я попадала в ситуации, после которых если не панихида с эпитафией, то только и говорить: «Родилась в рубашке». Потому там, где другим полный швах – я в профите.
Что я могу сказать? Только то, что это чистая правда.
Зелёный пыр-пыр
У него был совершенно очаровательный тембр. Драматический тенор с порочной хрипотцой.
Он взирал на меня с недосягаемой высоты. Я была слишком юна и ползала у его ног, с интересом поглядывая. Он отвечал мне взаимностью. Безо всяких этих глупых взрослых бесчувственных «ути-пути» и ненавистной, тошнотворной «козы рогатой», а как-то пристрастно-нежно и в то же время отрешённо-отстранённо. У него были свои дела, но он был частью моего мира. У меня тоже были свои дела, но и я была частью его мира.
Я ползала не совсем у его ног, потому что у него ног не было. Я ползала у ножек его столика. Но столик был – в моём сознании – интернированной сущностью этого загадочного существа. И поэтому совсем-совсем им. Нога, с точки зрения Аристотеля, интернированная сущность человека. И самостоятельной сущностью не станет, даже если её ампутировать. Сто раз очень и очень красивая нога не станет самостоятельным существом. Столик был бесподобным. Я не скажу, каким. Не опишу. Нечто бледно-серо-бирюзовое там, высоко, с изогнутыми подножиями. Видимо, это было чугунное литьё. Точнее сказать не могу. К тому моменту, как я смогла говорить точнее, столик выкинули. Печальная история. Я плакала, но мне было стыдно сказать почему. Из-за телефонного столика умные девочки не плачут. Из-за платья, или из-за куклы – сколько угодно, и это всем понятно. Но рыдать взахлёб из-за телефонного столика? Нонсенс. Мои родители считали меня очень странной девочкой. Но они бы устали меня считать, если бы знали, что я рыдала из-за телефонного столика.
А тот, кто восседал на столике, был не совсем зелёный. Скорее цвета морской волны. Но я тогда таких цветов не знала. И папа мой не знал. Потому что именно папа сказал мне, что объект моего пристального интереса – зелёный. О том, что он живой, – я догадалась сама. Когда он запел.
Папа подошёл, взял его за руку, приложил эту его единственную руку к своему уху и сказал:
– Аллё! Слушаю!
Почему-то когда папа сказал это, Зелёный Пыр-Пыр перестал петь.
– Её нет, будет к восьми, звоните позже, – проговорил папа в его руку и положил её на место. – Это – телефон! – папа поймал мой восхищённый взгляд, брошенный с пола на недосягаемую для меня высоту. – Хочешь послушать?
Он снова снял его руку и протянул её мне. Рука Зелёного Пыр-Пыра оказалась приделанной к витому колечками шнуру. Я схватилась цепкой ладошкой за «руку» и… оказалась лицом в паркете. Увы и ах, я умела только ползать, и мне требовались все четыре точки опоры, чтобы земля подо мною не переворачивалась. Я зарыдала. Не столько от боли, сколько от досады. Но руку Зелёного Пыр-Пыра из своей не выпустила. Мой незадачливый папа долго уговаривал меня вернуть ему зелёную руку, называя её неправильно – «трубкой». Он приводил смешные аргументы, мол, ему сейчас должны звонить, и если не положить руку Зелёного Пыр-Пыра на место, будет всё время занято. Конечно, занято! Его рука занята мной! Зелёный Пыр-Пыр – мой!
Через полчаса папа догадался сменить тактику и пообещал, что если я отпущу руку Зелёного Пыр-Пыра, тот для меня обязательно споёт. Папа, правда, говорил, что Пыр-Пыр для меня «позвонит», и я ещё очень долго путала слова «петь» и «звонить».
Папа не обманул. Зелёный Пыр-Пыр запел спустя какой-то час. Или два. Всё это время я просидела на полу, не отпуская папу. Папа, кажется, был недоволен, но я всегда умела уговаривать мужчин. Громким криком или (если крик не действовал) слезами.
– Пыр-Пыр! – радостно расхохоталась я, когда он запел.
– Да-да, он зелёный! – согласился папа, хотя я вовсе не это имела в виду.
Другие электронные книги автора Татьяна Юрьевна Соломатина
Другие аудиокниги автора Татьяна Юрьевна Соломатина
Доброе утро, Одесса!




 4.67
4.67