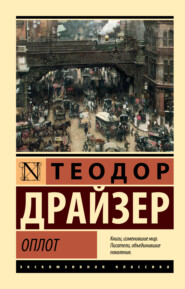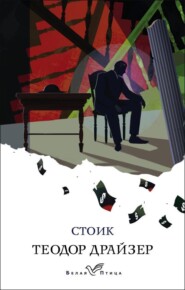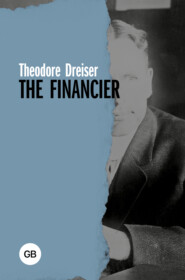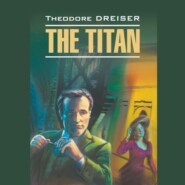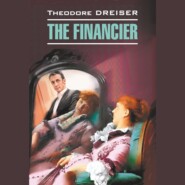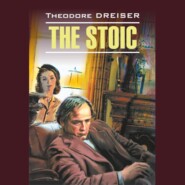По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дженни Герхардт
Автор
Жанр
Год написания книги
1911
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дженни Герхардт
Теодор Драйзер
Зарубежная классика (АСТ)
Второй роман классика мировой литературы, увидевший свет только спустя одиннадцать лет после скандальной «Сестры Керри».
Дженни Герхардт, наивная и мечтательная девушка, поступает на работу в гостиницу, чтобы помочь своей нуждающейся семье. Черная полоса суровых испытаний и лишений, казалось бы, заканчивается с появлением Лестера – наследника крупной промышленной компании. Однако семья Кейн не готова принять союз с девушкой не из их круга, и тогда перед Дженни встанет непростой выбор: поступиться собственным счастьем или пойти наперекор высшему свету…
История о благородстве, стойкости перед жестокими ударами судьбы и всепобеждающей силе любви, в свое время названная критиками «лучшим американским романом, который когда-либо читали».
Теодор Драйзер
Дженни Герхардт
Глава I
Осенним утром 1880 года немолодая женщина в сопровождении девушки лет восемнадцати вошла в главный отель города Колумбуса (штат Огайо) и, подойдя к портье, спросила, не найдется ли для нее в отеле какой-нибудь работы. Она была полная, но некрепкого сложения, держалась скромно и просто. Лицо у нее было открытое, большие глаза смотрели терпеливо и кротко, и в них таилась тень скорби, понятной лишь тем, кому случалось участливо заглянуть в лицо беспомощного, подавленного горем бедняка. Нетрудно было понять, откуда взялись у ее дочери робость и застенчивость, которые теперь заставляли ее держаться позади матери и с притворным равнодушием смотреть в сторону. В характере этой девушки воображение, природная чуткость и впечатлительность неразвитого, но поэтического ума, унаследованные от матери, сочетались с отцовской серьезностью и уравновешенностью. Женщин этих привела сюда нужда. Они казались таким трогательным воплощением честной бедности, что вызвали сочувствие даже у портье.
– А какую работу вы ищете? – спросил он.
– Может, вам нужно где прибрать или что почистить, – несмело ответила мать. – А еще я могу мыть полы.
Дочь при этих словах поежилась – не то чтобы ей не хотелось работать, но было горько, что люди поймут, какая крайность заставляет их браться за черную работу. Портье, как подобает мужчине, был тронут горем красивой девушки. Что и говорить, из-за ее наивности и беспомощности их доля казалась еще более тяжкой.
– Подождите минуту, – сказал он и, пройдя в контору, подозвал старшую горничную.
В отеле действительно нашлась работа. Главная лестница и вестибюль оставались неубранными, так как постоянная поломойка получила расчет.
– Это ее дочка? – спросила старшая горничная, издали глядя на женщин.
– Похоже на то.
– Что ж, пускай сегодня же принимаются за работу. Девушка, наверно, будет помогать?
– Поговорите со старшей горничной, – приветливо сказал портье, вернувшись к своей конторке. – Пройдите вот сюда. – Он указал на дверь рядом. – Там с вами договорятся.
Сцену эту можно назвать трагическим завершением долгой череды несчастий и неудач, которые постигли Уильяма Герхардта, стеклодува по профессии, и его семью. Этот человек потерял работу – такие превратности судьбы хорошо знакомы бедным труженикам – и теперь с трепетом встречал каждое утро, не зная, что принесет новый день ему, его жене и шестерым детям, ибо их хлеб насущный зависел от прихоти случая. Сам Герхардт был прикован болезнью к постели. Его старший сын, Себастьян, или Басс, как называли его приятели, работал подручным в местных вагоностроительных мастерских, но получал только четыре доллара в неделю. Дженевьеве, старшей дочери, минуло восемнадцать, но ее до сих пор не обучили никакому ремеслу. У Герхардта были и еще дети – четырнадцатилетний Джордж, двенадцатилетняя Марта, десятилетний Уильям и восьмилетняя Вероника; они были еще слишком малы, чтобы работать, и всех их надо было прокормить. Единственным достоянием и подспорьем семьи был принадлежавший Герхардту дом, да и тот заложен за шестьсот долларов. Герхардт занял эти деньги в то время, когда, истратив свои сбережения на покупку дома, задумал пристроить к нему еще три комнаты и веранду, чтобы семье жилось просторнее. До полного расчета по закладной оставалось еще несколько лет, но настали такие тяжелые времена, что пришлось истратить и небольшую сумму, отложенную для уплаты основного долга, и взнос в счет годовых процентов. Теперь Герхардт был совершенно беспомощен и сознавал, что положение его отчаянное: доктор прислал счет, проценты по закладной не выплачены, давно пора расплатиться с мясником, с булочником – оба они, полагаясь на его безукоризненную честность, верили ему в долг до последней возможности… Все это терзало и мучило его и мешало справиться с недугом.
Миссис Герхардт отнюдь не была малодушной женщиной. Она стала брать белье в стирку, когда удавалось найти клиентов, а в остальное время шила и чинила одежду детей, собирала их в школу, стряпала, ухаживала за больным мужем и, случалось, плакала. Нередко она отыскивала какую-нибудь новую бакалейную лавку – каждый раз все дальше и дальше от дома – и, заплатив для начала наличными, получала кредит до тех пор, пока другие лавочники не предостерегали легковерного благотворителя. Кукуруза была дешевле всего. Миссис Герхардт варила полный котел, и этой еды, чуть ли не единственной, хватало на целую неделю. Каша из кукурузной муки тоже была лучше, чем ничего, а если в нее удавалось подбавить немного молока, это было уже почти пиршество. Жареная картошка считалась у Герхардтов самым роскошным блюдом, кофе – редким лакомством. Уголь они подбирали, бродя с ведрами и корзинами по запутанным путям соседнего железнодорожного депо. Дрова добывались во время таких же походов на ближайшие лесные склады. Так они перебивались со дня на день, в ежечасной надежде, что отец поправится и что возобновится работа на стекольном заводе. Но приближалась зима, и Герхардтом все сильнее овладевало отчаяние.
– Я непременно должен поскорее выпутаться из этой истории, – то и дело повторял упрямый немец; его маловыразительный голос бессилен был передать гложущую его тревогу.
В довершение всех несчастий маленькая Вероника заболела корью, и несколько дней ее жизнь была в опасности. Мать забросила все дела, не отходила от ребенка и молилась. Доктор Элуонгер, движимый сочувствием, ежедневно навещал больную. Лютеранский священник, пастор Вундт, являлся с утешениями от лица святой церкви. Оба они вносили в дом дух мрачного ханжества. Это были облаченные во все черное посланцы высших сил. Миссис Герхардт думала, что теряет свою девочку, и скорбно бодрствовала у ее постели. Через три дня опасность миновала, но в доме не было ни куска хлеба. Получка Себастьяна ушла на лекарства. Только уголь удавалось добывать даром, но уже несколько раз детей прогоняли из депо. Миссис Герхардт мысленно перебрала все места, куда можно было бы обратиться в поисках работы, и без всякой надежды на успех отправилась в отель. И вот, чудом, ей повезло.
– Сколько вы хотите? – спросила старшая горничная.
Миссис Герхардт никак не думала, что ее станут об этом спрашивать. Но нужда придала ей храбрости.
– Доллар в день – не слишком много?
– Хорошо, – сказала старшая горничная. – В неделю наберется работы примерно дня на три. Приходите каждый день после полудня, и вы вполне справитесь.
– Спасибо вам, – сказала миссис Герхардт. – Можно начать сегодня же?
– Да. Пойдемте, я покажу, где ведра и тряпки.
Отель, куда они так неожиданно попали, был для того времени и для города Колумбуса весьма примечательным заведением. Колумбус, столица штата, насчитывает пятьдесят тысяч жителей, притом тут всегда много приезжих, а стало быть, в городе должны процветать отели и гостиницы, и это обстоятельство использовалось наилучшим образом – по крайней мере, так с гордостью полагали сами горожане. Пятиэтажное здание внушительных размеров стояло на центральной площади Колумбуса, где находились также законодательное собрание штата и крупнейшие магазины. Просторный вестибюль отеля недавно был отделан заново. Пол и мраморная облицовка стен тщательно протирались и сверкали белизной. Наверх вела великолепная лестница с перилами орехового дерева и медными прутьями, придерживающими ковер на ступенях. В одном углу вестибюля видное место занимала стойка, где продавались газеты и сигары. Под лестницей была конторка, за которой дежурил портье, и помещение администрации отеля; все было отделано деревом лучших сортов и увешано газовыми рожками – новинкой того времени. В конце вестибюля помещалась парикмахерская – за дверью виднелись кресла и сверкающие бритвенные приборы. Перед отелем всегда можно было видеть два или три омнибуса, они подъезжали и отъезжали в соответствии с расписанием поездов.
В этом роскошном караван-сарае останавливались крупнейшие политические и общественные деятели штата. Несколько губернаторов поочередно избирали его своей резиденцией. Оба сенатора из конгресса Соединенных Штатов, когда дела призывали их в Колумбус, неизменно занимали здесь номера люкс. Одного из них, сенатора Брэндера, владелец считал почти постоянным своим жильцом, поскольку у этого старого холостяка не было, в сущности, другого дома в Колумбусе, кроме отеля. Среди прочих, менее оседлых постояльцев были члены конгресса, законодательного собрания штата, а также кулуарные политики, коммерсанты, адвокаты, врачи – словом, кого там только не было; вся эта разношерстная публика приезжала и уезжала, и отель жил калейдоскопически пестрой и суетливой жизнью.
Мать и дочь, внезапно закинутые судьбой в этот ослепительный мир, были безмерно напуганы. Они едва решались к чему-либо притронуться. Широкий, устланный красным ковром коридор, который они должны были подмести, казался им величественным, как дворец; они не смели поднять глаза и говорили шепотом. Когда же пришлось мыть великолепную лестницу и чистить медные прутья и решетки, обеим понадобилось призвать на помощь все свое мужество: матери – чтобы преодолеть робость, дочери – чтобы побороть стыд, ведь она должна заниматься этим на виду у всех. Под ними раскинулся огромный вестибюль, и все, кто там отдыхал, курил, входил и выходил, могли видеть их обеих.
– Как тут красиво, правда? – шепнула Дженевьева и вздрогнула от звука собственного голоса.
– Да, – тихо отозвалась мать; стоя на коленях, она неловкими руками усердно выжимала тряпку.
– Наверно, чтобы жить здесь, нужно очень много денег!
– Да, – сказала мать. – Не забывай протирать вот тут, в уголках. Смотри, сколько грязи ты оставила.
Дженни, огорченная этим замечанием, усердно взялась за работу и терла изо всех сил, уже не смея больше смотреть по сторонам.
Старательно, не жалея рук, они работали до пяти часов; на улице уже стемнело, и вестибюль был ярко освещен. Они кончали мыть лестницу, оставалось несколько ступеней в самом низу.
В это время отворилась широкая двустворчатая дверь, которая то и дело распахивалась, впуская с улицы струю холодного воздуха, и вошел высокий немолодой человек в цилиндре и широком плаще военного покроя; он резко выделялся на фоне праздной толпы – сразу видно было, что это важная особа. Лицо у него было смуглое, со строгими чертами, но открытое и приятное; над блестящими глазами нависали густые черные брови. Он на ходу взял с конторки уже приготовленный для него ключ и стал подниматься по лестнице.
Он не только осторожно обошел пожилую женщину с тряпкой, но и снисходительно махнул ей рукой, словно говоря: «Ничего, я пройду».
В эту минуту дочь выпрямилась и оказалась с ним лицом к лицу; по ее глазам было видно, как она испугана тем, что очутилась у него на дороге.
Он приветливо улыбнулся и кивнул.
– Напрасно вы беспокоились, – сказал он.
Дженни только улыбнулась в ответ.
Поднявшись площадкой выше, он невольно обернулся и, взглянув на девушку, убедился, что она, как и показалось ему сразу, необыкновенно хороша собой. Он заметил высокий чистый лоб, волосы, ровно разделенные пробором и заплетенные в косы, голубые глаза и румянец. Он успел даже полюбоваться красивым изгибом губ, почти детским овалом лица и стройной, изящной фигуркой, воплощением юности, здоровья и надежд – всего, что так высоко ценит человек уже немолодой. Затем он с достоинством пошел дальше, ни разу больше не взглянув в ее сторону, но унося с собой ее прелестный образ. Это был достопочтенный сенатор Джордж Сильвестр Брэндер.
– Какой он красивый, этот человек, который сейчас прошел наверх, правда? – немного погодя сказала Дженни.
– Да, – подтвердила мать.
– И трость у него с золотым набалдашником.
– Не надо глазеть на людей, – наставительно сказала мать. – Нехорошо.
– Я на него не глазела, – простодушно возразила Дженни. – Он сам мне поклонился.
– Незачем тебе смотреть на чужих, – сказала мать. – Может быть, им это не нравится.
Теодор Драйзер
Зарубежная классика (АСТ)
Второй роман классика мировой литературы, увидевший свет только спустя одиннадцать лет после скандальной «Сестры Керри».
Дженни Герхардт, наивная и мечтательная девушка, поступает на работу в гостиницу, чтобы помочь своей нуждающейся семье. Черная полоса суровых испытаний и лишений, казалось бы, заканчивается с появлением Лестера – наследника крупной промышленной компании. Однако семья Кейн не готова принять союз с девушкой не из их круга, и тогда перед Дженни встанет непростой выбор: поступиться собственным счастьем или пойти наперекор высшему свету…
История о благородстве, стойкости перед жестокими ударами судьбы и всепобеждающей силе любви, в свое время названная критиками «лучшим американским романом, который когда-либо читали».
Теодор Драйзер
Дженни Герхардт
Глава I
Осенним утром 1880 года немолодая женщина в сопровождении девушки лет восемнадцати вошла в главный отель города Колумбуса (штат Огайо) и, подойдя к портье, спросила, не найдется ли для нее в отеле какой-нибудь работы. Она была полная, но некрепкого сложения, держалась скромно и просто. Лицо у нее было открытое, большие глаза смотрели терпеливо и кротко, и в них таилась тень скорби, понятной лишь тем, кому случалось участливо заглянуть в лицо беспомощного, подавленного горем бедняка. Нетрудно было понять, откуда взялись у ее дочери робость и застенчивость, которые теперь заставляли ее держаться позади матери и с притворным равнодушием смотреть в сторону. В характере этой девушки воображение, природная чуткость и впечатлительность неразвитого, но поэтического ума, унаследованные от матери, сочетались с отцовской серьезностью и уравновешенностью. Женщин этих привела сюда нужда. Они казались таким трогательным воплощением честной бедности, что вызвали сочувствие даже у портье.
– А какую работу вы ищете? – спросил он.
– Может, вам нужно где прибрать или что почистить, – несмело ответила мать. – А еще я могу мыть полы.
Дочь при этих словах поежилась – не то чтобы ей не хотелось работать, но было горько, что люди поймут, какая крайность заставляет их браться за черную работу. Портье, как подобает мужчине, был тронут горем красивой девушки. Что и говорить, из-за ее наивности и беспомощности их доля казалась еще более тяжкой.
– Подождите минуту, – сказал он и, пройдя в контору, подозвал старшую горничную.
В отеле действительно нашлась работа. Главная лестница и вестибюль оставались неубранными, так как постоянная поломойка получила расчет.
– Это ее дочка? – спросила старшая горничная, издали глядя на женщин.
– Похоже на то.
– Что ж, пускай сегодня же принимаются за работу. Девушка, наверно, будет помогать?
– Поговорите со старшей горничной, – приветливо сказал портье, вернувшись к своей конторке. – Пройдите вот сюда. – Он указал на дверь рядом. – Там с вами договорятся.
Сцену эту можно назвать трагическим завершением долгой череды несчастий и неудач, которые постигли Уильяма Герхардта, стеклодува по профессии, и его семью. Этот человек потерял работу – такие превратности судьбы хорошо знакомы бедным труженикам – и теперь с трепетом встречал каждое утро, не зная, что принесет новый день ему, его жене и шестерым детям, ибо их хлеб насущный зависел от прихоти случая. Сам Герхардт был прикован болезнью к постели. Его старший сын, Себастьян, или Басс, как называли его приятели, работал подручным в местных вагоностроительных мастерских, но получал только четыре доллара в неделю. Дженевьеве, старшей дочери, минуло восемнадцать, но ее до сих пор не обучили никакому ремеслу. У Герхардта были и еще дети – четырнадцатилетний Джордж, двенадцатилетняя Марта, десятилетний Уильям и восьмилетняя Вероника; они были еще слишком малы, чтобы работать, и всех их надо было прокормить. Единственным достоянием и подспорьем семьи был принадлежавший Герхардту дом, да и тот заложен за шестьсот долларов. Герхардт занял эти деньги в то время, когда, истратив свои сбережения на покупку дома, задумал пристроить к нему еще три комнаты и веранду, чтобы семье жилось просторнее. До полного расчета по закладной оставалось еще несколько лет, но настали такие тяжелые времена, что пришлось истратить и небольшую сумму, отложенную для уплаты основного долга, и взнос в счет годовых процентов. Теперь Герхардт был совершенно беспомощен и сознавал, что положение его отчаянное: доктор прислал счет, проценты по закладной не выплачены, давно пора расплатиться с мясником, с булочником – оба они, полагаясь на его безукоризненную честность, верили ему в долг до последней возможности… Все это терзало и мучило его и мешало справиться с недугом.
Миссис Герхардт отнюдь не была малодушной женщиной. Она стала брать белье в стирку, когда удавалось найти клиентов, а в остальное время шила и чинила одежду детей, собирала их в школу, стряпала, ухаживала за больным мужем и, случалось, плакала. Нередко она отыскивала какую-нибудь новую бакалейную лавку – каждый раз все дальше и дальше от дома – и, заплатив для начала наличными, получала кредит до тех пор, пока другие лавочники не предостерегали легковерного благотворителя. Кукуруза была дешевле всего. Миссис Герхардт варила полный котел, и этой еды, чуть ли не единственной, хватало на целую неделю. Каша из кукурузной муки тоже была лучше, чем ничего, а если в нее удавалось подбавить немного молока, это было уже почти пиршество. Жареная картошка считалась у Герхардтов самым роскошным блюдом, кофе – редким лакомством. Уголь они подбирали, бродя с ведрами и корзинами по запутанным путям соседнего железнодорожного депо. Дрова добывались во время таких же походов на ближайшие лесные склады. Так они перебивались со дня на день, в ежечасной надежде, что отец поправится и что возобновится работа на стекольном заводе. Но приближалась зима, и Герхардтом все сильнее овладевало отчаяние.
– Я непременно должен поскорее выпутаться из этой истории, – то и дело повторял упрямый немец; его маловыразительный голос бессилен был передать гложущую его тревогу.
В довершение всех несчастий маленькая Вероника заболела корью, и несколько дней ее жизнь была в опасности. Мать забросила все дела, не отходила от ребенка и молилась. Доктор Элуонгер, движимый сочувствием, ежедневно навещал больную. Лютеранский священник, пастор Вундт, являлся с утешениями от лица святой церкви. Оба они вносили в дом дух мрачного ханжества. Это были облаченные во все черное посланцы высших сил. Миссис Герхардт думала, что теряет свою девочку, и скорбно бодрствовала у ее постели. Через три дня опасность миновала, но в доме не было ни куска хлеба. Получка Себастьяна ушла на лекарства. Только уголь удавалось добывать даром, но уже несколько раз детей прогоняли из депо. Миссис Герхардт мысленно перебрала все места, куда можно было бы обратиться в поисках работы, и без всякой надежды на успех отправилась в отель. И вот, чудом, ей повезло.
– Сколько вы хотите? – спросила старшая горничная.
Миссис Герхардт никак не думала, что ее станут об этом спрашивать. Но нужда придала ей храбрости.
– Доллар в день – не слишком много?
– Хорошо, – сказала старшая горничная. – В неделю наберется работы примерно дня на три. Приходите каждый день после полудня, и вы вполне справитесь.
– Спасибо вам, – сказала миссис Герхардт. – Можно начать сегодня же?
– Да. Пойдемте, я покажу, где ведра и тряпки.
Отель, куда они так неожиданно попали, был для того времени и для города Колумбуса весьма примечательным заведением. Колумбус, столица штата, насчитывает пятьдесят тысяч жителей, притом тут всегда много приезжих, а стало быть, в городе должны процветать отели и гостиницы, и это обстоятельство использовалось наилучшим образом – по крайней мере, так с гордостью полагали сами горожане. Пятиэтажное здание внушительных размеров стояло на центральной площади Колумбуса, где находились также законодательное собрание штата и крупнейшие магазины. Просторный вестибюль отеля недавно был отделан заново. Пол и мраморная облицовка стен тщательно протирались и сверкали белизной. Наверх вела великолепная лестница с перилами орехового дерева и медными прутьями, придерживающими ковер на ступенях. В одном углу вестибюля видное место занимала стойка, где продавались газеты и сигары. Под лестницей была конторка, за которой дежурил портье, и помещение администрации отеля; все было отделано деревом лучших сортов и увешано газовыми рожками – новинкой того времени. В конце вестибюля помещалась парикмахерская – за дверью виднелись кресла и сверкающие бритвенные приборы. Перед отелем всегда можно было видеть два или три омнибуса, они подъезжали и отъезжали в соответствии с расписанием поездов.
В этом роскошном караван-сарае останавливались крупнейшие политические и общественные деятели штата. Несколько губернаторов поочередно избирали его своей резиденцией. Оба сенатора из конгресса Соединенных Штатов, когда дела призывали их в Колумбус, неизменно занимали здесь номера люкс. Одного из них, сенатора Брэндера, владелец считал почти постоянным своим жильцом, поскольку у этого старого холостяка не было, в сущности, другого дома в Колумбусе, кроме отеля. Среди прочих, менее оседлых постояльцев были члены конгресса, законодательного собрания штата, а также кулуарные политики, коммерсанты, адвокаты, врачи – словом, кого там только не было; вся эта разношерстная публика приезжала и уезжала, и отель жил калейдоскопически пестрой и суетливой жизнью.
Мать и дочь, внезапно закинутые судьбой в этот ослепительный мир, были безмерно напуганы. Они едва решались к чему-либо притронуться. Широкий, устланный красным ковром коридор, который они должны были подмести, казался им величественным, как дворец; они не смели поднять глаза и говорили шепотом. Когда же пришлось мыть великолепную лестницу и чистить медные прутья и решетки, обеим понадобилось призвать на помощь все свое мужество: матери – чтобы преодолеть робость, дочери – чтобы побороть стыд, ведь она должна заниматься этим на виду у всех. Под ними раскинулся огромный вестибюль, и все, кто там отдыхал, курил, входил и выходил, могли видеть их обеих.
– Как тут красиво, правда? – шепнула Дженевьева и вздрогнула от звука собственного голоса.
– Да, – тихо отозвалась мать; стоя на коленях, она неловкими руками усердно выжимала тряпку.
– Наверно, чтобы жить здесь, нужно очень много денег!
– Да, – сказала мать. – Не забывай протирать вот тут, в уголках. Смотри, сколько грязи ты оставила.
Дженни, огорченная этим замечанием, усердно взялась за работу и терла изо всех сил, уже не смея больше смотреть по сторонам.
Старательно, не жалея рук, они работали до пяти часов; на улице уже стемнело, и вестибюль был ярко освещен. Они кончали мыть лестницу, оставалось несколько ступеней в самом низу.
В это время отворилась широкая двустворчатая дверь, которая то и дело распахивалась, впуская с улицы струю холодного воздуха, и вошел высокий немолодой человек в цилиндре и широком плаще военного покроя; он резко выделялся на фоне праздной толпы – сразу видно было, что это важная особа. Лицо у него было смуглое, со строгими чертами, но открытое и приятное; над блестящими глазами нависали густые черные брови. Он на ходу взял с конторки уже приготовленный для него ключ и стал подниматься по лестнице.
Он не только осторожно обошел пожилую женщину с тряпкой, но и снисходительно махнул ей рукой, словно говоря: «Ничего, я пройду».
В эту минуту дочь выпрямилась и оказалась с ним лицом к лицу; по ее глазам было видно, как она испугана тем, что очутилась у него на дороге.
Он приветливо улыбнулся и кивнул.
– Напрасно вы беспокоились, – сказал он.
Дженни только улыбнулась в ответ.
Поднявшись площадкой выше, он невольно обернулся и, взглянув на девушку, убедился, что она, как и показалось ему сразу, необыкновенно хороша собой. Он заметил высокий чистый лоб, волосы, ровно разделенные пробором и заплетенные в косы, голубые глаза и румянец. Он успел даже полюбоваться красивым изгибом губ, почти детским овалом лица и стройной, изящной фигуркой, воплощением юности, здоровья и надежд – всего, что так высоко ценит человек уже немолодой. Затем он с достоинством пошел дальше, ни разу больше не взглянув в ее сторону, но унося с собой ее прелестный образ. Это был достопочтенный сенатор Джордж Сильвестр Брэндер.
– Какой он красивый, этот человек, который сейчас прошел наверх, правда? – немного погодя сказала Дженни.
– Да, – подтвердила мать.
– И трость у него с золотым набалдашником.
– Не надо глазеть на людей, – наставительно сказала мать. – Нехорошо.
– Я на него не глазела, – простодушно возразила Дженни. – Он сам мне поклонился.
– Незачем тебе смотреть на чужих, – сказала мать. – Может быть, им это не нравится.