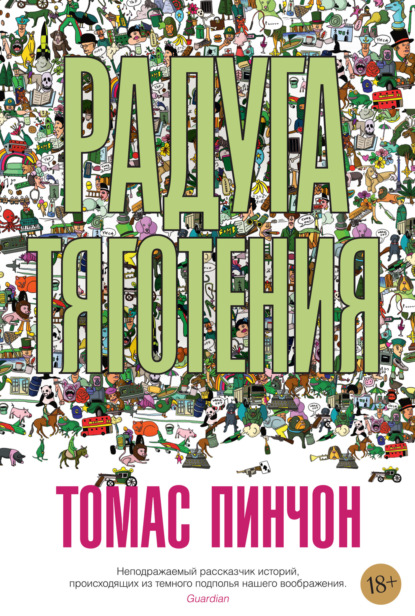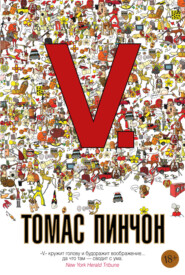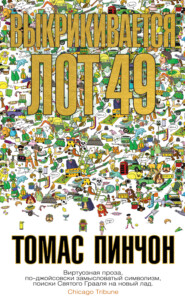По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Радуга тяготения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так вот что у тебя на уме. Если здесь уместно слово «ум».
Они всех сбивают с панталыку. На вид такие невинные. Людям мигом хочется взять их под крылышко: воздерживаются от разговоров о смерти, делах, двуличии, когда Роджер и Джессика рядом. Сплошь дефицит, кино, песенки, мальчики и блузки…
Когда Джессика подбирает волосы над ушами, а плавный подбородок – в профиль, она выглядит лет на 9-10, одна у окон, щурится на солнце, поворачивает голову на легком покрывале, слезы подступают, детское личико краснеет и морщится – вот-вот расплачется: уу, уу…
Однажды ночью в темном одеяльно-холодном убежище постели, сам то и дело задремывая, он языком убаюкал Джессику. Почуяв, как его первые теплые вздохи касаются ее больших губ, она задрожала и вскричала кошкой. Две-три ноты, будто слившиеся, хриплые, призрачные, сдуло вместе со снежинками, что помнились еще с сумерек. Деревья снаружи просеивали ветер, не видимые ей грузовики вечно неслись по улицам и дорогам, за домами, через каналы или реку, за простенький парк. Ох, и собаки с кошками, что давай гоняться друг за другом по меленькому снегу…
– …картинки – ну, сцены все время мигают перед глазами, Роджер. Сами по себе, то есть я их не сочиняю…
Проносится их яркий рой – под тусклым изотонным мерцанием потолка. Он и она лежат и дышат ртами вверх. Его обмякший хуй слюнявит ему бедро – то, что под горку, ближе к Джессике. Ночная комната тяжко вздыхает, да, Тяжко и Вздыхает – старомодная потешная комната, ох да что с меня взять, дурака могила исправит, кокетничает себе сквозь раму зеркала в чем-то зеленом в полосочку, в панталонах с оборками – однако ж вот в чем странность-то: сегодня комнаты по большей части, знаете ли, гудят, а кроме того известно, что «дышат», да, и даже расчетливо поджидают, вот какая тут, пожалуй, довольно зловещая традиция, высокие стройные создания, густой аромат духо?в и накидки в покоях, осажденных полуночью, пронзенных винтовыми лестницами, перголы синих лепестков, среда, где никто, как его ни провоцируй, сколь невменяем бы ни был, дорогая моя барышня, никогда Тяжко не Вздыхает. Так не делается.
Но тут. Ох, эта барышня. Клетчатый гинем. Косматые брови, совсем разрослись. Красный бархат. Однажды на слабо? она сняла блузку – они как раз гнали по магистрали у Нижнего Бидинга.
– Боже мой, она обезумела, что же это такое, чего они все на меня?
– Ну так ха-ха, – Джессика покручивает галстук от форменной блузки, как стриптизерша, – ты же, э, сказал, что я забоюсь. Сказал, а? И обзывался «боякой, бякой-боякой» или еще как-то, насколько мне помнится… – Само собой, никакого бюстгальтера, она их вообще не носит.
– Слушай сюда, – бешено косится, – а ты знаешь, что тебя могут арестовать? Ладно, чего там тебя, – вдруг приходит ему в голову, – меня арестуют!
– И на тебя все свалят, ля-ля. – Нижние зубки обнажаются в улыбочке гадкой девчонки. – Я просто невинная овечка, а этот… – выбросив вперед изящную руку, высекши свет из светлых волосков на предплечье, маленькие груди свободно подпрыгивают, – этот распутник Роджер! вот этот, этот ужасный скот! принуждает меня, эти унизительные…
Тем временем грузовик, громаднее которого Роджер в жизни не видал, сотрясаясь сталью, подрулил ближе, и теперь не только водитель, но и несколько – ох, кажется, жутких… карликов в странных опереточных костюмчиках, вроде какое-то эмигрантское правительство из Центральной Европы, целиком утрамбованное в высокопоставленную кабину, и все пялятся сверху, толкаются, как поросята у матки, чтоб лучше видеть, глаза на лоб лезут, смуглые, слюни текут – впитывают зрелище: его Джессика Одетт скандально гологруда, а сам он отчаянно пытается притормозить и отстать от грузовика – вот только сейчас за Роджером, прямо у него на жопе, с той же скоростью, что грузовик, сидит, ох бля и впрямь патруль военной полиции. Он уже не может сбросить ход, а если станет разгоняться, тут-то они и заподозрят…
– Э-э, Джесси, оденься, пожалуйста, эм-м, будь добра? – Он напоказ ищет расческу, которая, как обычно, куда-то делась, подозреваемый – печально известный ктенофил…
Водитель громадного громкого грузовика теперь пытается обратить внимание Роджера на себя, прочие карлики припали к окнам, орут:
– Эй! Эй! – и масляно, утробно хохочут. Вожак их по-английски говорит с каким-то текучим, невыразимо мерзопакостным европейским акцентом. Теперь там, наверху, разгулялись – подмигивают, пихают друг друга локтями: – Миистир! Ай, ви! Мину-тачку, а? – И снова ржут.
В заднее зеркальце Роджер видит английские по-лица, аж розовые от добродетельности, красные погоны друг к дружке, подскакивают, совещаются, то и дело резко взглядывают вперед, на пару в «ягуаре», которая ведет себя так…
– Что они делают, Нудзбери, тебе видно?
– Кажись, там мужчина и женщина, сэр.
– Осел. – И хвать черный бинокль.
Сквозь дождь… затем сквозь сонное стекло, от вечера зеленое. И сама в кресле, в старомодной шляпке, смотрит на запад, озирает палубу Земли, преисподне красную по краям, а дальше в бурых и золотых облаках…
Как вдруг следом – ночь: пустое кресло-качалка яро освещено мелово-голубым – луною или это какой-то иной свет небесный? просто жесткое кресло, ныне пустое, посреди очень ясной ночи, да этот холодный свет сверху…
Картинки сменяются, распускаясь, к нему и от него, одни красивенькие, другие просто жуткие… но она тут свернулась калачиком со своим ягненочком, своим Роджером, и как же любит она весь этот очерк его шеи, вот так – вот же он, бугристый его затылок, как у десятилетнего мальчугана. Она его целует по всему кисло-соленому раздолью кожи, что так захватило ее, застало в ночном свете вдоль по напряженным сухожильям, целует его, как истекает дыханьем, – и не перестает.
Однажды утром – не видел ее недели две – он проснулся в своей келье отшельника в «Белом явлении» со стояком, веки чешутся, а во рту запутался длинный русый волос. Не его. Никого с такими волосами он вспомнить не смог, кроме Джессики. Но этого не может быть – он же ее не видел. Он пару раз шмыгнул носом, потом чихнул. Утро проявило оконный проем. Правый клык ныл. Роджер распутал длинный волос, весь в бусинках слюны, зубном налете, утренних отложениях, какие бывают у всех, кто дышит ртом, и вытаращился. Как он сюда попал? Кукан, братан. Нормальный такой шмат je ne sais quoi de sinistre[63 - Зд.: фиг поймешь чего зловещего (фр.).]. Надо отлить. Зашаркал к уборной, посерелая казенная фланель вяло заткнута за поясок пижамы – и тут дошло: а если это какая-то розовато-лиловая сказка рубежа веков о возмездии призрака, и вот этот волос – некий Первый Шаг… Ой, паранойя? Видели б вы, как он перебирал все комбинации, шевелясь по своим уборным надобностям среди спотыкающихся, пердящих, шоркающих бритвами, надсадно кашляющих, чихающих заключенных Отдела Пси, всех в козявках. Только после он вообще помыслил о Джессике – о ее безопасности. Заботливый Роджер. Что, если… если она умерла посреди ночи, случайно грохнули артиллерийские погреба… а этот волос – единственное прощанье, какое ее призрачная любовь сумела пропихнуть на эту сторону ему, единственному, кто для нее хоть что-то значил… Вот тебе и паук-статистик: глаза его поистине переполнились слезами, и тут же Следующая Мысль – ой. Ойёй. Закрути кран, баклан, и не щелкай клювом. Он стоял, ссутулясь над раковиной умывальника, парализованный, поставив свою тревогу за Джессику чутка на Паузу, и ему не терпелось обернуться через плечо и даже посмотреть в – в это старое зеркало, понимаете, глянуть, что они там задумали, но примерз к месту, даже на такой риск пойти не мог… ну же… ох да, в мозг ему упали семена великолепнейшей возможности, и вот пожалста. Что, если все они, все эти уроды из Отдела Пси, втайне против него сговорились? Нормально? Да; предположим, они и впрямь могут читать мысли! Да и-и как насчет – если это гипноз? А? Господи; тогда сколько угодно других оккультных штук: астральные проекции, контроль мозга (тут-то ничего оккультного), тайные заклятья на импотенцию, чирьи, безумие, йяаххх – зелья! (он наконец выпрямляется и внутренним взором своим проникает обратно к себе в кабинет – взглядывает, очень робко, на кофейную пакость, ох господи…), экстрасенсорное-единство-с-Агентством-по-Контролю – такое, чтобы Роджер был им, а он Роджером, да да сколько-то подобных представлений блуждают у него в голове, и ни одного приятного – особенно в этом сортире для персонала, где рожа Гэвина Трелиста нынче утром ярко-пурпурная, цветочек клевера мигает на ветру, Роналд Вишнекокс отхаркивает в раковину мраморно-мелкозернистую янтарную мокроту – что все это такое, кто все эти люди… Уроды! Уррроооодыыыы! Его окружили! они круглые сутки, всю войну прослушивают его мозги, телепаты, чернокнижники, сатанинские агенты всех разновидностей подключаются ко всему – даже когда они с Джессикой в постели ебутся…
Попробуй это поприжать, старик, паникуй, конечно, если без этого никак, но не сейчас – и не здесь… Слабые лампочки умывальной углубляют тысячи пятен от воды и мыла, сбившиеся в кучи на зеркалах, до сплетенья облачных перьев, кожи и дыма, когда он мотает у зеркала головой, лимонные и бежевые, здесь туча масляного чада, а тут бурые сумерки, и крошится очень крупно, такая вот текстура…
Утро – прелесть, мир – война. На передке сознания удержать удается одно: слова Я хочу перевестись, они как бы немузыкально мурлычутся зеркалу, так точно сэр рапорт подам тут же. Попрошусь добровольцем в Германию, вот что. Дам-де-дам, де-дам. Вот именно, только в среду была объява на рекламной странице «Нацистов в новостях» – засунули между Мерсисайдским отделением лейбористской партии, которое ищет себе пресс-агента, и лондонским рекламным агентством, где есть, как они заявляют, вакансии сразу после дембеля. А эту объяву посередке разместила какая-то служба будущей «G-5», что пытается собрать несколько спецов по «перевоспитанию». Жизненно, жизненно необходимо. Растолковать Германскому Зверю про Великую хартию вольностей, спортивный дух – такое вот, а? Там, в механизме каких-нибудь баварских часов с невротичной кукушкой, а не деревеньке, куда по ночам из лесов прибегают эльфы-оборотни и суют под окна и двери подрывные листовки…
– Что угодно! – Роджер на ощупь пробирается в свое узкое жилье. – Что угодно лучше этого…
Вот как фигово пришлось. Он знал, что в безумной Германии, с Врагом будет больше в своей тарелке, чем здесь, в Отделе Пси. А от времени года еще хуже. Рождество. Вляаааггггххх, хватается за живот. По-человечески или хоть как-то выносимо становилось только от Джессики. Джессика…
Тут-то его и накрыло – на полминуты, пока зевал и дрожал в длинном исподнем, мягонького, еле видимого в тепляке декабрьской зари, среди стольких острых краев книг, пачек и бумаженций, графиков и карт (и главная из них, с красными оспинами на чистой белой коже леди Лондон, надзирает за всеми… стоп… кожная болезнь… неужто смертельную заразу носит она в себе? и точки ударов предопределены, а полет ракеты происходит из рокового нарыва, дремлющего в само?м городе… но этого ему не осмыслить, как не понять одержимости Стрелмана инверсией звукового раздражителя, и пожалуйста, прошу вас, нельзя ли на секундочку эту тему бросить…), явилось, и он не знал, пока не прошло, сколь ясно видел ту честную половину своей жизни, коей теперь была Джессика, сколь фанатично Война, мать его, должна порицать ее красоту, ее нахальное безразличие к тем учреждениям смерти, в какие он еще недавно сам верил, – ее невозмутимую надежду (пусть и ненавидела она строить планы), ее изгнание из детства (пусть и неизменно отказывалась она держаться за воспоминанья)…
Его жизнь была привязана к прошлому. Себя он видел некоей точкой наступающего волнового фронта, что распространяется по стерильной истории: известное прошлое, проецируемое будущее. А Джессика – разлом волны. Вдруг возникает пляж, непредсказуемое… новая жизнь. Прошлое и будущее на берегу остановились: вот как он бы это изложил. Но и верить ему хотелось – так же, как любил ее, мимо всех слов, – верить, что сколь ни плохи времена, ничто не закреплено, все можно поменять и она всегда сумеет отвергнуть темное море у него за спиной, отлюбить его прочь. И (эгоистично) что от мрачного юноши, плотно укоренившегося в Смерти – решившего со Смертью прокатиться, – с Джессикой он сможет отыскать путь к жизни и к радости. Он ей никогда не говорил, старался не говорить и себе, но такова была мера его веры, когда седьмое Рождество Войны – раз-цвай-драй – накатило еще одной атакой на его костлявый дрожащий фланг…
Она суетливо спотыкается по всей общаге, сшибает у других девчонок покурки затхлой «Жимолости», наборы для пайки нейлоновых чулок, военные шуточки, что сойдут за сочувствие, – веселенькие, как у лондонских живчиков. Сегодня вечером она будет с Джереми, со своим лейтенантом, но хочет быть с Роджером. Вот только на самом деле – не хочет. Правда? Она уж и не помнит, когда в последний раз – цвай-драй – была в таком смятении. Когда она с Роджером, у них сплошь любовь, но если вдалеке – на любом расстоянии, парень, – она ловит себя на том, что он ее угнетает и даже пугает. Почему? На нем в дикие ночи, скача вверх-вниз его хуй ее ось, сама пытаясь не размякнуть, чтобы не стечь сливочным свечным воском и не отпасть, та?я, на покрывало, кончая, место есть только для Роджер, Роджер, ох любимый до скончанья выдоха. А вне постели, блуждая-болтая, его горечь, его смурь уходят вглубь дальше Войны, зимы; он так ненавидит Англию, ненавидит «Систему», бесконечно ворчит, говорит, что эмигрирует, когда Война закончится, не кажет носа из своей пещеры бумажного циника, ненавидит себя… и хочется ли ей вообще-то вытаскивать его? Не надежней ли с Джереми? Она пытается не допускать этого вопроса слишком часто, но он есть. Три года с Джереми. Как будто женаты. Должны же три года что-то значить. Каждодневно мелкие стежки и припуски. Она носила старые халаты Бобра, заваривала ему чай и кофе, искала его глазами на стоянках грузовиков, в комнатах отдыха и на раскисших полях под дождем, когда все мерзкие, тягостные потери дня можно спасти одним взглядом – знакомым, доверчивым, в то время года, когда слово заговаривается изящества ради либо чтоб маленько посмеяться. И все это выдрать? три года? ради ветреного, самовлюбленного… да просто мальчишки. Ёлки, ему уже за тридцать должно быть, он намного ее старше. Наверняка же должен был чему-то научиться? Матерый мужчина?
Хуже всего, что ей не с кем поговорить. Вся политика этой смешанной батареи, профессиональный инцест, нездоровая одержимость тем, кто что кому сказал весной 1942, господи боже, года под Графти-Грин, Кент, или еще где, и кто что кому должен был ответить, но не ответил и сказал что-то кому-то еще, тем самым разжегши ненависть, которая чудесно доцвела до сегодняшнего дня, – после шести лет клеветы, честолюбия и истерии поверяться здесь кому угодно в чем угодно – акт чистейшего мазохизма.
– У девушки стресс, Джесс? – Мэгги Дюнкерк уже в дверях, поправляет перчатки с крагами. По «Танною» свинг-оркестр Би-би-си ревет жарко синкопированную рождественскую музычку.
– Есть сигаретка, детка? – это уже почти на автомате выходит, как на развес, Джесс?
Ну…
– Думала, тут у нас Гарбо в дурацком кино, а не обычное никотиновое голодание, прости опять ошиблась, па-ка…
Ох да иди уже.
– Думаю вот себе про закупки к Рождеству.
– И что Бобру тогда подаришь.
Сосредоточившись на пристегивании нейлонок к подвязкам, пары постарше, кверху-внутрь-кпереди-книзу-внутрь-назад мнемонически шевелится складками в пальцах, прачечно-белая присобранная эластика растягивается уже прекрасно и касательно к мягкому переднему изгибу ее бедра, зажимы пажей поблескивают серебром под или за ее лакированными красными ногтями, проскальзывают далекими фонтанами за красными фигурными деревьями, Джессика отвечает:
– А. М-м. Трубку, пожалуй…
Однажды ночью около ее батареи, проезжая Где-То в Кенте, Роджер и Джессика наткнулись на церковь, кочку на темной возвышенности, лампадносветлую, растущую из земли. Воскресенье к концу, скоро вечерня. Мужчины в шинелях, клеенчатых дождевиках, в темных беретах, которые они стаскивали на входе, американские летчики в коже, отороченной овчиной, несколько женщин в звонких сапогах и широкоплечих свободных пальто, но без детей, ни единого ребенка не видать, только взрослые, трюхают со своих бомбардировочных полей, стоянок аэростатов, дотов на берегу – и сквозь норманнскую арку, косматую от морозостойких лиан. Джессика сказала:
– Ой, я помню… – но не закончила. Она вспоминала другие Рождественские посты, изгороди за окном, заснеженные, как овцы, и Звезду, какую скоро можно вновь приклеить к небесам.
Роджер съехал на обочину, и они стали смотреть, как потертые мышастые военные шаркают к вечерне. Ветер пах свежим снегом.
– Домой пора, – сказала она немного погодя, – уже поздно.
– Может, заскочим сюда ненадолго?
Ого, вот это ей уже удивительно, ну ей-бо – столько недель ехидничал, и тут на? тебе? Его досада неверующего на остальных в Отделе Пси, которые, по его мнению, и без того намеревались сдвинуть его по фазе, и его скруджевость, возраставшая по мере того, как дней на рождественские покупки оставалось все меньше…
– Ты же вроде не из этих, – сказала ему она.
Но ей хотелось войти, в сегодняшнем снежном небе густа ностальгия, голос Джессики готов уже предать ее и сбежать к рождественским певцам, чьи гимны мы так склонны слышать нынче вдали, эти дни Рождественского поста один за другим отпадают, голоса пищат по-над замерзшими холмами, где высеянные мины обильны, аки в пудинге изюм… частенько поверх таянья снегов ветра?, кои должны дуть не сквозь рождественский воздух, но через густоту самого времени, доносили к ней те детские голоса, что поют за шесть пенсов, и если сердце ее не готово было вместить все напряги ее смертности, а также их смертности, по крайней мере, оставался страх, что она вот-вот – и потеряет их: однажды зимой выскочит посмотреть, поискать, добежит до калитки, до самых деревьев, но тщетно, голоса их уже угаснут…
Они прошли по следам всех остальных в снегу, она – степенно повиснув на его локте, ветер порывами путал ей волосы, каблуки один раз на льду поскользнулись.
– Послушать музыку, – объяснил он.