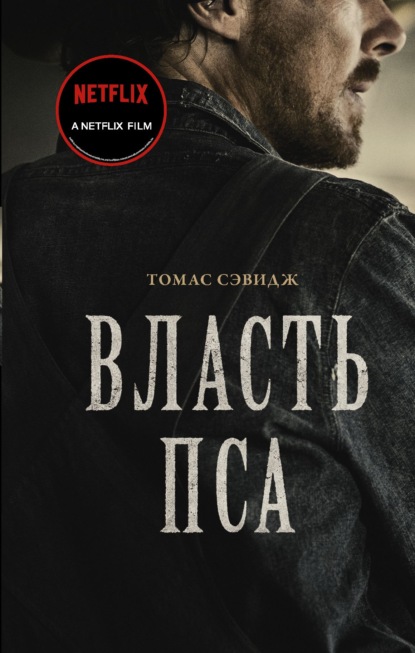По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Власть пса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Фил был неплохим музыкантом. Проиграв веселый напев на вистле[2 - Вистл – народный ирландский инструмент, свистковая продольная флейта.], что звучал в его руках точно флейта, он отправлялся в спальню, доставал банджо и начинал играть «Алое крыло» или «Жаркие деньки в старом городе». Музыке Фил научился сам, и как же ловко теперь его проворные пальцы перебирали струны. В такие моменты в комнату порой тихонько проскальзывал Джордж, ложился на латунную кровать, что стояла напротив, и слушал – однако в последнее время перестал.
С недавних пор после песни-другой Фил приподнимался с края кровати, где он обыкновенно играл, убирал банджо, выходил из дома и направлялся к бараку тропкой среди шумящих плевел.
– Ну, что у вас тут, ребята, – говорил он, жмурясь от яркого света газовой лампы.
И всякий раз кто-нибудь из работников поднимался, освобождая ему стул, когда-то принесенный сюда из большого дома.
– Да ладно вам, – неизменно отвечал Фил, – не беспокойтесь.
Он никогда не садился на уступленное место и ни от кого не принимал подачек. С его появлением в бараке разговоры о девицах, лошадях, политике и любви смолкали. И тишина длилась до тех пор, пока с оглушающим треском дерева в печи не становилась до ужаса невыносимой и кто-нибудь больше не мог молчать.
– А как тебе этот Кулидж? – мог спросить работник, случайно наткнувшийся в бараке на «Бостон ивнинг транскрипт», что хранился здесь скорее для розжига, нежели чем для чтения.
Фил знал цену паузе.
– Одно могу сказать: у него хватает ума держать язык за зубами.
И принимался хохотать, а работники, как могли, продолжали беседовать о Кулидже, пока какой-нибудь юнец, желая подольститься, не решал спросить у Фила совета о выборе седла: «Стоит ли центрировать крепления подпруги? Так ли, Фил, хороши седла от «Висалии», как их хвалят?»
– Не пора ли нам стелиться, парни? – утомленно оглядывая барак, наконец предлагал хозяин ранчо.
– О нет, Фил, с чего бы!
И вновь поднимались разговоры о завтрашних работах, состоянии сенокосилок – если дело было весной, и о местах, где водились дикие лошади. Или же Фил начинал рассказывать о Бронко Генри – лучшем из наездников и лучшем из ковбоев, кто научил его искусству плетения из сыромятной кожи.
На днях, закончив историю, Фил выглянул в окно и увидел за шепчущими на ветру плевелами свет в спальне большого дома, однако в следующее мгновение свет погас. Джордж не дождался брата!
– Ладно, ребята, пора мне на боковую, – горько усмехнувшись, объявил Фил и вышел из барака.
Стоило ему уйти, как голос поднял один горластый новичок:
– А малый-то наш из одиночек. Ну, я о том, о чем мы толковали, пока он не явился: думаете, его когда-нибудь любили? Или он любил кого?
Старший из работников смерил юнца тяжелым взглядом. Говорить так про Фила было неуместно и даже мерзко. Какое отношение любовь имеет к хозяину ранчо? Наклонившись, он потрепал по бурому загривку спавшую в ногах псину и произнес:
– На твоем месте я не стал бы заикаться о евонной любви. И уж точно не стал бы звать его малым. Будь попочтительней, ей-богу.
– Ладно-ладно, – краснея, пробормотал новичок.
– Поучись уважению. Не говоря уж о том, сколько тебе предстоит учиться любви…
По осени тысячное поголовье волов братья вместе с помощниками перегоняли на скотный двор в крошечном городке под названием Бич, что в двадцати пяти милях от ранчо. Если с погодой везло, в лицо не бил мокрый снег, не хлестал дождь и кровь в жилах не стыла от холода, то дело это становилось для ковбоев чем-то вроде прогулки или пикника. В пути юные работники предвкушали, как в полуденный час, когда тени скроются за кустами полыни, развернут приготовленные миссис Льюис яства, грезили о салуне напротив скотного двора и о девицах, обитавших в верхних комнатах этого заведения.
К тому времени, как, окрасив небо красным заревом, поднялось солнце, а со стеблей иссушенных трав начал сходить иней, стадо растянулось больше чем на полмили. Околдованные магией ночи, братья шли молча в священные минуты рассвета, и молча шли их спутники, прислушиваясь к воловьему топ-топ-топоту, хрусту полыни под копытами, скр-скр-скрежету кожаных седел да звону аргентановых удил. Таким огромным и негостеприимным казался мир в лучах растущего из-за восточных холмов солнца, что путники тешили себя воспоминаниями о доме, печурке на кухне, голосе матери, школьной раздевалке и радостных криках ребят, бегущих на перемену.
Когда погонщики поднимали головы, их взгляды приковывала открытая всем ветрам бревенчатая хижина. Много лет как оставленная разорившимся хозяином, она превратилась в пристанище для одичавших лошадей, в летний зной приходивших сюда в поисках тени. На дороге, вилявшей вдоль ограды из колючей проволоки, путников встречал покрытый ржавчиной и продырявленный пулями знак, призывавший попробовать табак уже не существующей марки.
Первым, припав к седлу, ехал морщинистый старик, старший из работников. Один из тех, кто также некогда мечтал об уютном домике, нескольких акрах земли с зеленеющим лугом и парой голов скота, о женщине, ставшей бы ему верной женой, и, кто знает, может, даже о ребенке. Поднявшись над холмами, солнце обогрело души путников, и те принялись болтать, шутить, смеяться. Придет время, и мечты их обязательно сбудутся: дожив до седин старика, что ехал впереди стада, они обзаведутся тихим уголком, деньгами и тем, на что их потратить, – а пока кони погонщиков двигались к скотному двору, к салуну и девицам в комнатах наверху.
Во тьме ночи молчали и братья. До боли знакомы были друг другу их силуэты – один худощавый, другой коренастый, и ни с чем не могли они спутать скрежет родного седла. В начале пути братья всегда брели в тишине, погруженные в думы о прошлом, и это молчание давало Филу надежду, что прошлое не изменилось – разве что совсем немного.
Лишь темно-зеленый «стирнс-найт», пробивавший себе путь сквозь воловье стадо, вывел мужчину из себя. Посмев рявкнуть клаксоном, водитель распугал скот, и потому Фил тотчас погнал золотисто-гнедого коня к машине и поднял его на дыбы, ясно давая понять, что от встречи он не в восторге. Надо было видеть, как съежились в испуге пассажиры на заднем сиденье!
– Молокососы проклятые! – гаркнул Фил. – Слышал, Джордж, как этот сукин сын сигналил? Они даже представить себе не могут, как скот пугается. Взорвал бы все машины к чертовой матери.
– Ей-богу, Фил, – нехотя ответил преданный своему «рео» (и всему, чем он обладал) Джордж, всматриваясь в даль за спинами животных, – нужно идти в ногу со временем.
– Со временем! – буркнул Фил и презрительно сплюнул. – Десять лет назад ездил тут один добротный дилижанс, запряженный четверкой отличных лошадей, вот им управлял настоящий мужчина. Как его звали, толстяк?
Фил редко забывал имена, но таков был его способ завязать утреннюю беседу.
– Хармон.
– Точно-точно.
После братья погрузились в воспоминания о детстве, о времени, проведенном с Бронко Генри, и времени, когда правительство еще не решилось отправить последних вонючих индейцев в резервации. Поднимая пыль и раздражая местных собак, индейцы неделю брели мимо ранчо к землям южного Айдахо. Фил хорошо помнил вислозадых лошадей, на которых они уходили, и расшатанные повозки, куда набивались их семьи. Не было с ними только вождя, этого изворотливого старикана. Он не дожил.
Фил любил напоминать брату, как часто, перегоняя скот, он отыскивал наконечники индейских стрел и пополнял ими свою великолепную коллекцию. «Не припомню, чтобы Джордж нашел хоть один», – ухмылялся он про себя. Как и сейчас, Джордж смотрел только вдаль, за пыльные спины волов.
В эту минуту Фил размышлял, с чего бы начать разговор в такой особенный день. Может, с Бронко Генри? Или с той прошлогодней истории, когда машина пыталась прорваться сквозь сплошной поток скота и ее снесло в канаву? Как, разинув рот, смотрели на опрокинутую машину две женщины и мужчина, все в коротких никербокерах, нелепейшем из всех видов одежды. Во главе стада шел Джордж и, подцепив машину веревкой, он вытащил несчастных, так и не преподав им должного урока.
Или начать день с самого важного – ведь пошел двадцать пятый год, как они гонят своих волов! Двадцать пять лет прошло! Фила охватило чувство гордости, однако в то же время он ощутил себя старым. Было что-то особенное в том, что их первый перегон состоялся в столь притягательно круглую дату, в девятисотом году – девять-ноль-ноль. Боже! Боже мой! Бронко Генри был тогда не старше, чем они с братом.
Строго говоря, он был не сильно старше и ребят, что шли вместе с ними. Разодетые в модные тряпки юноши, сетовал Фил, уже и не понимали, кто они: ковбои или герои движущихся картинок. Сам он кино не смотрел никогда и ни за что не стал бы, однако юные работники ранчо зачитывались журналами о движущихся картинках, а человек по имени У. С. Харт[3 - Уильям Суррей Харт (1864–1946) – звезда немого кино, сценарист и режиссер.] был для них полубогом. Поглядите теперь, как они загибают шляпы, какие шелковые банданы вяжут на шею, какие щегольские носят чапы! Один парень, слышал Фил, угробил месячный заработок на сапоги с замысловатыми узорами – месяц работы ради дребедени, которую он наденет на ногу! А потом удивляются, как это они на мели! Вот уж точно, чем глупее человек, тем сильней его тянет приукрасить свой зад.
Пока он так размышлял, Джордж слегка забрал вправо, и теперь, стараясь не разозлить волов, Фил пробирался сквозь бредущее стадо, догоняя брата.
– Что ж, Джорджи-бой, – ухмыльнулся он, – вот и настал тот день.
Хоть и братья, какими же разными они были ездоками, как непохоже держались в седле. Один сидел, развалившись, едва придерживая поводья голой рукой; другой – прямо, втянув живот, выпрямив спину и глядя только вперед.
– Тот? – обернулся Джордж. – Какой еще день?
– Какой день, говоришь? Какой день, толстячок? Да сегодня стукнуло двадцать пять! Девять-ноль-ноль! Ты что, не помнишь?
– Честно сказать, забыл.
Да как он мог забыть? О чем же он думал весь этот год?
– Двадцать пять лет. Что-то вроде серебряного юбилея у нас состряпывается, да?
В настроении шутливом или дурном Фил нередко коверкал слова.
– Давненько это было.
– Да, но, черт возьми, не так уж и давно.
Сколько лет прошло со времен их детства – не имело значения для Фила. С тех пор как ему исполнилось двенадцать, а Джорджу – десять, он не чувствовал себя и годом старше – только в разы умнее.
С недавних пор после песни-другой Фил приподнимался с края кровати, где он обыкновенно играл, убирал банджо, выходил из дома и направлялся к бараку тропкой среди шумящих плевел.
– Ну, что у вас тут, ребята, – говорил он, жмурясь от яркого света газовой лампы.
И всякий раз кто-нибудь из работников поднимался, освобождая ему стул, когда-то принесенный сюда из большого дома.
– Да ладно вам, – неизменно отвечал Фил, – не беспокойтесь.
Он никогда не садился на уступленное место и ни от кого не принимал подачек. С его появлением в бараке разговоры о девицах, лошадях, политике и любви смолкали. И тишина длилась до тех пор, пока с оглушающим треском дерева в печи не становилась до ужаса невыносимой и кто-нибудь больше не мог молчать.
– А как тебе этот Кулидж? – мог спросить работник, случайно наткнувшийся в бараке на «Бостон ивнинг транскрипт», что хранился здесь скорее для розжига, нежели чем для чтения.
Фил знал цену паузе.
– Одно могу сказать: у него хватает ума держать язык за зубами.
И принимался хохотать, а работники, как могли, продолжали беседовать о Кулидже, пока какой-нибудь юнец, желая подольститься, не решал спросить у Фила совета о выборе седла: «Стоит ли центрировать крепления подпруги? Так ли, Фил, хороши седла от «Висалии», как их хвалят?»
– Не пора ли нам стелиться, парни? – утомленно оглядывая барак, наконец предлагал хозяин ранчо.
– О нет, Фил, с чего бы!
И вновь поднимались разговоры о завтрашних работах, состоянии сенокосилок – если дело было весной, и о местах, где водились дикие лошади. Или же Фил начинал рассказывать о Бронко Генри – лучшем из наездников и лучшем из ковбоев, кто научил его искусству плетения из сыромятной кожи.
На днях, закончив историю, Фил выглянул в окно и увидел за шепчущими на ветру плевелами свет в спальне большого дома, однако в следующее мгновение свет погас. Джордж не дождался брата!
– Ладно, ребята, пора мне на боковую, – горько усмехнувшись, объявил Фил и вышел из барака.
Стоило ему уйти, как голос поднял один горластый новичок:
– А малый-то наш из одиночек. Ну, я о том, о чем мы толковали, пока он не явился: думаете, его когда-нибудь любили? Или он любил кого?
Старший из работников смерил юнца тяжелым взглядом. Говорить так про Фила было неуместно и даже мерзко. Какое отношение любовь имеет к хозяину ранчо? Наклонившись, он потрепал по бурому загривку спавшую в ногах псину и произнес:
– На твоем месте я не стал бы заикаться о евонной любви. И уж точно не стал бы звать его малым. Будь попочтительней, ей-богу.
– Ладно-ладно, – краснея, пробормотал новичок.
– Поучись уважению. Не говоря уж о том, сколько тебе предстоит учиться любви…
По осени тысячное поголовье волов братья вместе с помощниками перегоняли на скотный двор в крошечном городке под названием Бич, что в двадцати пяти милях от ранчо. Если с погодой везло, в лицо не бил мокрый снег, не хлестал дождь и кровь в жилах не стыла от холода, то дело это становилось для ковбоев чем-то вроде прогулки или пикника. В пути юные работники предвкушали, как в полуденный час, когда тени скроются за кустами полыни, развернут приготовленные миссис Льюис яства, грезили о салуне напротив скотного двора и о девицах, обитавших в верхних комнатах этого заведения.
К тому времени, как, окрасив небо красным заревом, поднялось солнце, а со стеблей иссушенных трав начал сходить иней, стадо растянулось больше чем на полмили. Околдованные магией ночи, братья шли молча в священные минуты рассвета, и молча шли их спутники, прислушиваясь к воловьему топ-топ-топоту, хрусту полыни под копытами, скр-скр-скрежету кожаных седел да звону аргентановых удил. Таким огромным и негостеприимным казался мир в лучах растущего из-за восточных холмов солнца, что путники тешили себя воспоминаниями о доме, печурке на кухне, голосе матери, школьной раздевалке и радостных криках ребят, бегущих на перемену.
Когда погонщики поднимали головы, их взгляды приковывала открытая всем ветрам бревенчатая хижина. Много лет как оставленная разорившимся хозяином, она превратилась в пристанище для одичавших лошадей, в летний зной приходивших сюда в поисках тени. На дороге, вилявшей вдоль ограды из колючей проволоки, путников встречал покрытый ржавчиной и продырявленный пулями знак, призывавший попробовать табак уже не существующей марки.
Первым, припав к седлу, ехал морщинистый старик, старший из работников. Один из тех, кто также некогда мечтал об уютном домике, нескольких акрах земли с зеленеющим лугом и парой голов скота, о женщине, ставшей бы ему верной женой, и, кто знает, может, даже о ребенке. Поднявшись над холмами, солнце обогрело души путников, и те принялись болтать, шутить, смеяться. Придет время, и мечты их обязательно сбудутся: дожив до седин старика, что ехал впереди стада, они обзаведутся тихим уголком, деньгами и тем, на что их потратить, – а пока кони погонщиков двигались к скотному двору, к салуну и девицам в комнатах наверху.
Во тьме ночи молчали и братья. До боли знакомы были друг другу их силуэты – один худощавый, другой коренастый, и ни с чем не могли они спутать скрежет родного седла. В начале пути братья всегда брели в тишине, погруженные в думы о прошлом, и это молчание давало Филу надежду, что прошлое не изменилось – разве что совсем немного.
Лишь темно-зеленый «стирнс-найт», пробивавший себе путь сквозь воловье стадо, вывел мужчину из себя. Посмев рявкнуть клаксоном, водитель распугал скот, и потому Фил тотчас погнал золотисто-гнедого коня к машине и поднял его на дыбы, ясно давая понять, что от встречи он не в восторге. Надо было видеть, как съежились в испуге пассажиры на заднем сиденье!
– Молокососы проклятые! – гаркнул Фил. – Слышал, Джордж, как этот сукин сын сигналил? Они даже представить себе не могут, как скот пугается. Взорвал бы все машины к чертовой матери.
– Ей-богу, Фил, – нехотя ответил преданный своему «рео» (и всему, чем он обладал) Джордж, всматриваясь в даль за спинами животных, – нужно идти в ногу со временем.
– Со временем! – буркнул Фил и презрительно сплюнул. – Десять лет назад ездил тут один добротный дилижанс, запряженный четверкой отличных лошадей, вот им управлял настоящий мужчина. Как его звали, толстяк?
Фил редко забывал имена, но таков был его способ завязать утреннюю беседу.
– Хармон.
– Точно-точно.
После братья погрузились в воспоминания о детстве, о времени, проведенном с Бронко Генри, и времени, когда правительство еще не решилось отправить последних вонючих индейцев в резервации. Поднимая пыль и раздражая местных собак, индейцы неделю брели мимо ранчо к землям южного Айдахо. Фил хорошо помнил вислозадых лошадей, на которых они уходили, и расшатанные повозки, куда набивались их семьи. Не было с ними только вождя, этого изворотливого старикана. Он не дожил.
Фил любил напоминать брату, как часто, перегоняя скот, он отыскивал наконечники индейских стрел и пополнял ими свою великолепную коллекцию. «Не припомню, чтобы Джордж нашел хоть один», – ухмылялся он про себя. Как и сейчас, Джордж смотрел только вдаль, за пыльные спины волов.
В эту минуту Фил размышлял, с чего бы начать разговор в такой особенный день. Может, с Бронко Генри? Или с той прошлогодней истории, когда машина пыталась прорваться сквозь сплошной поток скота и ее снесло в канаву? Как, разинув рот, смотрели на опрокинутую машину две женщины и мужчина, все в коротких никербокерах, нелепейшем из всех видов одежды. Во главе стада шел Джордж и, подцепив машину веревкой, он вытащил несчастных, так и не преподав им должного урока.
Или начать день с самого важного – ведь пошел двадцать пятый год, как они гонят своих волов! Двадцать пять лет прошло! Фила охватило чувство гордости, однако в то же время он ощутил себя старым. Было что-то особенное в том, что их первый перегон состоялся в столь притягательно круглую дату, в девятисотом году – девять-ноль-ноль. Боже! Боже мой! Бронко Генри был тогда не старше, чем они с братом.
Строго говоря, он был не сильно старше и ребят, что шли вместе с ними. Разодетые в модные тряпки юноши, сетовал Фил, уже и не понимали, кто они: ковбои или герои движущихся картинок. Сам он кино не смотрел никогда и ни за что не стал бы, однако юные работники ранчо зачитывались журналами о движущихся картинках, а человек по имени У. С. Харт[3 - Уильям Суррей Харт (1864–1946) – звезда немого кино, сценарист и режиссер.] был для них полубогом. Поглядите теперь, как они загибают шляпы, какие шелковые банданы вяжут на шею, какие щегольские носят чапы! Один парень, слышал Фил, угробил месячный заработок на сапоги с замысловатыми узорами – месяц работы ради дребедени, которую он наденет на ногу! А потом удивляются, как это они на мели! Вот уж точно, чем глупее человек, тем сильней его тянет приукрасить свой зад.
Пока он так размышлял, Джордж слегка забрал вправо, и теперь, стараясь не разозлить волов, Фил пробирался сквозь бредущее стадо, догоняя брата.
– Что ж, Джорджи-бой, – ухмыльнулся он, – вот и настал тот день.
Хоть и братья, какими же разными они были ездоками, как непохоже держались в седле. Один сидел, развалившись, едва придерживая поводья голой рукой; другой – прямо, втянув живот, выпрямив спину и глядя только вперед.
– Тот? – обернулся Джордж. – Какой еще день?
– Какой день, говоришь? Какой день, толстячок? Да сегодня стукнуло двадцать пять! Девять-ноль-ноль! Ты что, не помнишь?
– Честно сказать, забыл.
Да как он мог забыть? О чем же он думал весь этот год?
– Двадцать пять лет. Что-то вроде серебряного юбилея у нас состряпывается, да?
В настроении шутливом или дурном Фил нередко коверкал слова.
– Давненько это было.
– Да, но, черт возьми, не так уж и давно.
Сколько лет прошло со времен их детства – не имело значения для Фила. С тех пор как ему исполнилось двенадцать, а Джорджу – десять, он не чувствовал себя и годом старше – только в разы умнее.