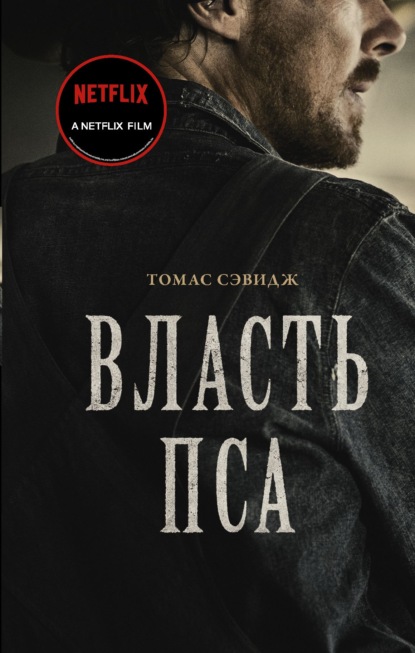По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Власть пса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В руках у Джонни была лопата, которой он копал яму под столб с навершием по типу виселицы. Отполировав и выкрасив вывеску, юноша прикрепил ее на четыре крючка, и та свободно болталась на ветру:
«ДОКТОР ДЖОН ГОРДОН».
– Здесь так ветрено, – глядя на табличку, заметила Роуз. – Хотя сейчас, кажется, стихло. Очень мило получилось.
– Ничего, ты привыкнешь… со временем.
Вернувшись в дом, они принялись за уборку. Лизол и добрая порция хорошего мыла – лучшее средство от привидений.
Когда настало время родов, Джонни сам принял благословенного сына из материнской утробы. Ребенка они опрометчиво нарекли Питером. В честь отца Роуз, дородного мужчины, которого все вокруг звали Пит.
Для Джонни не было зрелища прекраснее, чем видеть, как его возлюбленная лежала на кровати и нянчила малыша. Зачарованный таинством рождения, он выполнял все просьбы молодой матери, проводил часы у ее постели и читал ей стихи Байрона. О, как все поздравляли Джонни, как горделиво сидел он за рулем «форда», с довольной улыбкой раздавая прохожим сигары. Поймав в зеркале собственный взгляд, он вдруг задумался: куда бы ни смотрела его жена, что бы она ни делала – она всегда улыбалась. Замечал ли это кто-нибудь?
Маки расцвели, увяли и погибли. Спустившись с гор, засвистел зимний ветер, и вновь покрылась снегом голая земля. Проклюнулись маки, снова расцвели, увяли и погибли. Хотя никто не решался сказать об этом вслух, родители серьезно переживали, что мальчик долго не начинал ходить и говорить. Когда малыш наконец встал на ноги – о, что это был за день! – он пошел странной механической походкой, почти не сгибая колен. Поступь его ясно давала понять, что умение ходить – отнюдь не то, что дается каждому из нас при рождении, а навык, которому приходится долго и мучительно учиться. Когда же мальчик заговорил, речь его, хоть и слегка шепелявая, была по-взрослому рассудительной. Гордоны выдохнули с облегчением: несмотря на высокий лоб, невинный взгляд раскосых глаз и пугающую привычку прислушиваться к звукам вдалеке, сын был в здравом уме, а в четыре уже научился читать.
Довольно скоро Джонни заметил одну любопытную закономерность в поведении местных скотоводов, хотя сперва не придал ей большого значения. Когда владельцы ранчо, их жены и семьи планировали поход к врачу, желая совместить приятное с полезным, они ехали в Херндон – чтобы пройтись по магазинам и отужинать в «Херндон-хаус» или «Шугар боул». Им нравилось сидеть в больших зеленых кожаных креслах в холле гостиницы, глазеть из окна на городской люд, бегущий по каким-то своим делам, и на собственные автомобили, теснившиеся вдоль тротуара. Порой они выбирались на неспешные прогулки и дивились аккуратной лужайке перед готическим зданием из желтого кирпича. В нем находился суд, а за ним и тюрьма, куда шериф мог упечь местных пьяниц и бродяг. Они восхищались трехполосными улицами в жилом районе, краснели при виде резиновых бандажей в окнах аптеки и приходили на станцию смотреть на прибытие поезда. Ох, как тряслась под ним земля, с каким шумом вырывался пар! А после возвращались в «Херндон-хаус», чтобы понежиться в шикарном номере с ванной, и с удовольствием предвкушали, как вечером пойдут смотреть на движущиеся картинки. Такой роскоши не найти на постоялом дворе, не сыскать таких развлечений в продуваемом всеми ветрами Биче. Да и может ли придать сил место, столь крепко пропахшее обреченностью и отчаянием?
Все годы в Биче Джонни Гордон безоговорочно соблюдал клятву Гиппократа и никогда не отказывал в помощи страждущим, платили ему за это или нет. Клиентами доктора были фермеры с засушливых краев, чья жизнь во многом напоминала его собственную. Запад пленил их дешевыми землями, о коих кричали цветные афиши, расклеенные на железнодорожных станциях; и, Господь свидетель, земли здесь действительно были – только не было дождей. Поэтому благоденствовали в долине лишь владельцы крупных ранчо, подмявшие под себя реку со всеми притоками. Тогда как фермеры с засушливых земель – норвежцы, шведы, австрияки – в конечном счете разорялись.
Врача они вызывали, когда требовалась вправить поломанные кости и залечить руки, подранные зубьями циркулярной пилы; когда ударом в пах вчерашних городских жителей сбивали с ног лошади и коровы; и когда рождались дети. Фермеры кипятили воду, чтобы Джонни смог омыть инструменты, и тот, смеясь, нахваливал хныкавших и рыдавших на весь свет младенцев. После его приглашали отметить знаменательное событие за обшарпанным кухонным столом, и, стараясь отвлечь отцов от мыслей о страдающих женах, Джонни отпускал шутки: «Почему дядя Сэм носит красно-бело-синие подтяжки?» Домой в Бич он мчался, весело напевая, с галлоном-двумя черемухового вина в багажнике «форда». «Они заплатят, когда смогут», – уверял он Роуз. И они платили. Когда могли.
Теперь же качавшаяся на виселице вывеска у постоялого двора вконец обшарпалась, и имя на ней было едва различимо. Беленые оленьи рога над входом рухнули под натиском ветра, а здание давно нуждалось в покраске. Зато внутри царила невозможная чистота, и сверкали намытые стекла. Платить по счетам Гордонам позволяли отнюдь не врачебные доходы Джонни, а те случайные скотоводы, что ночевали и обедали в гостинице, да коммивояжеры с их партиями тканей да булавок.
Питер страдал не только от целого ряда детских болезней, но и мучился бесконечной простудой и жаром, что вытягивали из него все соки и превращали кости в руках и ногах в тонкую хрупкую корочку. Боясь, что недуги сына бросят тень на врачебные навыки отца, Джонни размышлял о парадоксе, описанном в древних книгах, – как сын сапожника ходит без сапог, так и сын врача извечно болен. Однако Питер никогда не жаловался, ни о чем не просил и безропотно сжимал в руках игрушки, какие вручали ему родители. Он рано понял, что значит быть изгоем, и смотрел на мир неподвижными глубокими глазами, выражающими все и одновременно ничего. Играм мальчик предпочитал чтение и одиночество, а, выйдя на солнечный свет, щурился и прятал глаза.
Жители Бича рано задували лампы. Пфу! – и мир сводился к одинокой лампадке в комнате больного, бледному мерцанию фонаря на стрелке у железнодорожной станции и к свету луны. В это время Питер и уходил из дома. «Что ты там делаешь?» – спрашивали его Роуз или Джонни, и Питер неизменно отвечал: «Ничего». «Ничего» означало для них, что мальчик отправлялся гулять, бесцельно брести в никуда.
Вертелась и вертелась стрелка часов на кухне. Когда минул второй час, Джонни охватил приступ паники, и от страха засосало под ложечкой. Четверть часа он сидел и нервно стриг ногти, боясь поделиться ужасом с женой, а после сказал:
– Пойду прогуляюсь, посмотрю, что там с ним.
Долина была залита светом ночного неба; лунной дорожкой блистала тропа, сверкая каплями росы на кустах полыни. В округе не было ничего более манящего, чем река, размышлял Джонни, а на берегу ее – чем одинокая ивовая рощица. Мальчик должен быть там. А если нет?
Сбавив шаг, Джонни направился к ивняку и действительно обнаружил в нем сына. Тот сидел у самой воды, прислонившись спиной к дереву, там, где, сверкая и пенясь, поток разбивался о корягу на песчаной отмели и делился надвое. Журчание воды, должно быть, заглушило осторожную поступь отца – освещенный холодным сиянием мальчик не двигался, костлявый лоб отбрасывал тень на глубоко посаженные глаза. Джонни не решался прервать таинство, представшее перед его взором. Точно так же боялся он подойти к сыну, разглядывавшему себя в кривом зеркале, которое висело над раковиной. Глаза не выдавали мальчика, и Джонни оставалось только гадать, что он делает – высматривает нечто, осуждает себя или ищет товарища в собственном отражении. Однако, когда Питер оборачивался, на лице его не было ни тени смущения: то, что он делал, отнюдь не казалось мальчику странным или неправильным. Это Джонни мучило чувство вины, и, как бы ни хотелось ему разделить бремя с Роуз, заговорить о своих заботах он не решался.
В складках куртки Питера, в тенях, скрывающих лицо, и в листьях ивы, звездами расходящихся над головой, присутствовало что-то религиозное, можно было принять мальчика за погруженного в молитву монаха. Джонни был поражен: не отчужденностью ученого или доктора обладал его сын, но отрешенностью священника или мистика. Потрясенный неуместностью собственного голоса, он окликнул его:
– Питер?
– Как раз собирался домой, – даже не удивился тот.
– Переживал, куда ты подевался.
– Я смотрел.
– На что?
– На луну.
Как курицы в птичнике до смерти заклевывают самую слабую в своем племени, так и Питера в школе дразнили, задирали и обзывали сопляком – из всех углов доносилось это слово. Однако мальчик обратил внимание на задир, лишь когда его отца обозвали пьяницей. Сверкая дикими глазами, обидчики проворно обступили Питера кругом и затянули в унисон гнусавый, терзающий уши звук. Таким же кругом, не сомневался мальчик, стояли их отцы, изводя изгоев и отщепенцев, а до них отцы их отцов, и так же будут стоять их сыновья:
Доктор Джонни – пьяница,
За бутылкой тянется.
Питер напряг худенькие плечи и хотел было броситься на обидчиков, как вдруг остановился и одного за другим стал обводить их внимательным взглядом. Вот Фред, что каждый день, трясясь в пятидесятидолларовом седле, добирается до школы верхом. Вот сын бармена Дик, что разрисовал стены в туалете и просверлил в них дырочку, чтобы подглядывать за девчонками, хотя учился он столь же прилежно, как и сам Питер. Вот проныра Ларри, весом под две сотни фунтов, что все больше молчит и только усмехается. Питер со сдержанностью старика разглядывал мальчишек и понимал, что с такими нет смысла бороться по их же правилам. Знал и то, что холодную безличную ненависть питал он не только к обступившим его однокашникам, но ко всем нормальным, богатым и безмятежным, ко всем, кто смел осквернить образ семьи Гордонов.
Образ этот стал принимать конкретные формы, когда Питер начал вести альбом с фотографиями, рисунками и рекламными объявлениями, вырезанными из старых журналов, о которых в тех краях почти никто и не слышал. «Таун энд кантри», «Интернешнл студио», «Ментор», «Сенчури» – журналы приносила одна странная женщина, и, никем не читанные, они годами валялись в школьной раздевалке среди коробок с забытыми галошами и потерявшимися рукавицами. Учительница, флегматичная добрая тетушка, часто размышлявшая о детстве и своем драгоценном котенке, не возражала против затеи Питера: какой, в самом деле, толк от этих журналов? Что объединяло фотографии и рисунки, которые бледными ручками вырезал и вклеивал в альбом мальчик, так это атмосфера роскоши и изобилия. Океанские лайнеры и роскошные поезда, дорогие украшения и английские загородные коттеджи, тяжелые драпировки и кожаные саквояжи, пляжи Ньюпорт-Бич и машины его франтоватых купальщиков: «локомобили», «изотта-фраскини», «минервы». Однако не только богатство интересовало Питера: на каждом вырезанном им рисунке и рекламной афише были изображены люди, напоминавшие ему отца или мать. Вот мама стоит на террасе перед уставленной скульптурами лужайкой. Вот папа заселяется в гранд-отель. «Книга мечтаний» затмевала беспрестанно скулящие ветра и извечные неудачи семьи Питера. Альбом был планом будущей жизни, где сам он – величайший хирург, читающий доклады перед учеными мужами Франции, а все вокруг дивятся красоте его матери и доброте отца.
В школе Питеру сообщили, что отца его видели с девицей легкого поведения.
Это было правдой. Джонни говорил с проституткой, что начинала в одном заведении в Солт-Лейк-Сити, а когда прошла цветения пора, разругалась со всеми, села на поезд до Херндона и устроилась в красно-бело-синие комнаты. Все считали девушку выжившей из ума. В Херндоне ее не раз видели на коленях перед кроватью: она стала много молиться и рыскать по ночам в поисках церквей, две из которых никогда не закрывались. Если бы не странное поведение, девушке удалось бы ускользнуть от зоркого взгляда хозяйки борделя, заметившей у подопечной признаки чахотки. Однако, заботясь о чистоте своего заведения, мадам предпочла отправить больную в Бич, где клиенты были не столь привередливы, и девушку по имени Альма ждали с распростертыми объятиями. «Бог тебе в помощь, – наставляла ее хозяйка, – ты ж во всем на него полагаешься».
И она приехала в Бич с чемоданом, в котором хранились несколько кимоно, пачка «Мило вайолетс» и фотография отца, вышвырнувшего ее на улицу. Если бы только она слушалась его! Разве стал бы он наказывать, если бы не любил?
Для доктора Джонни было ясно, что Альма страдала вовсе не от чахотки. Он видел это по глазам, состоянию кожи, течению ее мыслей. Джонни обладал поразительным даром распознавать диагноз. Живи он в другое время, стал бы преуспевающим врачом и сидел бы в кабинете с тяжелой испанской мебелью и персидскими коврами. Увы, так уж бывает, что рождаемся мы не в то время и не в том месте. Осматривая пациента, Джонни будто слышал в своем стетоскопе шепот, подсказывающий ему верный диагноз. Этот дар перешел и к сыну.
Джонни угостил Альму выпивкой и, отведя в сторону, сказал:
– Тебе нельзя больше этим заниматься.
– Бог велит мне работать, – сделав глоток, отвечала та.
– Не ради себя самой.
– Этим я ничего не должна.
– Должна. И ты это знаешь. Иначе не говорила бы столько про Бога. Ты знаешь, чего он хочет.
– А если Бог обманул меня? – Девушка задумчиво коснулась лица тыльной стороной ладони. – Что тогда?
Несколько дней она провела в постели и теперь едва стояла на ногах.
– Воздержись от любых связей, хотя бы на время.
Так, ночь за ночью и рассвет за рассветом прошел еще один месяц.
– Ей осталась неделя, может, чуть больше, – говорил Джонни Роуз, – но с постели она больше не поднимется. Сказали, не хотят, чтобы она у них померла. Да и та еще радость – умирать в такой каморке. Конечно, – вздохнул он, доставая пачку «Свит кэпорал», – кто-то скажет, что большего ей и не причитается…
– Я уже постелила ей наверху, Джон.
Губы доктора растянулись в кривоватой улыбке. Он подошел к жене и легонько коснулся ее подбородка.
– Ты моя маленькая миссис Вандербильт.
– Нет, – покачала она головой, – миссис Гордон. Миссис Джон Гордон.
С тех пор постоялый двор прозвали в городке шлюхиным двором, ведь именно здесь скончалась безумная набожная проститутка. И многие благопристойные женщины Херндона и Бича, завидев Роуз на улице, хоть та и оставалась докторской женой, не решались с ней поздороваться. Непросто было простить ей красоту – беспечную и бескорыстную красоту бабочки, – беглую улыбку и горделивую осанку.
– Он станет доктором, говорю тебе! – в сердцах восклицал Джонни. – Как он читает все время! Как он смотрит на мир широко открытыми глазами, ты замечала? Ведь это так важно! Он обожает факты.
«ДОКТОР ДЖОН ГОРДОН».
– Здесь так ветрено, – глядя на табличку, заметила Роуз. – Хотя сейчас, кажется, стихло. Очень мило получилось.
– Ничего, ты привыкнешь… со временем.
Вернувшись в дом, они принялись за уборку. Лизол и добрая порция хорошего мыла – лучшее средство от привидений.
Когда настало время родов, Джонни сам принял благословенного сына из материнской утробы. Ребенка они опрометчиво нарекли Питером. В честь отца Роуз, дородного мужчины, которого все вокруг звали Пит.
Для Джонни не было зрелища прекраснее, чем видеть, как его возлюбленная лежала на кровати и нянчила малыша. Зачарованный таинством рождения, он выполнял все просьбы молодой матери, проводил часы у ее постели и читал ей стихи Байрона. О, как все поздравляли Джонни, как горделиво сидел он за рулем «форда», с довольной улыбкой раздавая прохожим сигары. Поймав в зеркале собственный взгляд, он вдруг задумался: куда бы ни смотрела его жена, что бы она ни делала – она всегда улыбалась. Замечал ли это кто-нибудь?
Маки расцвели, увяли и погибли. Спустившись с гор, засвистел зимний ветер, и вновь покрылась снегом голая земля. Проклюнулись маки, снова расцвели, увяли и погибли. Хотя никто не решался сказать об этом вслух, родители серьезно переживали, что мальчик долго не начинал ходить и говорить. Когда малыш наконец встал на ноги – о, что это был за день! – он пошел странной механической походкой, почти не сгибая колен. Поступь его ясно давала понять, что умение ходить – отнюдь не то, что дается каждому из нас при рождении, а навык, которому приходится долго и мучительно учиться. Когда же мальчик заговорил, речь его, хоть и слегка шепелявая, была по-взрослому рассудительной. Гордоны выдохнули с облегчением: несмотря на высокий лоб, невинный взгляд раскосых глаз и пугающую привычку прислушиваться к звукам вдалеке, сын был в здравом уме, а в четыре уже научился читать.
Довольно скоро Джонни заметил одну любопытную закономерность в поведении местных скотоводов, хотя сперва не придал ей большого значения. Когда владельцы ранчо, их жены и семьи планировали поход к врачу, желая совместить приятное с полезным, они ехали в Херндон – чтобы пройтись по магазинам и отужинать в «Херндон-хаус» или «Шугар боул». Им нравилось сидеть в больших зеленых кожаных креслах в холле гостиницы, глазеть из окна на городской люд, бегущий по каким-то своим делам, и на собственные автомобили, теснившиеся вдоль тротуара. Порой они выбирались на неспешные прогулки и дивились аккуратной лужайке перед готическим зданием из желтого кирпича. В нем находился суд, а за ним и тюрьма, куда шериф мог упечь местных пьяниц и бродяг. Они восхищались трехполосными улицами в жилом районе, краснели при виде резиновых бандажей в окнах аптеки и приходили на станцию смотреть на прибытие поезда. Ох, как тряслась под ним земля, с каким шумом вырывался пар! А после возвращались в «Херндон-хаус», чтобы понежиться в шикарном номере с ванной, и с удовольствием предвкушали, как вечером пойдут смотреть на движущиеся картинки. Такой роскоши не найти на постоялом дворе, не сыскать таких развлечений в продуваемом всеми ветрами Биче. Да и может ли придать сил место, столь крепко пропахшее обреченностью и отчаянием?
Все годы в Биче Джонни Гордон безоговорочно соблюдал клятву Гиппократа и никогда не отказывал в помощи страждущим, платили ему за это или нет. Клиентами доктора были фермеры с засушливых краев, чья жизнь во многом напоминала его собственную. Запад пленил их дешевыми землями, о коих кричали цветные афиши, расклеенные на железнодорожных станциях; и, Господь свидетель, земли здесь действительно были – только не было дождей. Поэтому благоденствовали в долине лишь владельцы крупных ранчо, подмявшие под себя реку со всеми притоками. Тогда как фермеры с засушливых земель – норвежцы, шведы, австрияки – в конечном счете разорялись.
Врача они вызывали, когда требовалась вправить поломанные кости и залечить руки, подранные зубьями циркулярной пилы; когда ударом в пах вчерашних городских жителей сбивали с ног лошади и коровы; и когда рождались дети. Фермеры кипятили воду, чтобы Джонни смог омыть инструменты, и тот, смеясь, нахваливал хныкавших и рыдавших на весь свет младенцев. После его приглашали отметить знаменательное событие за обшарпанным кухонным столом, и, стараясь отвлечь отцов от мыслей о страдающих женах, Джонни отпускал шутки: «Почему дядя Сэм носит красно-бело-синие подтяжки?» Домой в Бич он мчался, весело напевая, с галлоном-двумя черемухового вина в багажнике «форда». «Они заплатят, когда смогут», – уверял он Роуз. И они платили. Когда могли.
Теперь же качавшаяся на виселице вывеска у постоялого двора вконец обшарпалась, и имя на ней было едва различимо. Беленые оленьи рога над входом рухнули под натиском ветра, а здание давно нуждалось в покраске. Зато внутри царила невозможная чистота, и сверкали намытые стекла. Платить по счетам Гордонам позволяли отнюдь не врачебные доходы Джонни, а те случайные скотоводы, что ночевали и обедали в гостинице, да коммивояжеры с их партиями тканей да булавок.
Питер страдал не только от целого ряда детских болезней, но и мучился бесконечной простудой и жаром, что вытягивали из него все соки и превращали кости в руках и ногах в тонкую хрупкую корочку. Боясь, что недуги сына бросят тень на врачебные навыки отца, Джонни размышлял о парадоксе, описанном в древних книгах, – как сын сапожника ходит без сапог, так и сын врача извечно болен. Однако Питер никогда не жаловался, ни о чем не просил и безропотно сжимал в руках игрушки, какие вручали ему родители. Он рано понял, что значит быть изгоем, и смотрел на мир неподвижными глубокими глазами, выражающими все и одновременно ничего. Играм мальчик предпочитал чтение и одиночество, а, выйдя на солнечный свет, щурился и прятал глаза.
Жители Бича рано задували лампы. Пфу! – и мир сводился к одинокой лампадке в комнате больного, бледному мерцанию фонаря на стрелке у железнодорожной станции и к свету луны. В это время Питер и уходил из дома. «Что ты там делаешь?» – спрашивали его Роуз или Джонни, и Питер неизменно отвечал: «Ничего». «Ничего» означало для них, что мальчик отправлялся гулять, бесцельно брести в никуда.
Вертелась и вертелась стрелка часов на кухне. Когда минул второй час, Джонни охватил приступ паники, и от страха засосало под ложечкой. Четверть часа он сидел и нервно стриг ногти, боясь поделиться ужасом с женой, а после сказал:
– Пойду прогуляюсь, посмотрю, что там с ним.
Долина была залита светом ночного неба; лунной дорожкой блистала тропа, сверкая каплями росы на кустах полыни. В округе не было ничего более манящего, чем река, размышлял Джонни, а на берегу ее – чем одинокая ивовая рощица. Мальчик должен быть там. А если нет?
Сбавив шаг, Джонни направился к ивняку и действительно обнаружил в нем сына. Тот сидел у самой воды, прислонившись спиной к дереву, там, где, сверкая и пенясь, поток разбивался о корягу на песчаной отмели и делился надвое. Журчание воды, должно быть, заглушило осторожную поступь отца – освещенный холодным сиянием мальчик не двигался, костлявый лоб отбрасывал тень на глубоко посаженные глаза. Джонни не решался прервать таинство, представшее перед его взором. Точно так же боялся он подойти к сыну, разглядывавшему себя в кривом зеркале, которое висело над раковиной. Глаза не выдавали мальчика, и Джонни оставалось только гадать, что он делает – высматривает нечто, осуждает себя или ищет товарища в собственном отражении. Однако, когда Питер оборачивался, на лице его не было ни тени смущения: то, что он делал, отнюдь не казалось мальчику странным или неправильным. Это Джонни мучило чувство вины, и, как бы ни хотелось ему разделить бремя с Роуз, заговорить о своих заботах он не решался.
В складках куртки Питера, в тенях, скрывающих лицо, и в листьях ивы, звездами расходящихся над головой, присутствовало что-то религиозное, можно было принять мальчика за погруженного в молитву монаха. Джонни был поражен: не отчужденностью ученого или доктора обладал его сын, но отрешенностью священника или мистика. Потрясенный неуместностью собственного голоса, он окликнул его:
– Питер?
– Как раз собирался домой, – даже не удивился тот.
– Переживал, куда ты подевался.
– Я смотрел.
– На что?
– На луну.
Как курицы в птичнике до смерти заклевывают самую слабую в своем племени, так и Питера в школе дразнили, задирали и обзывали сопляком – из всех углов доносилось это слово. Однако мальчик обратил внимание на задир, лишь когда его отца обозвали пьяницей. Сверкая дикими глазами, обидчики проворно обступили Питера кругом и затянули в унисон гнусавый, терзающий уши звук. Таким же кругом, не сомневался мальчик, стояли их отцы, изводя изгоев и отщепенцев, а до них отцы их отцов, и так же будут стоять их сыновья:
Доктор Джонни – пьяница,
За бутылкой тянется.
Питер напряг худенькие плечи и хотел было броситься на обидчиков, как вдруг остановился и одного за другим стал обводить их внимательным взглядом. Вот Фред, что каждый день, трясясь в пятидесятидолларовом седле, добирается до школы верхом. Вот сын бармена Дик, что разрисовал стены в туалете и просверлил в них дырочку, чтобы подглядывать за девчонками, хотя учился он столь же прилежно, как и сам Питер. Вот проныра Ларри, весом под две сотни фунтов, что все больше молчит и только усмехается. Питер со сдержанностью старика разглядывал мальчишек и понимал, что с такими нет смысла бороться по их же правилам. Знал и то, что холодную безличную ненависть питал он не только к обступившим его однокашникам, но ко всем нормальным, богатым и безмятежным, ко всем, кто смел осквернить образ семьи Гордонов.
Образ этот стал принимать конкретные формы, когда Питер начал вести альбом с фотографиями, рисунками и рекламными объявлениями, вырезанными из старых журналов, о которых в тех краях почти никто и не слышал. «Таун энд кантри», «Интернешнл студио», «Ментор», «Сенчури» – журналы приносила одна странная женщина, и, никем не читанные, они годами валялись в школьной раздевалке среди коробок с забытыми галошами и потерявшимися рукавицами. Учительница, флегматичная добрая тетушка, часто размышлявшая о детстве и своем драгоценном котенке, не возражала против затеи Питера: какой, в самом деле, толк от этих журналов? Что объединяло фотографии и рисунки, которые бледными ручками вырезал и вклеивал в альбом мальчик, так это атмосфера роскоши и изобилия. Океанские лайнеры и роскошные поезда, дорогие украшения и английские загородные коттеджи, тяжелые драпировки и кожаные саквояжи, пляжи Ньюпорт-Бич и машины его франтоватых купальщиков: «локомобили», «изотта-фраскини», «минервы». Однако не только богатство интересовало Питера: на каждом вырезанном им рисунке и рекламной афише были изображены люди, напоминавшие ему отца или мать. Вот мама стоит на террасе перед уставленной скульптурами лужайкой. Вот папа заселяется в гранд-отель. «Книга мечтаний» затмевала беспрестанно скулящие ветра и извечные неудачи семьи Питера. Альбом был планом будущей жизни, где сам он – величайший хирург, читающий доклады перед учеными мужами Франции, а все вокруг дивятся красоте его матери и доброте отца.
В школе Питеру сообщили, что отца его видели с девицей легкого поведения.
Это было правдой. Джонни говорил с проституткой, что начинала в одном заведении в Солт-Лейк-Сити, а когда прошла цветения пора, разругалась со всеми, села на поезд до Херндона и устроилась в красно-бело-синие комнаты. Все считали девушку выжившей из ума. В Херндоне ее не раз видели на коленях перед кроватью: она стала много молиться и рыскать по ночам в поисках церквей, две из которых никогда не закрывались. Если бы не странное поведение, девушке удалось бы ускользнуть от зоркого взгляда хозяйки борделя, заметившей у подопечной признаки чахотки. Однако, заботясь о чистоте своего заведения, мадам предпочла отправить больную в Бич, где клиенты были не столь привередливы, и девушку по имени Альма ждали с распростертыми объятиями. «Бог тебе в помощь, – наставляла ее хозяйка, – ты ж во всем на него полагаешься».
И она приехала в Бич с чемоданом, в котором хранились несколько кимоно, пачка «Мило вайолетс» и фотография отца, вышвырнувшего ее на улицу. Если бы только она слушалась его! Разве стал бы он наказывать, если бы не любил?
Для доктора Джонни было ясно, что Альма страдала вовсе не от чахотки. Он видел это по глазам, состоянию кожи, течению ее мыслей. Джонни обладал поразительным даром распознавать диагноз. Живи он в другое время, стал бы преуспевающим врачом и сидел бы в кабинете с тяжелой испанской мебелью и персидскими коврами. Увы, так уж бывает, что рождаемся мы не в то время и не в том месте. Осматривая пациента, Джонни будто слышал в своем стетоскопе шепот, подсказывающий ему верный диагноз. Этот дар перешел и к сыну.
Джонни угостил Альму выпивкой и, отведя в сторону, сказал:
– Тебе нельзя больше этим заниматься.
– Бог велит мне работать, – сделав глоток, отвечала та.
– Не ради себя самой.
– Этим я ничего не должна.
– Должна. И ты это знаешь. Иначе не говорила бы столько про Бога. Ты знаешь, чего он хочет.
– А если Бог обманул меня? – Девушка задумчиво коснулась лица тыльной стороной ладони. – Что тогда?
Несколько дней она провела в постели и теперь едва стояла на ногах.
– Воздержись от любых связей, хотя бы на время.
Так, ночь за ночью и рассвет за рассветом прошел еще один месяц.
– Ей осталась неделя, может, чуть больше, – говорил Джонни Роуз, – но с постели она больше не поднимется. Сказали, не хотят, чтобы она у них померла. Да и та еще радость – умирать в такой каморке. Конечно, – вздохнул он, доставая пачку «Свит кэпорал», – кто-то скажет, что большего ей и не причитается…
– Я уже постелила ей наверху, Джон.
Губы доктора растянулись в кривоватой улыбке. Он подошел к жене и легонько коснулся ее подбородка.
– Ты моя маленькая миссис Вандербильт.
– Нет, – покачала она головой, – миссис Гордон. Миссис Джон Гордон.
С тех пор постоялый двор прозвали в городке шлюхиным двором, ведь именно здесь скончалась безумная набожная проститутка. И многие благопристойные женщины Херндона и Бича, завидев Роуз на улице, хоть та и оставалась докторской женой, не решались с ней поздороваться. Непросто было простить ей красоту – беспечную и бескорыстную красоту бабочки, – беглую улыбку и горделивую осанку.
– Он станет доктором, говорю тебе! – в сердцах восклицал Джонни. – Как он читает все время! Как он смотрит на мир широко открытыми глазами, ты замечала? Ведь это так важно! Он обожает факты.