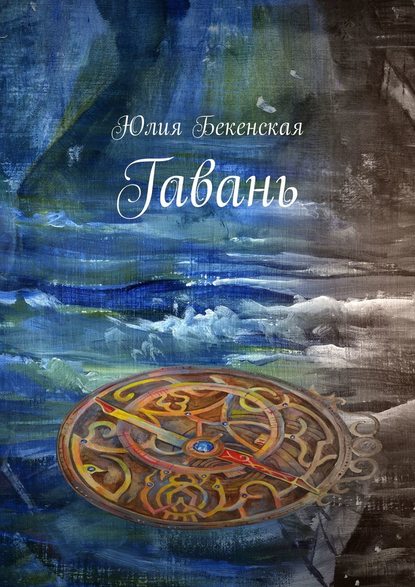По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гавань
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После неслись впотьмах, а рядом плескало море, и в синюшном небе плясала злая луна. Кто-то сзади бряцал и топотал, но отстал очень быстро. Кололись сквозь тонкую подошву камни, но так необыкновенно легко было, словно на Рождество.
На окраину Благовещенской вылезли через дыру меж угольных сараев. Сюртук оказался безнадежно испачкан, вырванный на штанах клок напоминал об укусе, а Трубицын был похож на черта. Стоя во дворе, они хохотали, пальцем показывая друг на друга.
– Эй, Ванька, – кликнул Трубицын.
– Он не Ванька, он Вейка, – поправил Данила.
Извозчик-финн смотрел на них с сомнением; его коренастая лошадка с лентами в гриве переминалась с ноги на ногу, словно мечтая быстрее убраться восвояси.
Едва уговорили его забрать чумазого господина.
– Да, брат, – садясь в пролетку, сказал Трубицын, – покуролесили знатно. Наших увижу – так и скажу: дали мы с Цапелем прикурить… ну, бывай!
– Бывай, – Данила сунул ладонь в широкую пятерню, но какая-то мысль свербила, не давала покоя:
– Ты, Жорж… послушай. Важно! – он поднял указательный палец. – А я едва не забыл. Ответь: что в той коробке-то было? Которую ты гимназической крысе всучил?
Жорж молчал. Воровато оглянулся, потом наклонился к нему, и, обдав горячим дыханием, прошептал в ухо три слова.
Данила онемел на мгновение – и захохотал до слез, сгибаясь и чувствуя, как живот царапает похищенный приз.
Коляска тронулась.
Трубицын поднял прощально руку. Тараканьи усищи на чумазой роже, перепачканный сюртук, и белые, светящиеся в сумраке зубы. Ладонь, поднятая вверх, два пальца – виват, Цапель.
Таким и запомнил его Данила той безумной весенней ночью года 1907, а сколько ночей таких еще выпадет – кто разберет.
В Стамбуле, уже в двадцатом, показалось, мелькнули усы на причале. Позже, на пароходе по Рейну, примерещился знакомый фас – ты ли это, брат студенческих лет?..
Еще, много позже, в обломках судеб, на бульварах чужих городов, нет-нет и мелькал кто-то похожий, да вот незадача: махнешь за ним вслед, а его уже хвать – и нету.
Все в туман уйдет…
А пока – вот он, белые зубы в усмешке, рука в прощальном привете – бывай, брат Цапель, живи, клистирная ты трубка!
Буду я, буду. С гудящей хмельной головой, прижимая к груди астролябию, спешит Данила Андреевич домой. А навстречу ему, громыхая бочками на ухабах, из города тащится ассенизационный обоз.
Тут мы их и оставим.
Филармония и бухгалтерия
Питер, девяностые, весна
Кореш Миха совсем с глузду съехал. Стрелку забил… в Филармонии! Ярый как услышал – аж «Тичерсом» поперхнулся.
Зато от метро близко. Он уже пару лет не был в метро, и как-то не рвался. Но что делать, если тачка припухает в мастерской? Пацанов надо будет послать, проверить, как работа идет. Вот только куда пропал этот гаденыш, этот бомбардировщик укуренный, этот обмылок недоделанный, который свой поганый телевизор на его, Ярого, тачку сбросил? Любимую, на боевое бабло купленную?..
Ничего, найдется. Может, Миха чего подскажет – не зря же позвал.
Миха с детства упертый был. Если что в башку втемяшится – хрен переспоришь. С прошлой осени, как Ярый показал ему в действии свою педагогику, они толком и не пересекались.
А он, между прочим, не зря его с собой взял. Дела-то было на три копейки, можно было бы не возиться. Но как вспомнит Михину задумчивую рожу – так настроение поднимается.
Наглядно, без лишних слов: вот, Мишаня, свои – они на берегу. А чужие – на дне, рыбам грузоперевозки организовывают.
И вроде внял Миха, понял педагогическую задумку друга, но опять унесло его черт знает куда. Не сиделось названному братишке на месте. Опять решил замутить бизнес.
Ботаник, блин. Вспомнив, как обернулся Михин бизнес номер один, каким боком корешу вышел, Ярый не сдержался и в голос заржал. Дамочка перед ним (ладная такая дамочка, блондинистая, в плащике), вздрогнула и обернулась. Смерила взглядом, и губы в куриную гузку свернула. Ишь, не глянулся ей. Овца тупорылая.
Ладно, чего ради друга не сделаешь. Филармония, так Филармония. Что мы, хуже этих мышей очкастых?..
У Ярого, между прочим, с детства была восприимчивая к прекрасному душа.
В гардеробе, в желтом электрическом свете, среди зеркал и пузатых, обитых бархатом банкеток ему понравилось.
Он снял кожаный плащ, нежно улыбнулся гардеробщице:
– Головой ответишь, кошелка старая, – если хоть пылинка…
Седая грымза с камеей не нашлась, что сказать. Глазами похлопала и выдала номерок.
То-то же.
Ярый пригладил еж, щелчком сбросил с пиджака пылинку и вразвалку проследовал к ковровой дорожке. На широкой лестнице малиновым ледоколом взрезал хлипкий лед непочтенной публики.
Расступались мамаши с детьми, жались к перилам очкарики, костлявые тетки в шарфах испугано косились.
А Ярый плыл, как король: в левой руке барсетка, в правой – тяжеленький, как кирпич, телефон с толстой черной антенной.
В фойе тоже шарахались. Когда он обозревал портреты композиторов, справа и слева тут же образовывалось почтительное пространство.
Зря они. Между прочим, он с детства тянулся к музыке. В первом классе еще мамаше сказал, что пойдет играть на рояле.
Таню Фишер из соседнего подъезда отдали на скрипку, и ее тонкая шея, косички и скрипка в футляре будоражили сердце юного Славика.
Мамаша отвела сына на прослушивание.
– Слух отсутствует. Деревянные ложки, барабан, разве что, – развел руками педагог, усатый дрыщ в отвратном коричневом пиджаке. – Знаете что? – добавил он с энтузиазмом, – вы отдайте его в спорт! Смотрите, какой он у вас крепкий, головастый. Уверен, спортивная карьера подойдет вашему сыну лучше всего!
Славка на боксе оттарабанил четыре года. Потом в тяжелой атлетике. Уже в восемнадцать пошел на подпольные курсы карате. От армии его мамаша отмазала – единственный кормилец, чо.
Так что прав оказался музыкантишко. Как в воду глядел, штырь усатый.
Но до сих пор не мог простить Ярый, что вход в мир музыки ему заказан.
Он провожал Таню, носил ее скрипочку, и малейший косой взгляд расценивал как оскорбление действием.
К Тане боялись сунуться даже подружки. А ее бабка всякий раз, открывая дверь, делала такое лицо, будто ждала кого-то другого: