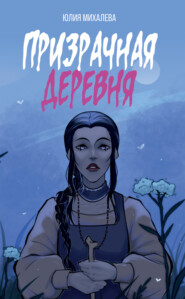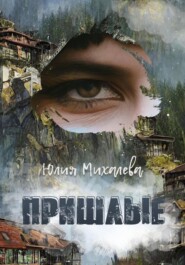По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Что скрывает снег
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Раненая рука была хоть и правой, но не рабочей – Миллер так и не смог стать полноценным правшой. Но даже случайные движения ею отдавали болью. Расслабиться не получалось.
В голове шумно копошились мысли.
Во всем, что происходило, виноват только он сам, и больше никто.
Лишь из-за своего эгоизма архитектор после смерти жены отказался отослать Шурочку к тетке в Москву. Там бы она получила приличное образование, все время находясь под строгим присмотром. Он же, напротив, ее не контролировал и ни в чем не отказывал. Избаловал. Тоже из эгоизма: Миллеру слишком нравилось, как дочь смеется. Его светловолосая юная копия в женском обличье.
Потом он не стал выдавать ее замуж, когда предлагали. Дважды отказал! Тоже из эгоизма. И дело не только в том, что партии виделись неподходящими. Младший купец Перов – повеса и пустозвон, да Осецкий, желчный, безденежный помощник полицмейстера – тот, что залез в петлю двумя месяцами назад.
Нет, Миллер просто не хотел отпускать Шурочку от себя. Боялся ее потерять. Знал бы заранее, к чему это приведет…
Александру тоже терзали раздумья, мешая найти занятие. Она то брала в руки журнал, то отбрасывала, вставала и ходила по комнате. Ее глаза блестели, щеки горели.
Сначала она собралась было выйти поприветствовать отца. Но вести наигранные, никому из них не интересные обыденные беседы – а именно такую тактику он избрал в последние недели – совсем не хотелось. Еще хуже, если он сделает рокировку и опять станет задавать вопросы. Снова ложь, уловки, увертки.
Вот бы честно и подробно рассказать ему обо всем, как в детстве! И получить в ответ поглаживание по голове и уютные слова утешения. Но нет, об этом нечего и думать – теперь между ними пропасть.
Александра сама виновата: это она сделала такой выбор. Выбор не в пользу отца.
Желая отвлечься, она достала из гардероба недавнюю обновку, прибывшую, хоть и с огромным опозданием, из самого Парижа. Нежно-желтые платье, пальто, туфли, вышитые бисером и шляпка – с настоящим птичьим пером. Конечно, это уже не писк моды: отставание как минимум в сезон.
Александра переоделась и подошла к настенному зеркалу. Вот бы выйти так на улицу прямо завтра. Ей во что бы то ни стало хотелось попозировать для дагерротипа, фотографического портрета – настоящего чуда, способного навеки останавливать время.
С другой стороны, отец наверняка снова исчезнет с утра, не сказав ни слова. Вот и чудесно.
***
Пока инженер Романов приближал технический прогресс, увлеченно составляя новый чертеж прямо в гостях у генерал-губернатора, дома его ждала девятнадцатилетняя супруга Елизавета.
Во всяком случае, так бы она ответила, если бы у нее спросили. Только спрашивать было некому: плотно затворив двери на ночь, Елизавета не ожидала гостей.
Болезненная, но исключительно красивая, тонкая, белокожая, смотрящая на мир драматическими черными глазами с чересчур длинными ресницами, она, как резиденция генерал-губернатора, казалась в городе совсем неуместной.
За два года, проведенных здесь после переезда на новое место службы Романова, Елизавета так и не обзавелась ни одной подругой. У посторонних, тем более, не имелось причин ее беспокоить.
Даже прислуга ее покинула. Кухарка еще накануне ушла в Лесное проведать семью. А гувернантка – весьма бестолковое и мало на что способное создание, но зато – настоящая француженка – взяла выходной и покинула дом. Очевидно, отправилась к любовнику.
Елизавету чужая нравственность не слишком тревожила, однако сама она склонностью к адюльтерам не отличалась. Поговаривали, что ей просто не встретился никто подходящий. Возможно, и так. Мужа Елизавета никогда не любила.
После рождения сына она ни дня не чувствовала себя здоровой. Вдобавок ко всему, около полутора лет назад у нее начались мигрени. Их провоцировали постоянные крики ребенка – пронзительные, не стихающие дольше, чем на полчаса, на протяжении бесконечных мучительных месяцев. Но, к счастью, эта проблема успешно решилась. Выйдя из запоя, доктор Черноконь выписал Елизавете лауданум. С тех пор боль хотя бы на время можно стало прервать.
Этим одиноким вечером, приняв лекарство, Елизавета перечитывала письмо подруги по гимназии.
«Милый дружок Лизонька! Ты спрашиваешь, как я, и я долго думала над ответом на столь невинный простой вопрос. Мне сложно ответить тебе честно, как в прежние времена. Не подумай, что я отдаляюсь: это только из боязни задеть твои чувства. Ведь там, где ты сейчас, ты лишена даже простых радостей. А я … я время провожу весело. Много танцую» …
Ребенок, шумный и непоседливый, настойчиво закричал, громыхая игрушкой. Елизавета дала ему сушку, сперва обмакнув в лауданум. Потом сама тоже глотнула еще настойки и вернулась в кресло у камина. Пригревшись в теплых объятиях пледа, Елизавета крепко уснула.
Ее сын тем временем выбрался из кроватки.
***
«Надлежит отвращать от пьянства, блюсти сохранение благочиния нравов, воздерживать самовольство людей, худую жизнь ведущих, запрещать носить оружие тем, кто к тому не имеет права, и игры азартные пресекать».
Кажется, так говорилось в должностных уложениях.
Нет, не кажется: точно так. Дословно.
А еще там значилось, что полицейский, в чьем околотке действует опиумная курильня, будет неотвратимо лишен своей должности.
Очередной обман.
Они сидели в опиумной курильне, и уже который час играли в «двадцать одно», чередуя маковые «трубки мира» с ханшином – дешевой китайской водкой.
Это даже забавно. Весьма.
Новый помощник городского полицмейстера Деникин усмехнулся нелепым мыслям. Доктор Черноконь – единственный на весь город «настоящий» врач, лечивший всех и от всего – воспринял улыбку, как поощрение. Он продолжил рассказ с еще большим усердием.
– А лапищи у него вооооот такие! Когтищи – жуть! Одну ногу-то он ему сразу оторвал, вчистую, как грится! А со второй, которой он в капкан угодил, в медвежий-то, пришлось повозиться. То есть это уже мне, не ему. Ему-то повезло, то есть этому горе-охотнику, что солдаты мимо шли и снесли башку тому зверю, медведю, то есть. Вот этим вот самым ружьишком – они же мне его и отдали, чтобы заплатить, значит.
Черноконь, запой которого продолжался уже вторую неделю – богатырь! – заманил в курильню своего коллегу по ремеслу, полицейского фельдшера, а тот, в свою очередь, прихватил с собой Деникина и двух околоточных надзирателей.
Деникин маялся от безделья и охотно согласился на предложение, но сейчас внезапно затосковал.
В городе его не уважали. Но, конечно, вовсе не из-за посещения злачных мест – а куда еще тут ходить? Нет, о нем уже два месяца кряду болтали гораздо худшее: что он совершенно никчемен, и, вдобавок, слишком молод для своей должности.
Придумывали гнусные вещи.
Однако пусть Деникину и нечем было гордиться – но и стыдиться поводов не имелось.
На самом деле все вышло совсем незатейливо. Прежний помощник полицмейстера, Осецкий, просто взял и повесился. Зимой, когда никто новый бы сюда не приехал. Должности же пустовать не полагалось. Вот и получилось так, что из тех, кто водился под рукой, Деникин оказался единственной заменой, хотя бы с натяжкой подходящей на должность. Не назначать же околоточных надзирателей, которые едва умеют писать?
Конечно, имелся еще Ершов. Писать он очень даже умел. Но, к счастью, не слишком придирчивый полицмейстер на этот раз намертво вцепился в образовательный ценз. Ершов не подходил.
Однако своему назначению Деникин не особо радовался, и вовсе не из-за слухов. Он провел в городе уже четыре года, все больше убеждаясь, что никто не переведет его, не заберет отсюда.
И эта должность лишь служила подтверждением – как и истории тех, кто занимал ее раньше.
Прежний помощник полицмейстера, тот, что до Осецкого, умер от чахотки. Тот, что служил до него, застрелился после пяти лет в должности. А что произошло перед тем, Деникин даже не спрашивал.
Похоже, вырваться отсюда невозможно. И, как предыдущие сослуживцы, Деникин вернется домой – в родной Орел – только в закрытом ящике.
А если Осецкий, осуждающе похороненный за оградой кладбища, все же оказался прав, избрав такой способ бегства от вечной тоски захолустья? Может, и в самом деле проще сразу в петлю?
II
Пропащие души
Единственное, чего мог пожелать этим утром Деникин – забиться в темный, холодный угол, и пролежать так, в полузабытьи, в абсолютной тишине, как минимум, сутки. Но веки резал острый свет, и чьи-то цепкие пальцы упорно тянули за лацкан.