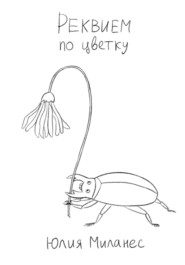По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Культурный код исчезающего индивида
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Культурный код исчезающего индивида
Юлия Миланес
"Задумайтесь, пожалуйста, о том, что примерно через двадцать лет на планете исчезнет один большой, или может быть, даже гигантский народ. Это советский народ, представители которого день ото дня дряхлеют и скоро их совсем не останется. Ни одного. И меня.Это был народ, выплюнувший из себя все постсоветское население – русских, белорусов, даже украинцев, половину Средней Азии, здоровенный кусок Кавказа, четверть Израиля, чуток Германии и Соединенных Штатов. Продолжать можно бесконечно, вплоть до Австралии через Бразилию и остров Пасхи. Я – представитель этого народа. Я – носитель его культурного кода…"Так начинается мой новый роман, сквозной нитью которого проходят воспоминания моего детства. Как у меня принято, роман практически без сюжетной линии, он построен в формате сериала, то есть скроен из коротких рассказов, связанных друг с другом, но имеющих законченную форму и свой собственный сюжет.Те, кто уже прочел "Мемуары непрожитой жизни" не будут сильно удивлены. Вэлкам!
Юлия Миланес
Культурный код исчезающего индивида
От автора
Задумайтесь, пожалуйста, о том, что примерно через двадцать лет на планете исчезнет один большой, или может быть, даже гигантский народ. Это советский народ, представители которого день ото дня дряхлеют и скоро их совсем не останется. Ни одного. И меня.
Это был народ, выплюнувший из себя все постсоветское население – русских, белорусов, даже украинцев, половину Средней Азии, здоровенный кусок Кавказа, четверть Израиля, чуток Германии и Соединенных Штатов. Продолжать можно бесконечно, вплоть до Австралии через Бразилию и остров Пасхи.
Я – представитель этого народа. Я – носитель его культурного кода, то есть идеологии, привитой в детстве. Как выспренне любят говорить, впитала с молоком матери.
Да, мы все помним эти новогодние мандарины, манную кашу с комками в детском саду и толстые колготки. Это стало мемом, растиражированным в сети – с глупыми комментариями глупых женщин. Или мужчин, похожих на женщин. Ну вы, наверное, знаете таких.
Удивительным образом, за двадцать лет эти комментарии радикальным образом изменились. Мы начали коллекционировать то, от чего недавно избавлялись. Например, советские новогодние игрушки. Женщины, ныне бабушки и дедушки, плевавшие в детстве бесплатной кашей, за двадцать лет внезапно поняли, что теперь, как ни проси, бесплатную кашу больше не получишь. Женщины, ныне бабушки и дедушки, снова начали носить советские колготки.
А комментарии в Интернете сохранились. Интернет вообще все хранит, пока, конечно, платят за хостинг. Весь яд, всю глупость…
Я – носитель культурного кода советского народа хочу рассказать вам об этом исчезающем народе. Теперь. Когда время все расставило по своим местам.
Колесо обозрения
Кто-то недобрый придумал колесо обозрения. Какие чувства оно должно вызывать по мнению изобретателя? Восторг полета? Ничуть. Когда сидишь на макушке этого колеса обозревать окрестности некогда, я обычно судорожно вцепляюсь в хлипкую цепочку, отделяющую меня от пропасти. И если в детстве я испытывала просто страх, то теперь к нему прибавилось манящее желание выкинуться из кабинки на самой маковке колеса, тем самым выпилившись из это сложной и слишком длинной жизни. А что? Всмятку, гарантированно.
В чем удовольствие-то? Недавно я думала о колесе обозрения и нечаянно мысленно сравнила его с войной. На войне испытываешь страх, и на колесе испытываешь страх. На войне есть вероятность увечья, и на колесе есть вероятность увечья. На войне вероятность смерти несколько выше, конечно… Но и тут: только шагни один раз влево.
А в постсоветском пространстве колесо обозрения стало символом опустения. В перестройку ржавые неработающие колеса высились над заброшенными парками и курортами. Они для меня были символом всего гигантского и мертвого, как, например, наша страна.
Казалось, я бы должна избегать колеса обозрения всю свою жизнь. Но один раз я на нем все-таки покаталась.
Это было еще в детстве, в Московском парке Победы. На колесо стояла очередь, хотя, я считаю, что обозревать в Московском районе нечего. Мама обычно любой наш выход в люди превращала в испытание, в гонку неизвестно куда и неизвестно зачем. Это сейчас люди в выходной день неторопливо прогуливаются с детьми, вкушая мороженое. А раньше в единственный мамин выходной надо было всюду успеть: детский театр в семь – это дедлайн (билеты куплены, не пропадать же добру), колесо обозрения до пяти (еще надо перебежать на трех транспортах в детский театр), катание на лодках до трех (смотри выше про три транспорта), кафе-мороженое в час (постоять в очереди), парикмахерская мамы к одиннадцати.
В общем, в тот день загнанные как савраски, с потными подмышками, подлетаем мы к колесу обозрения. Которое работает до пяти. Без пятнадцати пять, однако, подходит наша очередь.
Я беру синенький бумажный билетик в потную ладошку, и мы забираемся в кабинку. Ну как забираемся? Колесо же непрерывно медленно крутится, не останавливаясь ни на минуту. Мне четыре года, у меня маленькие толстые ножки, одну из которых я пытаюсь закинуть в движущуюся кабинку. Ноги разъезжаются, и я падаю. Если бы у меня был папа, он бы, наверное, взял меня на руки. Но для юной мамы, я – неподъемный толстый ребенок. Кабинка, уныло скрепя, уплывает от меня вверх. Билетерша недовольно смотрит, у нее конец рабочего дня. Наконец, меня методом тяни-толкай запихивают в кабинку.
Колесо обозрения стонет на ветру, как раненое морское животное. В Питере, представьте, сногсшибательные ветра. Это же побережье Балтийского моря.
Итак, мы поднимается на самый верх. По дороге я испытываю все те чувства, которые я описала в самом начале, то есть сижу, вцепившись в хлипкую цепочку, отделяющую меня, такую маленькую, от такой большой пропасти. Скоро мы выше деревьев, а потом выше домов.
Когда мы на самой макушке, колесо снова тоскливо стонет и останавливается. Всё, вся махина, похожая на турбину атомной электростанции, застывает в тишине, и слышны лишь остренькие негромкие поскрипывания наших хрупких кабинок.
Внизу суетятся лилипуты – не больше мухи. Лилипуты, которым огромное колесо перестало подчиняться.
Колесо упрямо стоит. В соседней кабинке какой-то кавказец достает лаваш и начинает его есть, отщипывая по крошке. Видимо собирается сидеть тут долго-долго.
– Не бойся, – шепчет мне мама. – Сейчас нас снимет пожарная машина.
Прости, Господи, еще и пожарная машина! Мама не верит в скоропостижную смерть. В то, что мы так глупо умрем, разбившись вместе с гигантским колесом. А я верю, я – маленькая, и мне страшно и холодно. Сначала страшно, а потом холодно.
Через пятнадцать минут колесо обозрения опять издает невероятно тоскливый металлический стон и начинает двигаться в обратном направлении.
В американском фильме бы показали, как пострадавших от огромного колеса встречают психологи, оборачивают их шерстяными одеялами и дают чашку горячего чая. У нас ничего подобного. Мы вылезли из кабинки, отряхнули хвосты, как утки, вышедшие из воды, и пошли дальше.
– Ну что, мама? – спросила я дрожащими, синими от холода губами. – Теперь в театр?
Мама посмотрела на ручные часики, и мы решительно понеслись на трех транспортах в детский театр.
Бойтесь, дети, советских людей. Всех нас, воспитанных в USSA. Потому что у нас четырехлетний ребенок секунду назад готовится к скоропостижной смерти, а спустя два часа хлопает в ладоши в Большом театре кукол
Качелька
У нас не было оград в детских садах. Не от кого. Это сейчас самая распространенная профессия – охранник. Современники «обилетили» этим ярмом всех бывших военных. У нас не было заборов в детских садах, не было гроздьев камер видеонаблюдения, висящих на фасадах, кодовых замков.
Детский садик – не секретный объект. Никакой секретности в детских горшках и манной каше нет. Самое страшное преступление тех лет в детском саду – ребенка забрал не тот родственник. Например, если родители в разводе и забрал не тот родитель, которому был присужден ребенок.
Садики работали до семи вечера, а уж потом… на детские площадки приходили подростки (покурить втихаря от родителей), собачники (да-да собачники – с собаками) и любители выпить на троих.
Бомжей о ту пору у нас не было. Невозможно было встретить лежащего на детской скамеечке субъекта, распространяющего амбре немытого тела.
Поэтому было вполне доступно… покачаться ночью на детских качелях.
Даже если ты толстая детина-второклассница.
И мама, которая весила под шестьдесят килограмм.
И детские качельки, представьте, не ломались под нашим весом. Они были добротные, рассчитанные на ребенка-слона.
Я обычно делала «полусолнце» пару десятков раз, а мама просто сидела на своих качелях, потому что у нее был плохой вестибулярный аппарат, и ее тошнило от высоты. Потом мы некоторое время болтали висящими в воздухе ногами и уходили домой. Зимой еще смотрели на звезды, потому что территория детского сада не освещалась от слова «совсем», и было прекрасно видно ночное небо.
В тот день, о котором я хочу рассказать, я уже покачалась и болтала ногами.
Внезапно, метрах в десяти от нас мелькнули две тени. На поверку это оказались подростки, которые пришли на детскую площадку выпить пива втихаря от родителей. Они были одеты в спортивные куртки, а на их длинных волосах красовались трогательные полосатые шапочки «петушки».
(Сейчас шапочку «петушок» никто не наденет из-за одного только названия, ну вы понимаете…)
Они немного покачались на тонких ногах, заметив нас. Потом один из них выдал свистящим шепотом:
– Уходите отсюда! Здесь наша территория!
Я попыталась встать с качелей, но мама остановила меня движением руки и покачала головой.
Второй подросток еще покачался на тонких ножках и крикнул фальцетом:
– Это наши качели! Мы на них качается по ночам!
Юлия Миланес
"Задумайтесь, пожалуйста, о том, что примерно через двадцать лет на планете исчезнет один большой, или может быть, даже гигантский народ. Это советский народ, представители которого день ото дня дряхлеют и скоро их совсем не останется. Ни одного. И меня.Это был народ, выплюнувший из себя все постсоветское население – русских, белорусов, даже украинцев, половину Средней Азии, здоровенный кусок Кавказа, четверть Израиля, чуток Германии и Соединенных Штатов. Продолжать можно бесконечно, вплоть до Австралии через Бразилию и остров Пасхи. Я – представитель этого народа. Я – носитель его культурного кода…"Так начинается мой новый роман, сквозной нитью которого проходят воспоминания моего детства. Как у меня принято, роман практически без сюжетной линии, он построен в формате сериала, то есть скроен из коротких рассказов, связанных друг с другом, но имеющих законченную форму и свой собственный сюжет.Те, кто уже прочел "Мемуары непрожитой жизни" не будут сильно удивлены. Вэлкам!
Юлия Миланес
Культурный код исчезающего индивида
От автора
Задумайтесь, пожалуйста, о том, что примерно через двадцать лет на планете исчезнет один большой, или может быть, даже гигантский народ. Это советский народ, представители которого день ото дня дряхлеют и скоро их совсем не останется. Ни одного. И меня.
Это был народ, выплюнувший из себя все постсоветское население – русских, белорусов, даже украинцев, половину Средней Азии, здоровенный кусок Кавказа, четверть Израиля, чуток Германии и Соединенных Штатов. Продолжать можно бесконечно, вплоть до Австралии через Бразилию и остров Пасхи.
Я – представитель этого народа. Я – носитель его культурного кода, то есть идеологии, привитой в детстве. Как выспренне любят говорить, впитала с молоком матери.
Да, мы все помним эти новогодние мандарины, манную кашу с комками в детском саду и толстые колготки. Это стало мемом, растиражированным в сети – с глупыми комментариями глупых женщин. Или мужчин, похожих на женщин. Ну вы, наверное, знаете таких.
Удивительным образом, за двадцать лет эти комментарии радикальным образом изменились. Мы начали коллекционировать то, от чего недавно избавлялись. Например, советские новогодние игрушки. Женщины, ныне бабушки и дедушки, плевавшие в детстве бесплатной кашей, за двадцать лет внезапно поняли, что теперь, как ни проси, бесплатную кашу больше не получишь. Женщины, ныне бабушки и дедушки, снова начали носить советские колготки.
А комментарии в Интернете сохранились. Интернет вообще все хранит, пока, конечно, платят за хостинг. Весь яд, всю глупость…
Я – носитель культурного кода советского народа хочу рассказать вам об этом исчезающем народе. Теперь. Когда время все расставило по своим местам.
Колесо обозрения
Кто-то недобрый придумал колесо обозрения. Какие чувства оно должно вызывать по мнению изобретателя? Восторг полета? Ничуть. Когда сидишь на макушке этого колеса обозревать окрестности некогда, я обычно судорожно вцепляюсь в хлипкую цепочку, отделяющую меня от пропасти. И если в детстве я испытывала просто страх, то теперь к нему прибавилось манящее желание выкинуться из кабинки на самой маковке колеса, тем самым выпилившись из это сложной и слишком длинной жизни. А что? Всмятку, гарантированно.
В чем удовольствие-то? Недавно я думала о колесе обозрения и нечаянно мысленно сравнила его с войной. На войне испытываешь страх, и на колесе испытываешь страх. На войне есть вероятность увечья, и на колесе есть вероятность увечья. На войне вероятность смерти несколько выше, конечно… Но и тут: только шагни один раз влево.
А в постсоветском пространстве колесо обозрения стало символом опустения. В перестройку ржавые неработающие колеса высились над заброшенными парками и курортами. Они для меня были символом всего гигантского и мертвого, как, например, наша страна.
Казалось, я бы должна избегать колеса обозрения всю свою жизнь. Но один раз я на нем все-таки покаталась.
Это было еще в детстве, в Московском парке Победы. На колесо стояла очередь, хотя, я считаю, что обозревать в Московском районе нечего. Мама обычно любой наш выход в люди превращала в испытание, в гонку неизвестно куда и неизвестно зачем. Это сейчас люди в выходной день неторопливо прогуливаются с детьми, вкушая мороженое. А раньше в единственный мамин выходной надо было всюду успеть: детский театр в семь – это дедлайн (билеты куплены, не пропадать же добру), колесо обозрения до пяти (еще надо перебежать на трех транспортах в детский театр), катание на лодках до трех (смотри выше про три транспорта), кафе-мороженое в час (постоять в очереди), парикмахерская мамы к одиннадцати.
В общем, в тот день загнанные как савраски, с потными подмышками, подлетаем мы к колесу обозрения. Которое работает до пяти. Без пятнадцати пять, однако, подходит наша очередь.
Я беру синенький бумажный билетик в потную ладошку, и мы забираемся в кабинку. Ну как забираемся? Колесо же непрерывно медленно крутится, не останавливаясь ни на минуту. Мне четыре года, у меня маленькие толстые ножки, одну из которых я пытаюсь закинуть в движущуюся кабинку. Ноги разъезжаются, и я падаю. Если бы у меня был папа, он бы, наверное, взял меня на руки. Но для юной мамы, я – неподъемный толстый ребенок. Кабинка, уныло скрепя, уплывает от меня вверх. Билетерша недовольно смотрит, у нее конец рабочего дня. Наконец, меня методом тяни-толкай запихивают в кабинку.
Колесо обозрения стонет на ветру, как раненое морское животное. В Питере, представьте, сногсшибательные ветра. Это же побережье Балтийского моря.
Итак, мы поднимается на самый верх. По дороге я испытываю все те чувства, которые я описала в самом начале, то есть сижу, вцепившись в хлипкую цепочку, отделяющую меня, такую маленькую, от такой большой пропасти. Скоро мы выше деревьев, а потом выше домов.
Когда мы на самой макушке, колесо снова тоскливо стонет и останавливается. Всё, вся махина, похожая на турбину атомной электростанции, застывает в тишине, и слышны лишь остренькие негромкие поскрипывания наших хрупких кабинок.
Внизу суетятся лилипуты – не больше мухи. Лилипуты, которым огромное колесо перестало подчиняться.
Колесо упрямо стоит. В соседней кабинке какой-то кавказец достает лаваш и начинает его есть, отщипывая по крошке. Видимо собирается сидеть тут долго-долго.
– Не бойся, – шепчет мне мама. – Сейчас нас снимет пожарная машина.
Прости, Господи, еще и пожарная машина! Мама не верит в скоропостижную смерть. В то, что мы так глупо умрем, разбившись вместе с гигантским колесом. А я верю, я – маленькая, и мне страшно и холодно. Сначала страшно, а потом холодно.
Через пятнадцать минут колесо обозрения опять издает невероятно тоскливый металлический стон и начинает двигаться в обратном направлении.
В американском фильме бы показали, как пострадавших от огромного колеса встречают психологи, оборачивают их шерстяными одеялами и дают чашку горячего чая. У нас ничего подобного. Мы вылезли из кабинки, отряхнули хвосты, как утки, вышедшие из воды, и пошли дальше.
– Ну что, мама? – спросила я дрожащими, синими от холода губами. – Теперь в театр?
Мама посмотрела на ручные часики, и мы решительно понеслись на трех транспортах в детский театр.
Бойтесь, дети, советских людей. Всех нас, воспитанных в USSA. Потому что у нас четырехлетний ребенок секунду назад готовится к скоропостижной смерти, а спустя два часа хлопает в ладоши в Большом театре кукол
Качелька
У нас не было оград в детских садах. Не от кого. Это сейчас самая распространенная профессия – охранник. Современники «обилетили» этим ярмом всех бывших военных. У нас не было заборов в детских садах, не было гроздьев камер видеонаблюдения, висящих на фасадах, кодовых замков.
Детский садик – не секретный объект. Никакой секретности в детских горшках и манной каше нет. Самое страшное преступление тех лет в детском саду – ребенка забрал не тот родственник. Например, если родители в разводе и забрал не тот родитель, которому был присужден ребенок.
Садики работали до семи вечера, а уж потом… на детские площадки приходили подростки (покурить втихаря от родителей), собачники (да-да собачники – с собаками) и любители выпить на троих.
Бомжей о ту пору у нас не было. Невозможно было встретить лежащего на детской скамеечке субъекта, распространяющего амбре немытого тела.
Поэтому было вполне доступно… покачаться ночью на детских качелях.
Даже если ты толстая детина-второклассница.
И мама, которая весила под шестьдесят килограмм.
И детские качельки, представьте, не ломались под нашим весом. Они были добротные, рассчитанные на ребенка-слона.
Я обычно делала «полусолнце» пару десятков раз, а мама просто сидела на своих качелях, потому что у нее был плохой вестибулярный аппарат, и ее тошнило от высоты. Потом мы некоторое время болтали висящими в воздухе ногами и уходили домой. Зимой еще смотрели на звезды, потому что территория детского сада не освещалась от слова «совсем», и было прекрасно видно ночное небо.
В тот день, о котором я хочу рассказать, я уже покачалась и болтала ногами.
Внезапно, метрах в десяти от нас мелькнули две тени. На поверку это оказались подростки, которые пришли на детскую площадку выпить пива втихаря от родителей. Они были одеты в спортивные куртки, а на их длинных волосах красовались трогательные полосатые шапочки «петушки».
(Сейчас шапочку «петушок» никто не наденет из-за одного только названия, ну вы понимаете…)
Они немного покачались на тонких ногах, заметив нас. Потом один из них выдал свистящим шепотом:
– Уходите отсюда! Здесь наша территория!
Я попыталась встать с качелей, но мама остановила меня движением руки и покачала головой.
Второй подросток еще покачался на тонких ножках и крикнул фальцетом:
– Это наши качели! Мы на них качается по ночам!