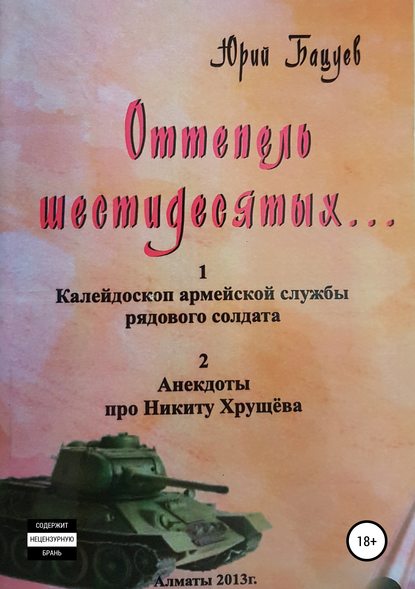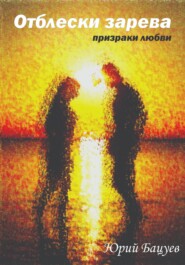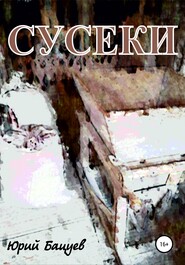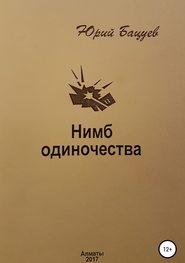По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Оттепель 60-х
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нежный призыв мой
Сквозь тучи тебе посылают.
Звёздочки, звёздочки…
Голос звучит замирая.
Милая, слышишь,
Как сердце больное страдает?
Годы идут –
Сердце жизни минуты считает,
Зов мой, тоскующий,
В звёздной ночи замирает.
…В начале августа рядового Сёмина и командира экипажа – моего земляка Шлоссера – направили в составе группы танкистов в учебный центр для отработки навыков при преодолении танками водной преграды, с погружением танка с экипажем в акваторий. Пробыли они там не менее трёх месяцев. Я отправил письмо на имя Феди (теперь мы его звали Мефодием) Сёмина, и вскоре получил обширный ответ.
«Здравствуй, Юрок! Здравствуй, добрый мой наставник! – отвечал он не без юмора. – Хоть ты и пишешь, что тебе всё равно, вижу, не хочешь, чтобы я по-прежнему валял дурака: писал ничего не значащие стишки и занимался прочей мутью. Я сейчас уже многое понял: за большинство прошлых «творений» даже стыдно и порой чертовски хочется бросить всю эту писанину, не забивать голову чем-то большим, возвышенным, а быть простым сереньким человечком – кушать спокойно хлебушек и щи, смотреть по выходным хиленькие кинофильмишки и восторженно хлопать в ладоши таким вещам, как «Девчата». Но, понимаешь, не могу я так… не могу не восторгаться красками и свежестью утра, не могу не любить красивое. Хочу, чтобы всё было так, как у Ефремова. И пытаюсь подготовить себя к тому, чтобы внести свой вклад в жизнь… И не ругай меня за то, что я стремлюсь «фантазировать». Ты считаешь, что сейчас нужно писать о наших днях, о живущих героях, показывать красоту сегодняшнего человека, его жизнь. И я хочу этого. Но я хочу показать и то, как растёт это в человеке, совершенствуется, становится богаче и сильней, и каким это будет в будущем. Большой замысел? Да! И ты сейчас, наверно, усмехаешься своей скептически-многозначительной улыбкой и думаешь, что я замахиваюсь, на бог знает, какую гору. И силёнок у меня не хватит. Я и сам знаю, что хочу очень многого, и сам не уверен, что смогу достичь своей цели. Может быть, даже не ступлю на первую ступеньку той лестницы, по которой собираюсь идти. Но если случится так, то я, действительно, кончу алкоголиком или, может, произойдёт что-нибудь похлеще». Далее он сообщал о конкретных своих творческих делах и задумках. Из направленных мне стихов очень понравилось следующее:
До утра совсем чуть-чуть осталось,
Месяц притаился у окна.
Над казармой нашей разметалась
Чуткая ночная тишина.
Тонкие берёзоньки укутала
Зыбкою прохладною фатой,
И сама меж них будто запуталась,
Заблудилась в темноте ночной.
Выйти что ль с тобою поаукаться,
По росному лугу побродить.
Свежестью предутренней окутаться.
Из ручья пригоршню звёзд испить.
Я сейчас сонлив чуть и спокоен
И с тобой в один настроен лад:
Захотел немного твоего покоя
За ночь измечтавшийся солдат.
Я пойду сторожко и тихонько:
Ни одной травинки не помну,
Ни словечка не скажу я громко,
Ни одной пичужки не спугну.
А у речки, что простёрлась длинно,
Тишиной прохладной стану сам.
Мы с тобой сольёмся воедино,
Потечём по травам, по лесам.
«Стихи посылаю, – продолжает он в письме, – только для того, чтобы доказать тебе, что я не бросил ещё свои пробы. Пытаюсь что-то делать и в прозе. Приступил к написанию повести. Результаты есть, но плачевные. Поэтому я оставил её пока. Испугался огромной работы, которую нужно делать. Но скоро, надеюсь, взяться за неё вновь и, возможно, что-то получится. В ней нет ничего фантастического. Хочу показать мыслящего парня, современника, человека моего круга и образа жизни, и очень славную, по-настоящему красивую девушку – Зою.
Фантазировать сейчас не думаю, хочу готовиться к поступлению в институт на физико-математический факультет. Приезжала мама и привезла учебники по математике, но всё никак не могу за них взяться. В любую свободную минуту лезет в голову рифмованная тоска и я пишу её, а для занятий времени не остаётся… Плохо без девчонки».
В завершение своего письма оговорился: «Взаимности ради, скажу, что тебя тоже чертовски уважаю, хоть и подковыриваешь ты меня на каждом шагу». И потом: «Извини за ошибки. Письмо не хочу перечитывать, а то порву, пожалуй». И приписал: «Читаю Маяковского. Я и не знал, что он такая громадина».
…После возвращения в часть наши разговоры с Мефодием сводились в основном к тому, о чём и как должен и не должен писать автор. Я как-то сказал, что писатель не должен напрямую высказывать свои мысли, а должен через персонажей это выражать. На что Сёмин возразил: – Твоё утверждение слишком категорично, – говорил он. – Если в ходе повести возникнет необходимость прямо выразить своё отношение, – зачем избегать этого? Возьми, к примеру, образные лирические отступления Гоголя о Руси-тройке».
Ещё я утверждал, что не место в романе авторским филосовским рассуждениям, что это лишает произведение художественности, делает его более схоластичным. – Если я, – возразил он, – буду писать что-то стоящее, не смогу удержаться от «философствования». По-моему, философская мысль наиболее верна и многообразна. И она не может испортить художественное произведение.
Это были окололитературные рассуждения, за которыми пряталась наша беспомощность и невозможность пока ещё проявлять себя более полноценно. Не хватало жизненного опыта и необходимого мастерства.
В январе к Сёмину из Москвы приехала сестра Ирина. Поселилась она в гостинице. И Сёмин нас, наиболее близких друзей, познакомил с ней, организовав встречу в гостинице. После чего в моей записной книжке появилась следующая запись: «И будто вновь всё порозовело, обрело черты весны, черты ушедшей в прошлое нежности и юношеской чистоты. Неужели снова влюбился? Она, эта любовь всегда неожиданная и странная. Любовь, говорят, бывает с первого взгляда. Непонятное, трепетное чувство, но хорошо и светло на душе».
Такие свежие ощущения зародились не только у меня, но и в душах остальных ребят, моих сотоварищей. Может, это было вызвано нашей изоляцией от нормальной жизни, но, безусловно, и тем, что Ирина была привлекательной девушкой. Она была очень похожа лицом на брата: те же правильные черты, те же глаза, брови, но более женственные и утончённые. Но, главное, мы тогда все были молодыми, а молодые, как сказал мой знакомый старый геолог, все красивые, особенно это касается девушек.
…Спустя год, мы с Сёминым стали всё реже при встречах вести разговоры о литературе. В стихах его стали появляться интонации, ранее не приемлемые. Исчезли душевная боль и нежность. Появилось ожесточение и элементы озлобленности.
Взошла луна,
Бледная,
Разбавленная,
Как пьяная,
Как выеденная,