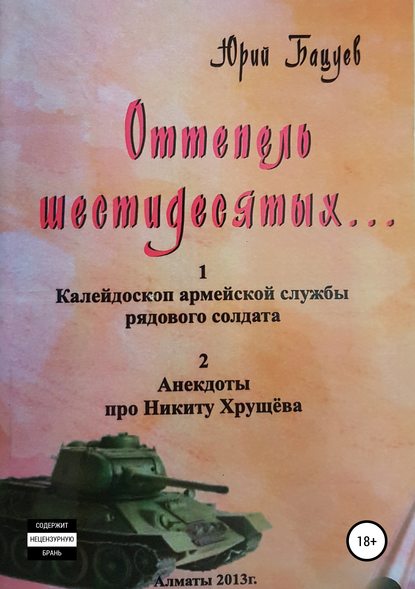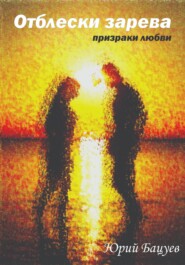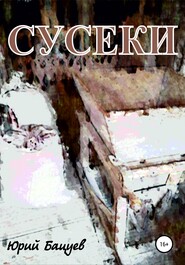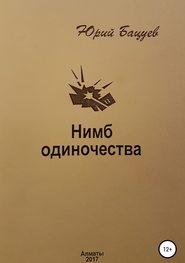По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Оттепель 60-х
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Фёдор Сёмин и иже с ним
Федя Сёмин был разбитным парнем, по крайней мере, таким казался, когда появился в нашей части с двумя другими парнями, прибывшими в сопровождении лейтенанта из Москвы. Все трое миновали «карантин», где в течение месяца только что призванных полусолдат приводят в «армейское» чувство, знакомя с курсом молодого бойца. Потом, после индивидуальных стрельб из автомата, все принимают присягу. И только тогда ты уже солдат. Трое же этих ребят вошли в строй полка как бы спонтанно. Кроме Сёмина, один из прибывших был боксёр первого разряда по фамилии Кожин, а другой – Усачёв – бывший студент Института Международных отношений. Их доставили буквально накануне Нового года. Казалось, будто отловили поимённо и доставили в часть. Приблизительно, так оно и было. Сёмина прихватили на квартире, где он проживал вместе с родителями. Боксёра Кожина забрали сразу после окончания спортивных сборов, а студента Усова после переговоров с администрацией института.
Сёмин, кудлатый симпатичный паренёк, довольно легко вписался в общую массу солдат. Это был неунывающий по тому времени «чувак», беззаботно напевающий песенку под мотив рок-эн-рола: «Как у нас, как у нас развалился унитаз, все соседи в страшном горе собралися в коридоре…». А когда удалили с его головы «патлы», одели в военную униформу и поставили в строй, он и вовсе слился с серо-зелёной массой военнослужащих. Боксёру Кожину пришлось заставить себя «уважать» не личным обаянием, а испытанными в спортивных боях кулаками. Причём первый бой он провёл хотя и успешно, но, не совсем сообразуясь с условиями. Во время схватки он сразу определил слабое место противника, который огромными кулачищами хорошо закрывал свою голову. Поэтому Кожин провёл серию ударов по поясу противника, не задумываясь о том, что чуть ниже солнечного сплетения у того на ремне была, как броня, солдатская бляха, которая защищая противника, сильно раскровила кулаки Кожина. Правда, он это почувствовал только после схватки. Когда это уже не играло роли, так как он достойно постоял за себя.
Солдат: – Нет, спорт полезен. Вот он был тихим, скромным, а теперь видишь: на человека замахивается, хотя занимается всего месячишку.
Совсем по-иному сложилась ситуация у бывшего студента МГИМО. Проходило комсомольское собрание, и он, привыкший к выступлениям и быть на виду, взял слово и заговорил о том, что служить в армии ему нравится, только нехорошо ведут себя некоторые солдаты, и стал жаловаться, что они его незаслуженно обижают. На следующий день после собрания он пошёл к капитану – командиру роты и рассказал о том, что сослуживцам не понравилась его «активность» на собрании, и они ночью забросали его подушками.
– Ну и как пожалел тебя капитан? – поинтересовался я.
– Он сказал, что мне надо было с ним посоветоваться сначала, а потом выступать на собрании.
– А ты что?
– А я сказал, что поступил так, как поступаем мы в институте.
– Ты так и сказал? – удивился я.
– Да. А сегодня они меня довели до того, что я сбежал в санчасть.
– Ну, это ты напрасно, – не удержался я и съехидничал: – Ведь тебе «нравится служить», а здесь, опять же, не любят тех, кто ходит по пустякам в санчасть и к ротному.
– Они вынудили меня, – сказал Усов.
– Кто?
– Все.
– Видишь ли, – подвёл итог светской беседы я, – ты неправильно себя повёл. Армия срочникам не нравится. Да и кому может понравиться в течение трёх лет быть заложником. Это суровая необходимость, и здесь просто надо терпеть.
Боксёра Кожина вскоре снова отозвали на спортивные сборы, теперь уже ни как гражданское лицо. Периодически между сборами он появлялся в части. Так проходила служба у многих перспективных спортсменов.
Рядовой Усов, будучи эрудированным и осведомлённым в международных делах, вскоре стал выступать в качестве лектора не только в части, но и на предприятиях города Дзержинска. И даже, говорили, написал письмо в Министерство обороны с предложениями сократить срок службы и больше уделять внимания непосредственно военной подготовке.
Рядового Сёмина теперь можно было видеть ежедневно в строю личного состава танковой роты третьего батальона. Выглядел он так бодро, будто прибыл сюда из Суворовского училища. Чувствовалось, что не очень тяготится положением. Наверное, потому что это ему было интересно.
В начале марта следующего года согласно учебному плану на военном полигоне проходили показательные стрельбы по закрытым огневым позициям. Танки стреляли снарядами стомиллиметрового калибра. Огневые точки «противника» находились за несколько километров. Чтобы поразить невидимую цель, необходимо было делать точные безошибочные расчёты. Рядовой Сёмин, находясь всего три месяца в армии, отлично справился с задачей. Он быстро и чётко рассчитал все параметры, и танк Т-54, где он оказался наводчиком, поразил все цели. Стрельбы проводились на уровне дивизии, и сам генерал – командир дивизии объявил рядовому Сёмину в качестве поощрения десятидневный отпуск на родину. Это было невероятно. Но это произошло. И Федя Сёмин, родители которого ни о чём подобном не подозревали, нежданно-негаданно явился на побывку домой. Он предстал перед ними в парадном мундире, непривычно собранный и подтянутый, и трудно было узнать в нём того «кудлатого чувака», который три месяца назад покинул отчий дом.
После его возвращения из отпуска вскоре мы сблизились на почве разговоров о литературе. Оказалось, что Федя очень любит фантастику, и сам мечтает стать писателем-фантастом. Мне же из этого жанра нравились только «Человек-невидимка» Уэллса и «Человек-амфибия» Беляева. Всё остальное я воспринимал как заумные идеи технического прогресса. А волновали меня по-настоящему в основном писатели – реалисты, классики русской, французской, английской и американской литературы. В последнее время меня, как и всех советских читателей, очень увлёк Э.Хемингуэй. Тогда во многих домах на стенах висел портрет заросшего седой щетиной великого писателя. Он стал моим злым гением. Готовя себя в литераторы, я считал, что именно так, как он, должен писать современный писатель. Его усечённые предложения и повторы, усиливающие эффект в описаниях и диалогах, гипнотизировали новизной и непривычной простотой повествования. Я по ошибке тогда даже решил, что тургеневские подробнейшие описания природы только утомляют читателя. И что надо для изложения сюжета находить такие словесные «мазки», которые вмещали бы в себя максимальный заряд чувств и мыслей. А главными, на мой взгляд, в произведении должны являться диалоги, которые оживляют действия и не отвлекают внимания на посторонние явления. К такому заключению я пришёл, начитавшись литературы о художниках– импрессионистах и наиболее ярком среди них экспрессионисте Ван Гоге. Они не копировали жизнь (что можно делать с помощью фотоаппарата), а отражали её глубинные, порой усиленные «мазками» и другими приёмами, стороны, и своё яркое отношениё к ней.
Перенося методы изображения этих живописцев на художественную литературу, я тогда серьёзно ошибался, особенно относительно тургеневских описаний природы, считая их излишними. Я не понимал, что Иван Сергеевич Тургенев свои «природные» повествования не выдумывал, находясь в кабинете, а, с ружьём в руках уходя на охоту, глубоко изучал природу, наблюдая в деталях её проявления и видоизменения. И только глубоко прочувствовав, преподносил её не как учёный ботаник, а как мастер слова – олицетворённой и оживлённой. Потому что на самом деле окружающая нас природа развивается по своим законам, и нет в ней тех чувств, которые волнуют нас, когда мы читаем художественные произведения.
У Хемингуэя был свой репортёрский стиль. У других великих писателей тоже своя манера письма. И это нужно просто уважать, а для себя, если тоже хочешь влиться в русло художников слова, надо находить свой путь и свой почерк.
Прослышав о том, что я восхищаюсь и ставлю в пример стиль Хемингуэя, Сёмин как-то, застав меня за «писаниной», не без иронии произнёс: «Учишься писать по-хемингуэевски? Смотри, а то всё будешь только учиться, и для своей работы времени не останется, к тому же потеряешь свой собственный язык».
Ещё он негодовал по поводу моего отношения к фантазии. «Зря ты отделяешь настоящую фантазию от реализма, потому что полноценная фантазия – это высшая форма реализма. А у твоего любимого Беляева мне ловить нечего, в «Человеке-амфибии» привлекает только чувственная коллизия, душевно броская сторона, а как фантазия, она мелка»… «Конечно, – говорил он, – наша современная фантастика менее сильна, чем многие из ранних утопических романов 19 века. Но всё-таки я советую тебе зайти в книжный магазин и купить небольшую книжицу «Через 100 и 1000 лет». Она даст тебе многое, в том числе изменит и отношение к фантазии».
Вокруг всего этого мы частенько спорили. А что нам оставалось? Писать мы ещё не могли, не умели. Но желание было. «Да разве найдёшь, отыщешь слова, которые могут выразить все чувства, которые потрясают человека?» – рассуждали мы.
Иногда Сёмин откровенно заявлял: «Я хочу писать, хочу, чтобы мой мозг работал, а душу щемило. Но всё, что я перебираю в памяти, так мало значит, что просто опускаются руки».
Нам надо было ещё многое познать, в том числе и саму жизнь, прежде чем заявлять о себе.
Приятно было узнать и то, что Сёмин увлекается поэзией и даже пишет стихи. В порыве откровенности он рассказал мне о любимой девушке Нине, которая, как он выразился – «накаутировала» его с его же другом. Здесь, в армии, всё это всплывало и наводило на грустные мысли, проявляясь в стихах:
Ушедший день в багрянце догорает,
Объявши жаром дальние кусты.
Солдат не спит. Солдат мечтает.
В мечтах солдату вновь явилась ты.
Или:
Ведь в буднях праздники только и помнятся.
А с почтой дорога короче, прямая.
Сколько завтра тебе исполнится?
Прости, не помню. Но поздравляю.
Теперь, как друг или как товарищ,
Тебе приятное сделать рад.
В груди отпылало былое пожарище –
Теперь не любимый тебе я, а брат.
Как мы воскресили серенаду
…Голос у меня «зычный». Мы ещё пацанами, бывало, залезем на покатую крышу самого красивого в посёлке трёхэтажного дома (дом был с колоннами, что и подчёркивало его особенность) и горланим песни, какие только взбредут нам в головы.
«Как родная мать меня провожала,
Как тут вся моя родня набежала:
А куда же ты, Ванёк, а куда ты,
Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты…»
Или:
«Ты гуляй, гуляй, мой конь,