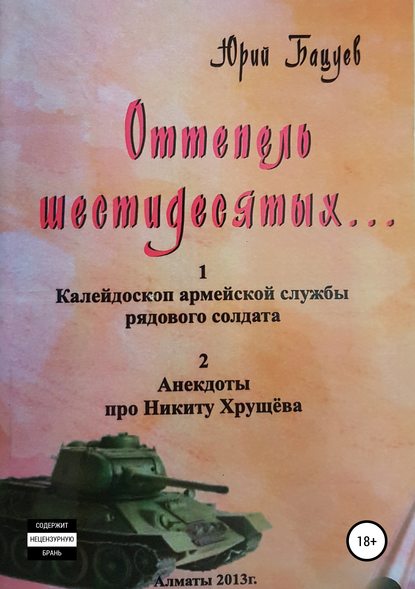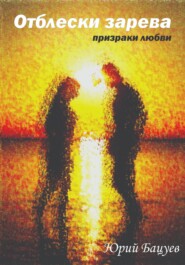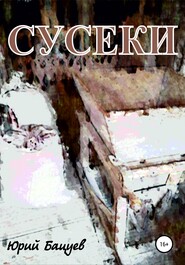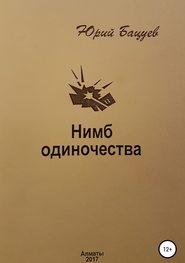По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Оттепель 60-х
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мне, да и не только мне, но и моим товарищам – близким по духу солдатам, стало вдруг ясно, что не только в живописи, но и в литературе, и других видах искусства, а также в самой жизни, непременно должны меняться стереотипы восприятия и воссоздания окружающего нас мира. Что наступают новые времена. Это чувствуется. Появляется и у нашего человека возможность вырваться из однополярного магнитного поля в мир «броуновского» самовыражения. Я вдруг увидел, что даже вот здесь, рядом со мной находятся пока ещё не состоявшиеся, но уже определившиеся будущие художники трёх направлений. Они, пока ещё как могут, но уже идут каждый своим путём. Самым подготовленным, да и убеждённым художником – реалистом, был ефрейтор Юрий Травкин, символистом – рядовой Александр Шварцман, а художником, несущим в себе интеллектуально-образное восприятие мира, – рядовой Валера Лебедев.
Юрий Травкин
Передо мной портрет рядового солдата: солдат не в строю, не в парадном кителе, опоясанный ремнём, а в повседневной гимнастёрке. Художник усадил его так, словно он оседлал стул, облокотившись скрещенными руками на спинку. Тонкие кисти рук свисают со спинки стула. Лицо, повернутое слегка в сторону, выражает задумчивую сосредоточенность. Глаза смотрят не в упор на зрителя, а чуть выше и выражают невесёлое раздумье. Этот портрет подарил мне ефрейтор Травкин.
Прежде чем занять уготованное место в квартире, полотно художника пролежало много времени свёрнутым в трубочку, а затем, натянутое на подрамник, сменило несколько случайных рам, пока не нашёлся человек, который из лиственницы сотворил точно по размерам (80 на 55 сантиметров) достойное обрамление портрету. Прошло ещё немало лет, пока картина нашла своё место в комнате моего сына. Когда же мои друзья, коллеги-геологи, впервые увидели портрет, они воскликнули: «А что это за Фурманов у тебя на стене?» «Какой Фурманов? – нарочито возмутился я. – Фурманов был комиссаром у Чапаева, а здесь я – рядовой Бацуев».
…26 августа 1962 года в художественной мастерской солдатского клуба нашего полка Юра Травкин, не находя себе места, нервно расхаживал по мастерской, столы которой были заставлены банками с красками, а также завалены разными набросками армейских плакатов и схем, и бормотал:
– Мне надо кого-то найти, кто согласился бы позировать, да приниматься за работу.
– Я согласен!.. Меня разве нельзя? Впрочем, конечно, если ты находишь нужным,– охотно предложил себя ефрейтор Стахов.
Художник: – Тебя?! (внимательно всматривается).
– Или вот моего друга, Конского? – указал Стахов на случайно оказавшегося здесь другого солдата.
Конский, встрепенувшись: – Слушай, Травкин, а ты действительно попробуй. Я давно хочу предложить тебе свою фигуру: буду позировать тебе в плавках.
Стахов: – А мускулы-то у тебя есть?
Конский: – Причём здесь мускулы? Спина у меня, видишь, какая? Ростом я богат, есть талия. Могу ещё с копьём, или гантелями, предстать.
Художник, едва взглянув, только и сказал: – Курить охота.
Тут же нашлась папироса «Беломор».
Ю. Травкин (слева), Н. Кандаков, Ю. Бацуев
…В тот день, когда посторонние разошлись, Травкин предложил почему-то мне занять место на стуле, где я, «оседлав» его, позировал ровно три с половиной часа, не вставая с места. Портрет был готов за один сеанс. Он написан масляными красками. И сейчас этот портрет (спустя много-много лет) висит в комнате сына.
…Художник Юра Травкин был призван в армию, когда до получения диплома об окончании Ивановского художественного училища оставалось меньше года. Причём забрали его за три месяца раньше официального призыва. На это была причина. Сергей Бондарчук снимал картину «Война и мир» и ему требовалось для военных массовок большое количество солдат. На первом плане снимались солдаты российской армии в стандартном обмундировании, а за ними только что призванные (в их числе Травкин) – одетые в исподнее бельё, то есть в белые нательные рубахи и кальсоны. В доказательство этого действа у Юры Травкина, хотя кино тогда ещё не вышло на экран, были фотоснимки отдельных эпизодов с участием личного состава новобранцев.
Когда я попал в полк, Травкин, будучи уже «обстрелянным», имел в своём распоряжении художественную мастерскую, которую сам и обустроил при клубе части. В строевой танковой роте он появлялся только тогда, когда надо было участвовать либо при сдаче проверочных экзаменов, либо в спортивных состязаниях. Кстати, он был прекрасным бегуном, хотя много курил. Его относительно свободно отпускали по маршрутному листу в центр для покупки красок, ватмана и других принадлежностей. Иногда он на электричке отвозил в Горький и свои картины для участия в выставках художественных полотен. Художником он был почти профессионально состоявшимся. Кроме станковой живописи, он занимался росписью шкатулок, придерживаясь палехской школы.
Наши дилетантские разговоры об импрессионистах он не воспринимал серьёзно, так как был приверженцем академического направления. «Много на свете художников, – говорил он, – но каждый работает по-своему. Я стремлюсь тоже к своей технике изображения. Всё остальное будет воплощено с помощью приобретённого мастерства. Вот вы тут рассуждаете об импрессионистах: Ван Гоге, Поле Гогене, о Сёре и других. А ведь всё зависит от того, каким взглядом ты на полотно смотришь, и что ты видишь в картине. Наверняка, Ван Гог, создавая свои этюды, и не предполагал того, что вы сейчас, да и другие ценители до вас, в них увидите». «Так и я, – резюмировал он, – иду своим путём, а что получится, судить и ценить не мне, а зрителю».
Рассматривая этюды Травкина (его отпускали иногда на пленэры), я, стараясь понять суть изображаемого, всячески побуждал его к беседе.
– Вот теперь, кажется, дошла до меня твоя живопись, – воскликнул как-то я, обращая внимание на детали картины. – Я вижу, вот здесь у тебя цвета играют, живут, переливаются. Это верно?
– Да, здесь играют, – согласился Травкин.
– А в этой картине удачен плащ женщины, и опять же видна игра света на одежде и лице мальчика. Но странно, – продолжал я, – что живут-то только светлые тона: жёлтый, сиреневый, синий. Особенно жёлтый.
– Ты не увлекайся «игрой». Игра не означает совершенства. Игра зависит от источника света, если нет света – не будет чувствоваться перелив, но вещь будет совершенна и оригинальна. Суть не только в этом. Суть в мастерстве и в том, как оно воспринимается.
От Юры Травкина я узнал о различных школах миниатюрной живописи. Увидев расписанную шкатулку, я сначала не придал никакого значения ей и даже не думал о том, что она представляет какую-то ценность. Но благодаря Травкину, я узнал, что это миниатюра «палехской школы», что выполняется она темперой на чёрном фоне. (Темпера – это краски, смешанные яичным желтком, или находятся в консистенции с клеем и маслом). Но существуют и другие направления. Например, миниатюра «ХОлуй» выполняется темперой на белом фоне, а распознать «Мстёру» можно по окоёмам, очерченным золотой нитью. «Федоскинские» же миниатюры представляют собой обычно копии известных картин в масле.
Иногда в мастерскую Травкина заглядывал майор Эрлих, тот самый, который заставлял меня маршировать в казарме. Он был завзятым холостяком и ловеласом и заказывал для украшения стен своего холостяцкого жилища копии картин, небольшого размера. За это он поощрял Травкина скромными денежными вознаграждениями. Кроме того, по заказам других офицеров Травкин выполнял копии картин Левитана «Вечерний звон», Крамского «Незнакомка» и Врубеля «Царевна-Лебедь». На деньги, которые получал от заказов, он водил нас в солдатскую чайную, где мы за «интеллигентными» разговорами поглощали молочные продукты, которых не доставало в армейском рационе.
Александр Шварцман
– Художники-передвижники ставили целью показывать жизнь народу, то есть открывать глаза на окружающий мир. Теперь же существует фотография, которая отражает жизнь. Так что реализм в живописи сам по себе отпадает, – таков был твёрдый взгляд на искусство рядового Шварцмана. А когда разговор принимал дискуссионный характер, уже уточнял, конкретизировал суть идеи: – Всё надо ставить во имя мысли: каждый штрих, каждый мазок, каждая линия должны заключать глубокий смысл. Искусство идёт к этому. Время вытесняет простое сходство с натурой, простую игру света, простую необоснованно-созерцательную жизнь. Всё должно быть подчинено интеллекту.
Но тут ему возражали: – От реальных предметов не уйдёшь, они должны представлять хотя бы «форму», то есть оболочку, посредством которой ты будешь выражать мысль. А это и есть «техника», о которой говорит Травкин, и которая должна быть у каждого своя.
Сходились на том, что в искусстве должно быть два основных фактора: первый – умение выражать мысль; второй – сама мысль. А чтобы уметь выражать посредством кисти мысль, надо учиться. А чтобы иметь мысли, надо думать.
Вокруг этого в основном и кружились тогда дебаты нашей творческой богемы. И если Травкин, взяв этюдник, уходил на природу, или, усаживая натурщика перед мольбертом, приступал к делу, именно таким образом вырабатывая «свою технику», то Шварцман делал бесчисленное количество набросков, пытаясь обобщить их в одно целое, заключающее в себе «мысль».
Выписки из записной книжки
20.10.62г
«Зашёл к художнику Травкину, увидел его этюды, картины и осознал, что только сейчас начал понимать живопись. Потом посмотрел «шедевры» Шварцмана и показалось мне, что и мои писательские «начинания» не живые, а мёртвые и схематичные, как наброски Шварцмана. Мне мои опусы кажутся чего-то стоящими только тогда, пока я их воображаю, а как только начинаю писать, отбрасывая «лишнее», превращаю всё в скелет. Но, что же делать? И всё-таки мне интересно искать свой литературный слог».
Однако через две недели в моей записной книжке появилась другая, совершенно противоположная, запись:
4.11.62г
«…В Шварцмана я влюблён. Целые сутки нахожусь под впечатлением его картинок. Новое движет. Это чувствуется. В его картинках точность и мысль, много мыслей. Это мне импонирует. От Травкина отхожу (он ярый реалист). По сути дела и Шварцман реалист, но реалист нового времени. Он тоже стремится отразить жизнь, но осмысленную уже им самим».
И всё-таки я убеждаюсь в том, что живопись, даже если создаётся с натуры, она не уподобляется фотографии. Хотя и сама фотография, если она выполнена мастерски – порой является искусством. Но живопись, это нечто очень сложное и зависит от многого.
…Одиннадцатого ноября было воскресенье. Штаб был свободен от офицеров. Пользуясь случаем, я привёл в свою комнату Шварцмана и другого любителя живописи – рядового Лебедева. Им представилась хорошая возможность поработать с натурой. Сидя за столом, я позировал им. Шварцман, как более опытный, руководил Лебедевым. Каково же было моё удивление, когда я увидел их зарисовки. Шварцман представил меня скептиком, а Лебедев – воплощением добродушия. Вот тебе и «натурализм», вот тебе и «реализм». Что ни говори, а налицо – субъективное восприятие натуры. Я не удержался и посмеялся над «скептическим» рисунком Шварцмана. Он слегка обиделся. Потом мы разошлись. Но почему-то мне неспокойно было на душе. Я нашёл его и извинился: легче всего разувериться в человеке. После моего извинения, отношения у нас с ним стали ещё лучше.
Александр Шварцман был доставлен к нам в часть из Москвы. Он месяца полтора назад начал службу. До этого учился в художественном училище, но не успел окончить, призвали в армию. Как-то так получилось, что он сразу же вошёл в наш круг.
– А ты сейчас не думаешь что-нибудь писать? – спросил он у меня.
– Большое? – Нет, – ответил я. – Я собираю в основном материал и ищу, так сказать, свой слог. В общем, нахожусь в начальной стадии.
– А ты веришь, что всё это много значит, то есть то, что мы замечаем сейчас, потом пригодится?
– Конечно. Здесь определяется наш путь и наша позиция в жизни.
–А как ты думаешь, – спросил он, – мне надо идти в строй? Все пугают меня «строем».
– Необязательно идти, но не надо бояться «строя». А просто быть готовым к нему. Куда бы ты ни попал, постарайся оставаться самим собой, – посоветовал на будущее я.
– Почему я вижу здесь больше мрачного? – спросил он и добавил: – Боюсь, что буду писать здесь только «плохое».
Перед этим он отыскал меня и показал картинку в чёрно-белом исполнении. На листе была чёрная труба, символично взмывавшая вверх, а снизу всё сильней и сильней сдавливалась с одной стороны тоже чёрным забором, а с другой – мрачным зданием, наклонённым к трубе.
– Я тоже вижу здесь мало хорошего, – продолжил я беседу.
– Но я ненавижу это. И боюсь, что заблуждаюсь в чём-то большом.