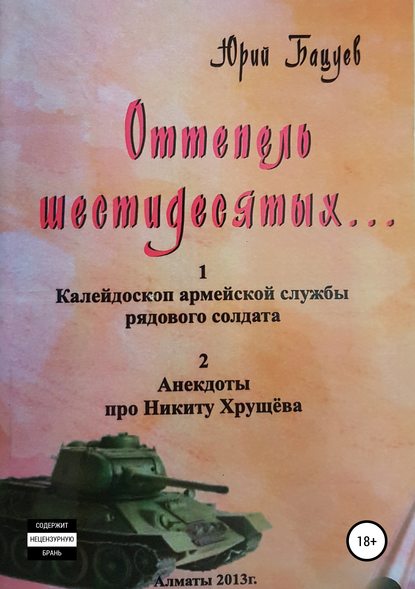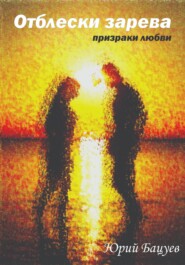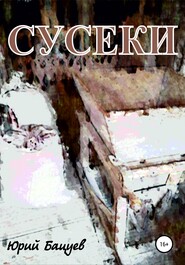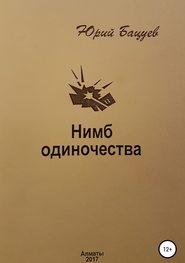По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Оттепель 60-х
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И ты злишься на них.
– Это пройдёт, как только вернусь из армии.
– И всё-таки ты очень хороший.
– Скажи ещё, что ты любишь меня.
– Не сомневайся, любимый.
– И ты тоже, родная. Дай, я тебя поцелую.
– Целуй.
– Укажи куда.
– Ты целуй, милый, целуй, а потом спрашивай. А лучше ничего не говори.
– Прелесть моя, роднущая моя, как я тебя люблю…
В таком духе и проходили наши беседы между бурными ласками. И оба мы были счастливы. Но были беседы и более серьёзные.
– А знаешь, – однажды в другое русло перевёл я разговор, – осенью мы были на военном полигоне в Золино. Со мной случилось такое, о чём я до того времени не задумывался. Я даже отметил этот момент в записной книжке, – книжка была при мне и я зачитал: «Встал с настроением, будто жена изменила. Вот уже второй день хожу шальным». А дальше приписка: «Вот так быть женатым солдатом. Может, так оно и есть?» – Это случилось 20 августа, за три месяца до твоего приезда. Может, ты припомнишь, что с тобой было в этот день? – обратился я к своей жёнушке, но тут же спохватился: – Впрочем, не надо, ничего не говори. Получается, будто я побуждаю тебя оправдываться.
– Вот что, милый, – заговорила она, – у нас и до женитьбы была разлука, пока я училась в Ленинграде. Мысли и у меня были разные. И не один раз. Но я тебе отвечу так: – Делить любовь с кем-то я не могу, мне или всё отдай, или ничего не надо.
– Ты, пожалуйста, не обижайся, родная, любимая моя, – прервал я её. – Я доверял и доверяю тебе. Но у нас в полку, ты не поверишь, у всех моих знакомых ребят жёны ушли к другим. А ведь не прошло и года.
– Я тебе сказала то, что ты слышал.
– И всё-таки, – продолжал я разглагольствовать на эту тему, – обид у меня не может быть, даже в том случае, если это произойдёт. Верность должна быть обоюдной. Но условия у нас разные. Мне легче быть «верным» уже потому, что я нахожусь, пусть не за колючей проволокой, но за забором. А ты живёшь на «свободе» среди широкого круга людей и соблазнов. И время сейчас не такое, какое было во времена Великой Отчественной, когда все были солидарны, даже в вопросах верности. А сейчас, всё по другому:
Меня в сорок пятый обуют,
Я буду посты караулить
И крест свой солдатский нести,
А ты веселись,
Не грусти.
– Не будем об этом, Юрч, – перебила она. – Ты знаешь, я подала заявление на квартиру. Приедешь, а у нас квартира. Я смогу обнять тебя, сесть на колени, и никто нас не увидит. Я помню, как ты стеснялся ласкать меня, когда мы жили в Чимкенте у моих родителей. А теперь всё будет по-другому. Не сомневайся, любимый.
– Я когда нахожусь в увольнении, – переключил я разговор, – всех встречных девушек сравниваю с тобой. И все они кажутся не такими – ты лучше всех, желанней и любимей.
– Спасибо, родной. Я вспоминаю, как в первые дни нашей совместной жизни, после приезда из Баку, там, в Чимкенте, в ожидании отъезда в Алма-Ату мы во дворе кололи дрова-саксаул: я подавала чурки, а ты разбивал их о камень. Бил по камню сам, а меня спрашивал: «Устала?». В шесть часов утра ты уезжал на работу в «свои необъятные степи». А вечером мы всей семьёй собирались за столом. Ты аппетитно поглощал ужин, согретый домашним теплом и моей улыбкой. Я смотрела на тебя. Потом ты приходил в себя и рассказывал всё, что происходило с тобой днём. Рассказывал интересно, с юмором и со смыслом. В эти минуты ты мне нравился. Но потом ты был болтлив, и я обрывала тебя на полуслове, а ты злился. Мне ты нравился содержательным. Потом мы с тобой валялись на полу на кошме – обнимались, целовались, баловались. Затем ты усаживал меня на плечо и возил по комнатам, приговаривая: «Посади жену на шею – на голову сама взберётся». И бегал со мной вприпрыжку. Мама улыбалась, а я была счастлива. Но в Алма-Ату мы не уехали. Тебя забрали в армию. И я, просыпаясь по ночам, мысленно кричу: «Милый, где ты?! И когда, наконец, кончится эта разлука?»
– Да если бы не ты, я вообще не знаю, как жил бы здесь, ты всегда со мной, любимая. После учений, которые проходили в лесу, я сделал в записной книжке прозаическую зарисовку. Лучше я прочту её тебе. Ты поймёшь, как мне дорога, и как я тебя люблю.
Мир да Любовь
Небо было сравнительно ясное. Лишь кое-где синева была покрыта лёгкой поволокой и светло-серой серебристой рябью. Деревья в лесу стояли безмолвно, лишь изредка оживали, соприкасаясь с лёгкими порывами ветерка. Жизнь деревьев мы только тогда и ощущаем, когда они взаимодействуют с ветром. А то, как они растут, впитывая внутриземные соки, мы не видим, поэтому они для нас безмолвны, пока не всколыхнёт их сила ветра.
Трава под ногами уже желтела, лишь в заболоченных местах оставалась пока ещё зелёной. Лес состоял преимущественно из сосен, берёз и редко лип. Попадались рябина и кустарник с волчьими ягодами. Я подошёл ближе к болотцу. Посмотрел: нет ли клюквы на кочках. Клюквы не было. Болото было рядом с дорогой. Но обойти его я решил со стороны леса.
Приятно было вдыхать лесной, свежий, озоновый воздух. Лес молчал и увлекал своим безмолвным спокойствием. Я удалялся вглубь зарослей. Холмы и ложбины притупляли память о пройденном пути. Но я пока не думал о возвращении. Попадались канавы – следы противотанковых рвов. Как-никак в этом лесу проводились военные учения. Почва была песчаная и от яркого солнца на опушках выглядела почти белой. Песок и солнце напомнили мне о далёком юге, где оставалась моя любимая, незабвенная женщина. И теперь, где бы я ни оказывался, она постоянно в моём сердце и в моей памяти…
Я пошёл по еле видимой тропке. Почему-то не слышалось пения птиц, зато появился звон комаров. «Эти проклятые комары, – негодовал я. – Из-за них и постоять нельзя, сразу же пускают в ход свои ядовитые хоботы. А когда кусают комары, только о них и думаешь. Хотя, если обращать на них внимание, то нечего ходить в лес».
Я шёл дальше, размахивая палкой и озираясь по сторонам. Вот вспорхнула большая птица. Она отлетела немного в сторону и вновь опустилась. Я, было, отклонился в сторону к ней. Но птица исчезла. Показалась полянка. Среди травы пробивались синие колокольчики и мелкие аленькие цветы. Сорвал. Они оказались без запаха. «Близ болот вообще почему-то цветы не пахнут», – подумал я.
Слева за дорогой белела большая берёза. А на опушке – стояли две сосенки. Они выделялись своими розовыми стволами. Под ними бугрился муравейник. Сейчас он кипел своей муравьиной жизнью. Я присел и стал внимательно наблюдать за движением этих неутомимых насекомых. Сначала мне представился хаос. Муравьи вбегали и выбегали из нор, но, приглядевшись, я заметил, что они не мешают друг другу, не натыкаются и не сбиваются в кучу. Да это же подобие армии, где я сейчас служу. Людей много, как и муравьёв, а помех, собственно, никаких – организация и дисциплина всех расставляет по местам. Субординация тоже налицо. Выполз большой мураш – малые посторонились, как и в армии: показался офицер – солдаты вытянулись. Армия, в моём понятии, сколько бы я о ней не думал, она не воскрешает у меня положительных эмоций. Это противостояние офицеров и солдат, вызывающее постоянное нервное напряжение – изнуряет и тех, и других. «Неужели и вы – муравьи – разбиты на два лагеря, – думал я. – Неужели и вы в постоянном антогонистском напряжении? Но мы-то, солдаты, в повиновении лишь определённый срок, вы же – обречены на пожизненное рабство. И я не завидую вам». Мне стало жаль этих «рабов»: – У меня есть немного хлеба, я отдам его вам». И я стал крошить чёрный солдатский хлеб своим собратьям-муравьям. Они, словно по тревоге, бросились к крохам. А я всё крошил и крошил до тех пор, пока их движение не поуспокоилось.
«А может, у них голодный год, разруха, – вдруг озарило меня, – тогда я помогу им набить едой кладовые!» Я смочил в болотной влаге кусочек хлеба, вылепил из него нечто, похожее на памятник, и поставил в центре муравейника. «Кто знает, – фантазировал далее я, не забывая и о себе, любимом, – может, они будут слагать обо мне свои муровьиные легенды. Ведь мой хлеб – это и есть та «манна небесная», которую получили свыше некогда люди».
Две красивые сосенки, словно близняшки, возвышались по краям муравейника. Не знаю, почему мне пришли на память слова песенки, военных лет:
«Твоё имя в лесу перед боем
Ножом вырезал я на сосне…» Может, потому, что сейчас проходили учения, благодаря которым я нахожусь в этом лесу, мне вдруг тоже захотелось что-то оставить здесь на память. Я вытащил из кармана перочинный нож и вырезал на деревьях два слова: Мир – на одной сосне и имя своей любимой женщины Раида – на другой. Мир да Любовь – не это ли и есть то самое главное, что ценно в жизни.
«Не обижайтесь на меня, сосенки, – молвил я. – Эти слова стоят того, чтобы оставить на вас свои следы».
…А сейчас мы лежим с Раидой на единственной в нашем номере кровати и непринуждённо болтаем:
– Я купила сегодня морковки, Юрч, – сообщила она.
– Ты обожаешь её? – осведомился я .
– Просто захотелось. Я её очистила и ждала тебя, и только сейчас вспомнила.
Я встал и, приподняв салфетку с тарелки, увидел сочную морковь.
– Сколько тебе дать, любимая?
– Дай одну и о себе не забудь.
Я надкусил свою красивую морковку, но она оказалась не сладкой.
– А у меня отличная морковка, хочешь, поделюсь? – предложила ты.
– Ты так интересно её ешь – с таким удовольствием хрустишь, что мне просто хочется любоваться на тебя.
– Юрч, не забывай, что нам пора спускаться вниз – нас ждёт твоя странная собеседница.
Я вскочил с кровати и, притянув к себе любимую, расцеловал её – смешную, жующую морковь, и поставил на ноги.
– Собираемся?