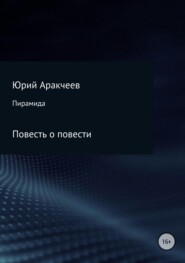По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прорыв
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Слушай, вот что. Я согласен на любой вариант, только без Галки.
Вот это номер!
– Как это? Мы же договорились с ней. При тебе же. Ты что же, предлагаешь ее обмануть? Она придет, будет ждать, а мы пойдем с другими, так?
– Да, любой вариант, только без нее.
Ничего себе.
Мы шли по темной, лишь кое-где освещенной, хотя и людной набережной, я не видел его лица.
– Еще вчера ты так восхищался ею, говорил, что балдеешь от нее, а теперь предлагаешь просто-напросто отбросить ее, так что ли? – сказал я. – Разве с тех пор она изменилась? За что же с ней так поступать? Ты ведь был с ней три дня…
Он молчал, но чувствовалось: ничто так и не шевельнулось в нем. Сорок два года! Ему – сорок два года от роду… Шли мимо фонаря, и я увидел его лицо. Жесткость и злость, больше ничего. Даже жалкости нет уже. Одна ненависть. Эх, нет у него силы, а то бы навалял всем подряд, мало не показалось бы, понял я. И Галку бы прикончил без сожаления, а уж обо мне и говорить нечего…
– Хотя бы из уважения к тому, что у вас было, сдержался бы, – сказал я все-таки. – Ты же радость от нее получил. Чем же она виновата, что ты ей разонравился?
Молчал, желваками играл. Ненавидел.
А мне интересно было, и я все-таки сделал еще одну попытку, последнюю:
– Послушай, Вася, послушай же! Зачем ты себе делаешь хуже? Неужели ты давно не понял, что она не хочет с тобой, что ты прешь на стенку? В чем ты обвиняешь меня, а теперь уже и ее? Ведь ты только самого себя унижаешь! Ну, не лежит у нее сердце к тебе, ну сделай же вывод, отойди, сохрани достоинство, ведь свет клином не сошелся на ней, ты же многими увлекался даже здесь! Говоришь, я эгоист, но ведь настоящий эгоист – ты…
– Ну, ладно, – засуетился вдруг он. – Ты же не знаешь, какие у нас с ней были отношения…
– Какие же?
– Не будем об этом говорить, – заиграл желваками он. – Но я твердо сказал: любой вариант, только без Галки.
– Разумеется, об этом и речи не может быть, – сказал я. – Значит, ты не хочешь? Выходит, ты сам оставляешь нас с ней вдвоем, так?
Он молчал, но уже и оттенка трагедии не чувствовалось в его молчании. Да и никакой не гротеск это был, даже не фарс. Просто – заурядненькая комедия. Бесполезно, все бесполезно…
– Хорошо, – сказал я, когда шли теперь по темной набережной. – Значит, мы будем с ней вдвоем сегодня вечером. Говорю тебе это открыто.
– Дай мне ключ, я заберу то, что мне надо, – сказал он.
– Между прочим, я не хотел бы ночевать на улице, – заметил я, давая ключ.
– Да оставлю я тебе ключ, не беспокойся, – ответил он, беря ключ.
И поспешно ушел, чуть не бегом.
Галочка, мой Галчонок появилась на набережной, подходя к скамейке, где я ее ждал, как всегда, точно. Было холодно, она шла, кутаясь в шерстяную кофточку, нежность так и сжала мне сердце.
Я коротко пересказал ей наш диалог с Робертом.
– По крайней мере у меня теперь совесть чиста, – сказал я. – Если какие-то нотки и были, то теперь ничего не осталось.
– Да какие нотки?! – не выдержала опять Галка. – Какие у него права на меня? Что ты с ним так возишься, ей-богу, никак понять не могу!
Да, плод созрел окончательно. Вернее, не плод, а нарыв. Однако последний разговор, похоже, вскрыл его.
– Давай погуляем, ладно? – сказал я, думая все же о том, что сделает он с ключом. Наверняка не сможет просто так уйти и оставить ключ там, где договорились.
Мы шли по темной набережной, смотрели на море, на звезды, рядом со мной было родное, теплое существо. Удивительно все же это внезапное и несомненное родство душ! Сколько мы были знакомы? Два дня! А кажется – знали друг друга всю жизнь. Обычное дело… В первые дни после приезда сюда я как раз сидел над повестью, в которой тоже описывал встречу двоих. Там в женщине едва промелькнула естественность, открытость жизни – и тут же она трусливо погасила ее, начались ее тяжбы с самой собой и с ним, молодым мужчиной, и конечно увяло в конце концов даже то немногое, что смогло пробиться сквозь заслоны и страхи в самые первые дни… Прообразом того мужчины был, конечно же, я, прообразом женщины одна из моих близких подруг, но теперь рядом со мной шла прекрасная индианка с распущенными длинными волосами, в джинсах, с высокой грудью, и ни нотки расчетливости не было в ней, ничего напоминающего то – тоже прелестное внешне, однако же такое жалкое существо… Прекрасная звездная ночь была вокруг нас, шумело море, а от причала отходила яхта со светящимся парусом, подсвеченным снизу огнями.
И при свете звезд я целовал эту прекрасную юную девушку, и она смущалась от того, что рядом проходят люди и видят нас, но ни тени ломания не было в ней. Как и ни тени опытности, распущенности, пустого кокетства. Неисповедимыми путями вела нас судьба по разным совершенно дорогам, я родился в Москве, она в Ленинграде, ни разу не скрещивались наши пути до этого времени, но вот скрестились – мы оба добрались до этой точки скрещения как будто бы без потерь. Она, юная. И я, взрослый.
– Роберт, наверное, ушел, наконец. Пойдем? – сказал я.
– Пойдем. Только знаешь, я… Ты не обидишься на меня, если… – начала она все-таки, когда по пути мы обнимались в одной из темных аллей. – Если я буду не совсем готова, то…
– Не обижусь, не обижусь, что бы ни было. Но ты и сама этого захочешь.
Когда подошли к дому, увидели свет в моих окнах.
– Может быть, он просто забыл погасить? – сказал я, наивный.
– Нет, он наверняка еще там, – возразила она уверенно.
Подождали все-таки на одной из темных аллей. А свет все горел.
Пошли.
– Он попытался бы убить меня, если бы был в силах, – сказал я. – Но он не в силах, несчастный, к тому же трус.
– Да уж, куда ему, – усмехнулась она.
Действительно, он был в комнате. Чемодан стоял, давно собранный, а бедный начальник лаборатории сидел перед чемоданом, и когда мы вошли, сделал вид, что дошнуровывает ботинок. Почти час, выходит, понадобился ему, чтобы зашнуровать ботинки – ведь чемодан был собран еще вчера!
– Извините, я немного задержался, – сказал он, дошнуровав.
Взял свои вещички и вышел. Все забрал он – и портативный кассетный магнитофон, который мы брали на двоих, а перед самым отъездом до часу ночи делали записи с моих больших пленок, и лимонные дольки – любимые Галкины конфеты, купленные специально для нее, – и консервы, которые мы тоже хранили у меня для гостей. И даже коробку из-под долек, которую я приспособил для мелкого мусора. Одно забыл – скомканную, скрученную тесемку, которую мурыжил целый час в ожидании нашего прихода – чтобы, значит, удостовериться. «Дошнуровывая ботинок», забыл это «вещественное доказательство».
11
Эту ночь я тем более никогда не забуду. Опыта у меня хватает и опыта вполне положительного, но такой радости, такой песни от простого соприкосновения человеческих тел, я до того момента не испытывал, казалось, никогда. Конечно, тело ее было прекрасно – молодое, сильное женское тело, крепкое, пропорционально сложенное, как будто вылепленное из упругого, нежного материала великим скульптором.
Именно от простого соприкосновения, я не оговорился, потому что в первые минуты, к счастью, я вовсе не стремился к «форсированию событий». Именно соприкосновения, вполне пока «беспорочного» – если это понятие имеет какое-то значение, потому что о каком же пороке может идти речь, если двое стремятся друг к другу, если сама природа ласково и властно влечет… Божественная музыка объятий, нежных ласк, поцелуев и вздохов… Не переставая, она стонала, как маленький ребенок, и так же – естественно, искренне – тянулась ко мне, и наши тела пели песню, это был именно дуэт с переменными соло, и он, кажется, мог длиться до бесконечности.
Разумеется, состоялось в конце концов все, что и должно было состояться, и вот удивительно: ничего по существу не изменилось от того, что мы в какой-то момент стали формально «близки». Ведь наша песня началась раньше, а в естественно наступивший «звездный» миг Первого Проникновения, она лишь продолжилась… Мы не были слепыми рабами природы, мы свободно следовали ее сладкому зову… И все-таки, конечно же, это было крещендо, пик восторга, окончательно соединивший нас.
Да, сказалась моя приобретенная выносливость, мой опыт, победа над беспомощной, неуклюжей сопливостью, с таким трудом достигнутая раскрепощенность – но я-то ладно, у меня было все-таки время, чтобы научиться, но вот она… Откуда у нее эта свобода, раскованность, ни на миг не переходящая в распущенность, откуда эта зрелая чистота – именно зрелая, бесстрашная и открытая?
Конечно, не выспались, но утром она была свежа, как ни в чем не бывало, и по-прежнему от нее хорошо пахло – шампунем, которым она мыла волосы, и ароматом молодого здорового тела. Когда возвращалась после завтрака, цветущая и смеющаяся, сказала:
– На меня что-то начали внимание обращать, а моя соседка комплимент сделала.