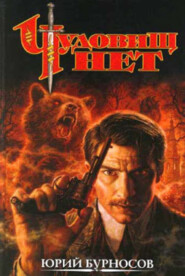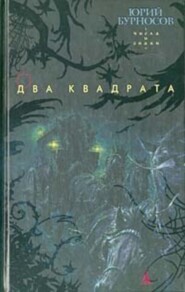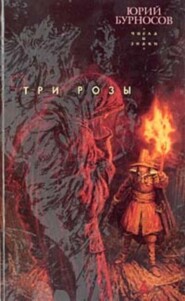По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бестиариум. Дизельные мифы
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2013
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, он самый. Помню, в гимназии… – Полковник внезапно замолчал, потом мотнул головой и продолжил: – А, неважно… Скажите лучше, как вам самолет?
– Я уж третий раз лечу на нем. По-моему, прекрасный. Словно в поезде, даже лучше.
– А я вот впервые сподобился. Гениальнейший мастодонт. Не то что эти дирижабли… Жаль, шлепнули Калинина.
Режиссер не сразу понял, что речь идет не о всесоюзном старосте, а об авиаконструкторе Константине Калинине, которого и в самом деле расстреляли как врага народа. Кажется, в тридцать восьмом. Именно Калинин создал самолет, на котором они сейчас летели в Москву, но после катастрофы производство было законсервировано и вновь запущено лишь в тридцать девятом.
Колобанов задумчиво жевал, шевеля усами и глядя в иллюминатор. Внезапно белесая мгла снаружи растаяла, снова показалось ярко-голубое небо, и полковник вскрикнул:
– Смотрите! Смотрите!
Александров послушно приник к толстому стеклу и увидел, как в полусотне метров от них параллельно курсу самолета летит уродливый фосфоресцирующий клубок размером с полуторку. Вслед за клубком тянулись мириады тонких щупалец. Они мигали разноцветными огоньками, извивались и дрожали.
– Надеюсь, мы его не заинтересуем, – пробормотал полковник. – Три дня назад у нас в округе вот так ТБ летел… Он его в землю, ни за что все насмерть… Им же без разницы…
– Тс-с! – прошипел Александров, словно омерзительный спутник мог их услышать.
Клубок летел рядом еще около минуты, после чего резко обрушился вниз. Возможно, увидел нечто более любопытное, нежели самолет.
– Твою мать… – Полковник, бренча горлышком бутылки о края стаканчиков, снова разлил коньяк. – Никак не привыкну.
– Никто не привыкнет, – сказал Григорий Васильевич.
– У соседей такого сбить пробовали. Давно еще, в том году. Майор Грицевец, дважды Герой, за Испанию и Халхин-Гол.
– Получилось?
– Хрен. Майор в лепешку, а ему хоть бы хны. А потом всё начальство, вплоть до командующего ВВС округа, сняли, и с тех пор о них ни слуху ни духу. Самоуправство, дескать, нарушение договоренностей…
Махнув рукой, Колобанов осушил стаканчик.
– А главное, никто не знает, что им нужно. И весь материализм и эмпириокритицизм навернулся. И никто сделать ничего не может: Черчилль, Рузвельт, Муссолини, Лебрен, Франко, Гитлер, Сталин… Сильные мира сего, мать их. Вот где сильные! – Полковник громко постучал костяшками пальцев по стеклу иллюминатора. – Только не от мира сего они, эти сильные. «Се – бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя», – громко процитировал полковник. – Вот только на служителей культа им тоже наплевать. Вы знаете, что еще в тридцать девятом патриарший местоблюститель Сергий выходил к ним с молебном?
– Откуда же мне знать… И что? Хотя я уже догадываюсь…
– Правильно догадываетесь. – Полковник тяжко вздохнул. – Съели.
На центральном аэродроме имени Фрунзе на Ходынке они с Колобановым распрощались, но всю дорогу до Ногинска режиссер вспоминал последние слова полковника, простые и точные.
Он сидел на заднем диване уютного темно-красного «Horch-853», подаренного в прошлом году «Мосфильму» германской студией «Olympia-Film GmbH» и врученного лично Лени Рифеншталь. Молчаливый водитель остановился лишь раз, чтобы подкачать колесо, и вскоре Григорий Васильевич уже был на ткацкой фабрике бывшей Глуховской мануфактуры, где и должны были снимать изрядную часть «Золушки».
Здесь уже бегал Кноблок, размахивая руками и ругая нерадивых рабочих.
– Станки будем расставлять вон там! Вон там! А эту стенку несите туда, туда! Да вон туда, чтоб вам лопнуть! Тьфу ты…
Обозлившийся художник-постановщик плюнул и отошел в сторону, присев на ящик.
– Борис, всё лютуешь?! – добродушно осведомился Александров. В привычной обстановке съемок, с запахом нагретого софитами воздуха, целлулоида, свежей древесины декораций он сразу почувствовал себя значительно спокойнее.
– Да невозможно работать. Почему у Охлопкова нормальные рабочие сцены, а здесь какие-то дегенераты?! Нет, я снова уйду в театр, Григорий Васильевич, это не мое. Не мое.
– Давай картину доснимем, а потом посмотрим, – режиссер похлопал Кноблока по плечу. – Сам ведь знаешь, чего мне стоило ее разморозить.
– Да я-то понимаю, но… – начал было Кноблок, но тут же замолчал, глядя куда-то за спину Александрову. Режиссер резко обернулся – так и есть, к ним шла Любовь.
– Ты опоздал, – решительно произнесла она, подойдя. Кноблок тут же куда-то испарился, на случай семейной ссоры.
– Прости, Люба, – сказал Григорий Васильевич виновато. – Вызвали в Смольный, сама понимаешь, я никак не мог… Вылетел на полдня позже. Тут всё равно еще ничего не готово.
– Однако я должна тут сидеть без дела и ждать! – Орлова сверкнула глазами и сердито принялась рыться в сумочке. Нашла пачку американских сигарет с верблюдом на желтоватой пачке, закурила, надув губы.
– Люба, – укоризненно произнес режиссер. – Это же Жданов. Я должен был проигнорировать встречу?
– Послушай, ты прекрасно знаешь, что Жданов – это уже совсем не тот Жданов. Эти ваши съезды, депутаты, аплодисменты, парады – всё осталось в прошлом, всё превратилось в пыль! Григорий, разве ты этого не видишь?! Сталин – Сталин!!! – вынужден советоваться с каким-то отвратительным кальмаром, чтобы…
– Тихо! – крикнул Григорий Васильевич так, что на него оглянулись рабочие-декораторы и возившийся с камерой оператор Петров. – Тихо… – сказал он уже спокойнее. – Ты же знаешь, что бывает за распространение. Да, они пришли. Однако НКВД, а теперь еще и НКГБ исправно работают. И что-то я не видел, чтобы они так уж часто вмешивались в их дела.
Он взял жену за руку, желая сказать что-то еще, объяснить ей, что так вести себя не следует, что всё вокруг, возможно, уже изменилось, но еще не стало окончательно другим. Орлова вывернулась и спросила:
– Мы сегодня начнем снимать?
– Непременно, – пообещал Александров. – Можешь гримироваться, Борис расставит декорации так, как ему нужно, и станем работать. Он как-то по-особенному хочет снять катушки.
– Меня интересуют совсем не катушки, – холодно сказала Орлова и ушла.
Не успел Григорий Васильевич переговорить с оператором, как его принялись донимать авторы песен к фильму. Вернее, донимал в основном один – Анатолий Д’Актиль, написавший знаменитый «Марш конников Буденного». Второй, Миша Вольпин, помалкивал. Он уже отсидел свое в заполярном лагере за то, что вместе с Эрдманом и Массом сочинял антисоветские басни, и теперь предпочитал не соваться с рацпредложениями, а делать, что скажут.
Впрочем, его это не касалось нисколько, ибо речь шла о главной песне, помпезно именовавшейся «Маршем энтузиастов». Текст к ней придумывал Д’Актиль.
– Мне не нравятся слова, – он сунул под нос Александрову листок с напечатанным текстом.
В буднях великих строек,
В веселом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых!
Ты по степи, ты по лесу,
Ты к тропикам, ты к полюсу
Легла родимая, необозримая,
Несокрушимая моя.
Григорий Васильевич прочел куплет, который давно уже знал наизусть.
– Что вам не нравится, Анатолий Адольфович?
– Здесь нет ничего о… ну, вы понимаете.
– Нас никто не обязывал и даже не просил, – сухо заметил режиссер.
– Я уж третий раз лечу на нем. По-моему, прекрасный. Словно в поезде, даже лучше.
– А я вот впервые сподобился. Гениальнейший мастодонт. Не то что эти дирижабли… Жаль, шлепнули Калинина.
Режиссер не сразу понял, что речь идет не о всесоюзном старосте, а об авиаконструкторе Константине Калинине, которого и в самом деле расстреляли как врага народа. Кажется, в тридцать восьмом. Именно Калинин создал самолет, на котором они сейчас летели в Москву, но после катастрофы производство было законсервировано и вновь запущено лишь в тридцать девятом.
Колобанов задумчиво жевал, шевеля усами и глядя в иллюминатор. Внезапно белесая мгла снаружи растаяла, снова показалось ярко-голубое небо, и полковник вскрикнул:
– Смотрите! Смотрите!
Александров послушно приник к толстому стеклу и увидел, как в полусотне метров от них параллельно курсу самолета летит уродливый фосфоресцирующий клубок размером с полуторку. Вслед за клубком тянулись мириады тонких щупалец. Они мигали разноцветными огоньками, извивались и дрожали.
– Надеюсь, мы его не заинтересуем, – пробормотал полковник. – Три дня назад у нас в округе вот так ТБ летел… Он его в землю, ни за что все насмерть… Им же без разницы…
– Тс-с! – прошипел Александров, словно омерзительный спутник мог их услышать.
Клубок летел рядом еще около минуты, после чего резко обрушился вниз. Возможно, увидел нечто более любопытное, нежели самолет.
– Твою мать… – Полковник, бренча горлышком бутылки о края стаканчиков, снова разлил коньяк. – Никак не привыкну.
– Никто не привыкнет, – сказал Григорий Васильевич.
– У соседей такого сбить пробовали. Давно еще, в том году. Майор Грицевец, дважды Герой, за Испанию и Халхин-Гол.
– Получилось?
– Хрен. Майор в лепешку, а ему хоть бы хны. А потом всё начальство, вплоть до командующего ВВС округа, сняли, и с тех пор о них ни слуху ни духу. Самоуправство, дескать, нарушение договоренностей…
Махнув рукой, Колобанов осушил стаканчик.
– А главное, никто не знает, что им нужно. И весь материализм и эмпириокритицизм навернулся. И никто сделать ничего не может: Черчилль, Рузвельт, Муссолини, Лебрен, Франко, Гитлер, Сталин… Сильные мира сего, мать их. Вот где сильные! – Полковник громко постучал костяшками пальцев по стеклу иллюминатора. – Только не от мира сего они, эти сильные. «Се – бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя», – громко процитировал полковник. – Вот только на служителей культа им тоже наплевать. Вы знаете, что еще в тридцать девятом патриарший местоблюститель Сергий выходил к ним с молебном?
– Откуда же мне знать… И что? Хотя я уже догадываюсь…
– Правильно догадываетесь. – Полковник тяжко вздохнул. – Съели.
На центральном аэродроме имени Фрунзе на Ходынке они с Колобановым распрощались, но всю дорогу до Ногинска режиссер вспоминал последние слова полковника, простые и точные.
Он сидел на заднем диване уютного темно-красного «Horch-853», подаренного в прошлом году «Мосфильму» германской студией «Olympia-Film GmbH» и врученного лично Лени Рифеншталь. Молчаливый водитель остановился лишь раз, чтобы подкачать колесо, и вскоре Григорий Васильевич уже был на ткацкой фабрике бывшей Глуховской мануфактуры, где и должны были снимать изрядную часть «Золушки».
Здесь уже бегал Кноблок, размахивая руками и ругая нерадивых рабочих.
– Станки будем расставлять вон там! Вон там! А эту стенку несите туда, туда! Да вон туда, чтоб вам лопнуть! Тьфу ты…
Обозлившийся художник-постановщик плюнул и отошел в сторону, присев на ящик.
– Борис, всё лютуешь?! – добродушно осведомился Александров. В привычной обстановке съемок, с запахом нагретого софитами воздуха, целлулоида, свежей древесины декораций он сразу почувствовал себя значительно спокойнее.
– Да невозможно работать. Почему у Охлопкова нормальные рабочие сцены, а здесь какие-то дегенераты?! Нет, я снова уйду в театр, Григорий Васильевич, это не мое. Не мое.
– Давай картину доснимем, а потом посмотрим, – режиссер похлопал Кноблока по плечу. – Сам ведь знаешь, чего мне стоило ее разморозить.
– Да я-то понимаю, но… – начал было Кноблок, но тут же замолчал, глядя куда-то за спину Александрову. Режиссер резко обернулся – так и есть, к ним шла Любовь.
– Ты опоздал, – решительно произнесла она, подойдя. Кноблок тут же куда-то испарился, на случай семейной ссоры.
– Прости, Люба, – сказал Григорий Васильевич виновато. – Вызвали в Смольный, сама понимаешь, я никак не мог… Вылетел на полдня позже. Тут всё равно еще ничего не готово.
– Однако я должна тут сидеть без дела и ждать! – Орлова сверкнула глазами и сердито принялась рыться в сумочке. Нашла пачку американских сигарет с верблюдом на желтоватой пачке, закурила, надув губы.
– Люба, – укоризненно произнес режиссер. – Это же Жданов. Я должен был проигнорировать встречу?
– Послушай, ты прекрасно знаешь, что Жданов – это уже совсем не тот Жданов. Эти ваши съезды, депутаты, аплодисменты, парады – всё осталось в прошлом, всё превратилось в пыль! Григорий, разве ты этого не видишь?! Сталин – Сталин!!! – вынужден советоваться с каким-то отвратительным кальмаром, чтобы…
– Тихо! – крикнул Григорий Васильевич так, что на него оглянулись рабочие-декораторы и возившийся с камерой оператор Петров. – Тихо… – сказал он уже спокойнее. – Ты же знаешь, что бывает за распространение. Да, они пришли. Однако НКВД, а теперь еще и НКГБ исправно работают. И что-то я не видел, чтобы они так уж часто вмешивались в их дела.
Он взял жену за руку, желая сказать что-то еще, объяснить ей, что так вести себя не следует, что всё вокруг, возможно, уже изменилось, но еще не стало окончательно другим. Орлова вывернулась и спросила:
– Мы сегодня начнем снимать?
– Непременно, – пообещал Александров. – Можешь гримироваться, Борис расставит декорации так, как ему нужно, и станем работать. Он как-то по-особенному хочет снять катушки.
– Меня интересуют совсем не катушки, – холодно сказала Орлова и ушла.
Не успел Григорий Васильевич переговорить с оператором, как его принялись донимать авторы песен к фильму. Вернее, донимал в основном один – Анатолий Д’Актиль, написавший знаменитый «Марш конников Буденного». Второй, Миша Вольпин, помалкивал. Он уже отсидел свое в заполярном лагере за то, что вместе с Эрдманом и Массом сочинял антисоветские басни, и теперь предпочитал не соваться с рацпредложениями, а делать, что скажут.
Впрочем, его это не касалось нисколько, ибо речь шла о главной песне, помпезно именовавшейся «Маршем энтузиастов». Текст к ней придумывал Д’Актиль.
– Мне не нравятся слова, – он сунул под нос Александрову листок с напечатанным текстом.
В буднях великих строек,
В веселом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых!
Ты по степи, ты по лесу,
Ты к тропикам, ты к полюсу
Легла родимая, необозримая,
Несокрушимая моя.
Григорий Васильевич прочел куплет, который давно уже знал наизусть.
– Что вам не нравится, Анатолий Адольфович?
– Здесь нет ничего о… ну, вы понимаете.
– Нас никто не обязывал и даже не просил, – сухо заметил режиссер.
Другие электронные книги автора Юрий Николаевич Бурносов
Другие аудиокниги автора Юрий Николаевич Бурносов
Визит




 0
0