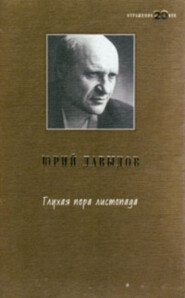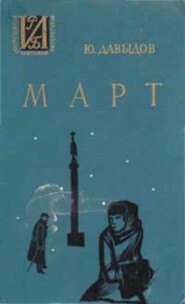По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Соломенная Сторожка (Две связки писем)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И он спал спокойно. Ему бы полагалось мучиться бессонницей, а он спал. Черт дери, обнаруживались запасы терпения, казалось бы неисчерпаемые. Он не имел права на риск. Рисковать означало бы: «Ты для себя лишь хочешь воли…» Был долг. Была надобность действовать наверняка. И он ждал. Ждал, когда иссякнет рвение розысков и ему сообщат, что оно иссякло. Сообщат не колеблясь, без всяких «но».
Соловая лошадь и черная бурка, кинжал, револьвер, документы, деньги – все было наготове у Нины Александровны фон Нейман. Мысль о Нине сливалась с чувством вины. Ей хотелось уехать вслед за Германом. И не потерять след Германа. Он твердил самому себе: если бы не обстоятельства… Твердил смущенно, зная, что это не так. Не обстоятельства, не сознание долга, не в том крылась суть. Однако подсудность свою Герман отбросил бы негодуя. Предательство? Измена? Дамы и господа, если что-либо решительно неподвластно каждому из нас, так это приливы и отливы любви. О, высокая и нежная признательность, никогда, никогда, никогда не забудет он Нину фон Нейман. Да-да, высокая и нежная признательность, но этого, увы, недостаточно для любви… И все же было смущение, было чувство вины перед Ниной, в такие минуты охватывал порыв: скорее бы.
Но Герман ждал.
У него не было права на риск.
… Широким галопом пустил он коня, и пошла соловая, пошла родимая, мягко и ровно опуская копыта на мягкий, заснеженный шлях… Спокойно, малый, спокойно, гляди не задохнись от счастья.
Широким галопом пустил он коня, гикнуть хотелось и засвистать в три пальца. Были ночи, степь, звезды. Спокойно, малый, спокойно, только бы добраться до Ростова… До Ростова добраться, до Ростова добраться… А там уж дорога железная… Там уж дорога железная…
* * *
Несколько месяцев спустя он увидел лощеную Женеву. Была теплынь, окна распахнуты, слышалось бойкое фортепиано, пахло имбирным пивом, свежими розанчиками.
В доме Огарева горничная доложила барышне, что ее спрашивает какой-то русский, и дочь покойного Герцена, Наталья Александровна, по-домашнему Тата, выйдя из комнат, вопросительно подняла на Лопатина серые внимательные глаза.
Он поклонился улыбаясь. «А вы, вероятно, меня не узнаёте…» – и весело амнистировал Тату: «Что и толковать, два с лишним годика прошумело».
Еще не отчетливо признав Германа, она расслышала запах осеннего моря и осенних цветов – там, в Ницце, этот Герман был совсем оборванцем… И, глядя на него своими серыми внимательными глазами, Тата быстро проникалась симпатией, чувством почти родственным, и, боже мой, как это было отрадно после поездки в Ле-Локль.
III
Огарев был последним, кому Герцен, перед смертью, написал несколько слов. Огарев был первым, кому Тата написала о кончине Герцена.
Николай Платонович любил детей покойного друга. Тату особенно. В Тате, говорил ему Герцен, обитает наш дух. Четверть века назад родилась эта девочка в арбатском особнячке, мороз был и солнце. В девочке повторилась ее мать, Натали. Умирая, Натали завещала мужу: «Береги Тату, с ней нужно быть очень осторожну, это натура глубокая и несообщительная». Несообщительная? Вообще-то, должно быть, так, но только не с ним, Огаревым. Он тихо и умиленно радовался Татиному приезду к нему, в Женеву.
Николай Платонович жил под ласковым присмотром Мэри. Падшая женщина? Они сошлись давно, в Лондоне. Мэри была бесконечно признательна Огареву и за себя, и за неродного ему сына, но бедняжка Мэри… Совсем, совсем не в том дело, что Мэри, как и он, держала стаканчик в исправности, ничего худого в том не было; напротив, – «выпьем, добрая подружка…». А Тата… Сквозь табачный дымок, сквозь дымку времени Огарев смотрел на Тату, ловил в ее чертах черты Герцена, видел в серых глазах, так похожих на глаза ее матери, отблески былого, когда все они были молоды, и Огареву чудилось: сейчас войдет Герцен, коренастый, румяный, в хлопьях и звездочках быстро тающего снега, и послышится эта медлительная московская речь, мягкий, иронический смешок…
Тата еще не решила, останется ли она в Женеве или вернется в Париж. Не в этом было главное, хотя она и сознавала, как необходима Огареву. Главное было в другом: «К чему я на свете?» Отец внушал: помни, что в наше время нет серьезной собственности, кроме той, что основана на работе. В натуре старшей дочери он обнаруживал складку литературную. Она владела и кистью. Дар был, дар недюжинный. Но была ли работа? Отец судил сурово: мы все вполовину разбиты, развращены и парализованы, ибо у нас есть наследство, есть рента – и отсюда некая расслабленность. Она это понимала. Но повседневной работы не было: отсутствовала потребность, подчас мучительная, возделывать свое поле, сколь бы мало оно ни было и какие бы бедные всходы ни давало.
Герцен надеялся на свою Тату: ты – наша продолжательница. Это смущало, но, честное слов, она хотела бы приобщиться к тому, что отец называл русской деятельностью. Она чувствовала себя самой русской из всех его детей, выросших на чужбине…
В Женеве она встретила Нечаева.
Тата знала, что этот Нечаев претил отцу. Отец сердито ворчал на «старичков» – на Огарева с Бакуниным – за горячую поддержку человека со змеиным взглядом и резней на уме; она помнила отцовское: этот малый натворит страшных бед. Знала и то, что Нечаев бежал из России после убийства Иванова, мерзавца и предателя.
Он пришел и, не застав Огарева, дожидаясь его, нетерпеливо прохаживался, дробно нажимая на каблук и будто не замечая Тату. Облокотившись на каминную доску, она молча наблюдала за ним. Он был в черном глухом сюртуке и в синих очках, надетых, вероятно, ради секретности. Потом, тяготясь молчанием, Тата осведомилась, что нового в России. Нечаев поворотился:
– Разве интересуетесь?
– Конечно, ведь там опять аресты…
Он усмехнулся:
– Вы-то, чай, давно из России?
– Давно. Мне год был, когда мы выехали.
– Ну, так чего уж там, – небрежно отмахнулся Нечаев и, услышав голос Огарева, без церемоний вышел из комнаты.
Оригинальный и чисто русский, подумала Тата. Подумала так потому, что встретила его не в России, не среди русских, и ее впечатление было какое-то стороннее, иностранное.
Коль скоро Огарев с Бакуниным и Нечаевым озаботились возобновлением умолкнувшего «Колокола», коль скоро они были поглощены общими делами, Тата оказалась в круге бдительного нечаевского дозора.
– Послушайте-ка, Наталья Александровна, – обратился он однажды к ней тем повелительным тоном, каким с нею никто никогда не говорил. – Вы, слыхал, недурно рисуете?
– И что же?
Нечаев снял темные очки.
– Вот, стало быть, так. На одном рисунке: толпа мужиков – кто с топором, кто с вилами, кто с косой, а кто и просто с дубьем. А впереди молодой парень, ворот расстегнут, волосы дыбом: показывает мужикам на солдат, кричит: «Братцы, не бойсь!» А тут – поп. И этот поп бьет его крестом по голове… Понятно? – И, не дожидаясь ответа, продолжал так же быстро и повелительно: – А другая прокламация с таким рисуночком: на холме дом господский, колонны, сад, все как водится, а к дому крадутся мужики, сейчас – подожгут.
– Помилуйте! – воскликнула Тата и повторила отцовское: – У вас, Сергей Геннадиевич, одна резня на уме. Нечего подбивать мужиков на убийства, поджоги, в народе и без того огромный запас ненависти.
Глядя на Тату в упор, он ответил, что ненависть свята, приходят сроки возмездия, что все средства революции хороши, что только неженки и тунеядцы чураются, умывают руки.
Тата попятилась: «Это ж иезуитизм».
– Конечно! А они-то, иезуиты, умные были, ловкие. Нам бы все их правила взять да и действовать. То есть цель-то другая, совсем другая, а правила-то, что ж, правила сподручны.
«Умывает руки… Сподручны». Она не могла определить, поражена она или испугана? «Умывает руки… Сподручны…» Слова эти будто выскочили вперед изо всего, что произнес Нечаев, и она смотрела на его руки с розовато-белесыми скобчатыми шрамами.
Перехватив этот взгляд, Нечаев буркнул:
– Пустяки. Не ваше дело.
И ушел не прощаясь.
Вечером Тата пересказала Огареву дневной разговор с Нечаевым. Огарев благодушно улыбался. (Тате, освещенной его улыбкой, его благодушием, подумалось или вспомнилось: из-за всех туч Огарев выходит ясным месяцем.) Называя Нечаева так же, как называл Бакунин – наш бой, наш мальчик, наш тигренок, – Огарев рассуждал в том смысле, что великая отрешенность от всего ради дела многое искупает в человеке, что тигренок, случается, хватит через край, это от безоглядной жертвенности, а в практике, успокойся, Таточка, успокойся, ничего иезуитского, хоть и ссылается на иезуитов, у него ни грана пошлости, а вот ты, милая Таточка, еще не научилась разбираться в людях.
– Разбираться в людях? – Тата, улыбаясь одними глазами, намекающе смотрела на Огарева.
– Ладно, – усмехнулся Николай Платонович; намек был понят – это ж ему, Огареву, говаривал Татин батюшка: ты, брат, в людях мало понимаешь, провести тебя ничего не стоит. – Ладно уж, – повторил Николай Платонович, и они оба рассмеялись, так хорошо рассмеялись…
А Нечаев с того дня запропал.
Его искали агенты, присланные Петербургом, разыскивали и швейцарские полицейские. Приняв одного эмигранта за Нечаева, арестовали беднягу. Признав ошибку, извинившись, выпустили. Но отныне и младенец сообразил бы: Нечаева не считают политическим преступником, а считают уголовным убийцей, за ним охотятся, и, коли поймают, северный медведь задерет Сергея Геннадиевича.
Тата испугалась. То было сострадание, естественное сострадание, да. Однако ощутилось и нечто смутившее Тату. Какое-то особенное расположение к Нечаеву, возникшее словно бы наперекор его невозможному тону. Она встревожилась. И это смущение, эта тревога заставили Тату не отказываться от посещений укромной улочки в квартале Сен-Пьер, где скрывался сербский подданный Стефан Гражданов. О, конечно, во исполнение просьб Огарева или откликом на зов Бакунина. И потом – уверяла она себя – ей просто приятен флер таинственности, когда идешь по засыпающему городу и должна следить, не следят ли за тобою, и приходишь к дому, увитому плющом, видишь непроницаемое, плотно занавешенное окно, стучишь условным стуком, в приоткрытую дверь скользит луч света, ты шепчешь пароль, и тебя пронизывает сквознячок конспирации.
У Нечаева она всегда заставала Этну Ниагаровну – так покойный отец величал, бывало, могучего, голосистого, многоречивого Бакунина. Тата видела, что он ближе, короче, теснее с Нечаевым, нежели Огарев, и это вызывало у нее легкую обиду за Николая Платоновича, единственного в мире и лучшего в мире. А в интонациях Нечаева нет-нет да и проскальзывало усмешливое отношение к старику, и тогда она опять испытывала к Нечаеву холодное отчуждение.
Оба – Бакунин с Нечаевым – твердили: вы должны быть с нами, как дочь своего отца. Но она-то знала: отец отказывался поддерживать Нечаева. Хорошо, она готова надписывать конверты, пакеты, бандероли, франкированные и нефранкированные, лавиной низвергаемые на Россию, просто диву даешься, откуда у Нечаева столько адресов. Хорошо, на это она согласна. Но вот же какая гадость, низость какая – и это! это! предложил ей однажды не беспардонный Нечаев, а Бакунин: большую пользу, сказал, может принести нашему делу красивая женщина. Она не поняла: какую? И Бакунин не постеснялся: а вот, говорит, оглянитесь, сколько мужчин-то богатых, кружите им головы и заставляйте давать деньги на революцию. Он не шутил, нисколько не шутил. Выходит, им мало иезуитов от революции, подавай-ка еще и куртизанок от революции?
Они возобновили «Колокол». Огарев уверял: продлись дни Герцена, он непременно отменил бы свой приговор и «двум старцам», и «мужественному юноше». Отменил бы? Быть может, быть может, но она, Тата, не намерена выставлять свое имя на листах этого, нынешнего «Колокола».
– Никогда! Ваш «Колокол» не имеет ничего общего с прежним. Никогда!