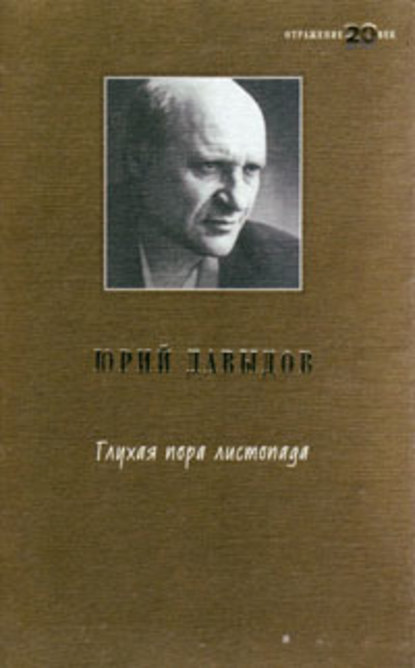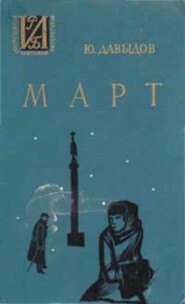По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Глухая пора листопада
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И смотритель Соколов-Ирод грохнул форточкой в камере Стародворского. Лопатин замер. Он боялся того, что сейчас должно было произойти, не могло не произойти.
Безмолвие Шлиссельбурга плющило душу. Казалось бы, каждый сторонний звук должен был нести облегчение. Но безмолвие Шлиссельбурга обладало таинственным свойством – сторонний, нестрашный звук (брякнет ли в коридоре печная заслонка, обронит ли жандарм полено) тотчас беспощадно и нестерпимо сотрясал узников. Их лица подергивались, они метались как от боли, они выходили из себя, впадая в бешенство.
И Соколов-Ирод знал об этом. Он любил, подкравшись, внезапно грохнуть дверной форточкой-кормушкой или задеть о дверь тяжелым ключом. Притом Соколов всегда безошибочно угадывал, кто из его подопечных сегодня особенно в «нерьвях».
То, чего боялся Лопатин, случилось. Стародворский бешено забарабанил в дверь кулаками и ногами: «Перестань! Перестань!» А форточка-кормушка грохала еще и еще. Ирод шипел: «Ты раздражаешься, ну и я раздражаюсь… Ты раздражаешься, ну и я раздражаюсь…»
И вот уж гремела вся тюрьма. Лопатина тоже подхватило вихрем. Он тоже кричал и колошматил железную гробовую черную несокрушимую дверь.
Утихло внезапно, как и началось. Немота Шлиссельбурга словно бы уплотнилась. Время текло беззвучно, как в песочных часах. Но сами часы-склянки оставались незримыми. И времени не было. Был шорох войлока по шероховатому камню. «И гад морских подводный ход».
Приказали:
– Двадцать седьмой, выходи!
Шлиссельбург населяли не люди-узники. В Шлиссельбурге содержались номера. Лопатин, двадцать седьмой, шагнул в коридор с чередою черных дверей, шагнул в сумрак, где означалась сетка, натянутая между этажами.
Двадцать седьмой увидел жандармов. Увидел Ирода: неизменная шинель с капюшоном, неизменная связка ключей. Связка ключей – эмблема власти, реальность власти, символ и орудие владыки Шлиссельбурга.
Двадцать седьмой шаркал ко?тами. Жандармы шуршали войлочными калошами, надетыми поверх сапог. Но ни войлок, ни коты, ни дыхание и сопение людей, идущих по коридору, а потом по лестнице, ничто не заглушало разнозвучный говор связки ключей.
Ирод играл ключами, шевелил, подбрасывал на ладони. Ключи отзывались по-разному, серией тембров, и двадцать седьмой знал, что эта серия тембров передает, как кодом, повеления Ирода жандармам.
Двадцать седьмой медленнее зашаркал у каземата, где метался номер тридцатый. Может, нынче тридцатому легче? Может, хоть ненадолго успокоился? Не мечется, не воет надрывно… И услышал надрывное, воющее: «Краса-а-а-ави-ца, доверься мне-е-е-е…» Двадцать седьмой сжал зубы: «С Конашевичем кончено». А ключи Ирода звякнули: «Прибавить рыси!» – и стражники подтолкнули двадцать седьмого. Опять звякнули ключи: «Будет! Хорошо!»
Ирод жил при тюрьме, но жил тюрьмою. Он исполнял обязанности не по обязанности. Суровая неукоснительность Ирода тяжко и мерно простиралась как на узников, так и на стражников. Не зная снисхождения к себе, он не знал снисхождения ни к кому. В отношениях с номерами у Ирода не возникало никаких сложностей. Все твердо, как на тверди, покоилось на несложностях: «Не твое дело»; «Не смей просить за других»; «Сиди смирно, никто тебе слова не скажет». Тут было начало, тут был и конец. Тут была определенность, замкнутая, как загоны-клетки, куда сейчас, за полдень, выводили еще не мертвых мертвецов Шлиссельбурга.
Крепостной двор был ярок. Он дарил блаженство пространства. Но лишь в первый миг. Глаз опять, как в каземате, упирался в камень, железо, засовы, в тупое, недвижное. Зато живой гул волны – в тюрьме он сливался с безмолвием, был частью безмолвия, – гул ладожских и невских волн приближался, терял слитность, лаская слух узников.
На вышке-каланче дежурили трое. В шесть глаз следили, как церемониально выводят на прогулку номер за номером. Впереди и позади жандармы, посередке – номер. И замыкающим – смотритель Соколов Матвей Ефимович.
Знакомый ему шеф жандармов говорил: «Я никогда и никому не доверял. И никогда не имел случая в том раскаяться». Смотритель Соколов Матвей Ефимович так не говорил, он так поступал. Никогда и никому. И этим, троим на вышке, тоже.
Широко расставив ноги, стоял он на каланче. Насупленный, зоркий, почти не мигающий. В ненастье и вёдро, под дождем иль снегом, в холод и жар смотритель смотрел за номерами и за теми, кто смотрел за номерами.
Номер одиннадцатый – хрупкая, в монашеском платке. Какая легкая поступь. Какая она… Какая она… Соколов-Ирод не знал, какая она, Вера Николаевна Фигнер. И все ж лишь перед нею, перед Фигнер, ощущал Ирод какое-то непонятное, тревожное смущение… А рядом, за высоким забором, был девятый. Ирод помнил, как девятого, Поливанова, привезли из Саратова в Алексеевский равелин… Справа – тридцать первый. За что и почему втиснули Караулова в склеп Шлиссельбурга? Ирод того не ведал и ведать не желал. Для тридцать первого держи наготове не только смирительную рубаху, но и сыромятные ремни: разбушуется богатырь, наломает дров… Соседом тридцать первому – восемнадцатый: Шебалин, бывший хозяин подпольной типографии, Михаил Шебалин, которого так любил навещать Сергей Петрович Дегаев… Все номера на виду у Ирода. Впрочем, нет, нынче не всех вывел он в прогулочные загоны. Стародворский учинил буйство? Получай согласно инструкции карцер. Конашевич, как с ума сошедший, лишается согласно инструкции свежего воздуха. А у других – цинга, а у других – чахотка…
Тень вышки-каланчи, тень шинели с капюшоном пересекала загон-клетку. Лопатин остановился. И внезапно сознал громадное. Не так, как прежде, во множестве черт и множестве признаков, подчас отвлеченных. Нет, не так. А разом и с грубой беспощадностью, хотя рядом с ним лежала всего лишь тень.
Аспидная тень – каланча, шинель, капюшон – тянулась далеко, через всю Россию. Не Соколов торчал на каланче, но Ирод, попирающий родину. Широко, прочно, столбами расставив ноги. Сейчас он молчал. Но и в молчании хрипел: «Не твое дело!», «Сиди смирно!», «Не смей думать, не смей говорить!» У Ирода – Инструкция. У Инструкции – Ирод. У Ирода, у Инструкции – Россия…
Все это мгновенно, громадно и ощутимо представилось Лопатину. Аспидная тень – вышка, шинель, капюшон – уже не была тенью. Но прислушайся… Ты слышишь, как гудят и плещут Ладога с Невою? Слушай! Услышишь такое, чего не дано подслушать иродам. И такое, пред чем не властны инструкции.
Москва – Ленинград – Сахалин
1966 – 1969
Поистине выстрадала… (послесловие)
Еще не было транзисторов. И потому было тихо.
Помню скромные дачи, грунтовую дорогу, небо яркой голубизны.
На дощатой платформе станции Валентиновка какой-нибудь приезжий осведомлялся: «Мальчик, как тут пройти к каторжанам?» Звучало обыденно, нестрашно: «Каторжане», «Поселок политкаторжан».
На просеке помню очень старую женщину в белой блузе, в темной, длинной, до пят, юбке. Почему-то я сразу признал в ней «главную каторжанку» и, прячась в кустах, смотрел, как она медленно идет об руку со спутницами, тоже уже очень пожилыми.
И странно: мне долго не хотелось узнавать, кто она, как ее звать и что она делала давно, когда еще не было СССР, а был царь. Наверное, боялся утратить ощущение тайны?
Но однажды я увидел, как она вышла из калитки – без зонта и косынки, седая, гладко причесанная, освещенная закатным солнцем. Увидел, дернул отца за рукав: «Ты знаешь эту старуху?»
Спросил негромко, но она тотчас живо обернулась, сверкнула глазами сердито и насмешливо и сердито-насмешливо бросила:
«Ка-акая я тебе старуха?!»
Я струсил. Отец смутился. Должно быть, Веру Николаевну никто не смел называть старухой, хотя в ту пору ей уже шел девятый десяток.
В Валентиновке до Великой Отечественной, школьником я слышал про «Народную волю», про члена Исполнительного комитета «Народной воли» Веру Николаевну Фигнер, сподвижницу Желябова и подругу Перовской, про казематы Петропавловки и карцеры Шлиссельбурга.
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось.
Потом, много лет спустя. И не внезапно, а постепенно, исподволь. И не только обликом Фигнер, освещенной закатным солнцем, не фотографической отчетливостью старых людей из подмосковного поселка, но как бы веянием нравственной чистоты.
* * *
Некогда к духовной красоте таких людей испытывал высокое и трогательное чувство молодой человек, возвращавшийся из сибирской ссылки.
На дворе был февраль девятисотого. Была Уфа: губернские канцелярии и лабазы, гимназии и колония «правонарушителей», Уфа торговцев, чиновников, мастеровых.
«От этой пары дней у меня осталось в памяти лишь посещение старой народоволки Четверговой… Владимир Ильич в первый же день пошел к ней, и какая-то особенная мягкость была у него в голосе и лице, когда он разговаривал с ней».
Навестил в первый же день, свидетельствует Крупская. Особенная мягкость в голосе и лице, замечает Крупская. А ведь он беседовал с одной из тех, с кем спорил решительно, без уступок. Отчего ж сердечность, деликатность, уважительность? Оттого, что видел одну из тех, в ком воплощалась суровая совестливость, безоглядность борьбы с гнетом, слияние своего «я» со скорбями России.
Ленин знавал многих, подобных Четверговой. Предшественники, они заблуждались и ошибались, но были честными воителями. И Ленин, тогда еще Ульянов, «впитывал от них революционные навыки, с интересом выслушивал и запоминал рассказы о приемах революционной борьбы, о методах конспирации, об условиях тюремного сидения, о сношениях оттуда; слушал рассказы о процессах народников и народовольцев», – пишет Анна Ильинична Ульянова-Елизарова.
Мемуаров Ленина нет. Однако в «Что делать?» есть абзац, который Крупская признает автобиографическим: «Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями террора. Отказ от обаятельного впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни стало хотели остаться верными «Народной воле» и которых молодые социал-демократы высоко уважали…»
Говорят, правда проста. Но добыть правду не просто. Легко судить, когда История уже рассудила. Жизнь не разбита на параграфы, как учебник. Хрестоматийность претила Ленину. Он написал, что марксизм «Россия поистине выстрадала».
В резкой подчеркнутости глагола – чувство личное и неличное, страстное и горькое, ибо путь выстрадали ценою «неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы».
Прочтешь ли такое на ровном дыхании? В предельной сжатости этих строк – тяжкие людские судьбы, тоска одиночек, напряжение и трепет живой, ищущей мысли, кандальный звон.
России революционной противостояла Россия монархическая. Мечту о человеческом братстве, о социализме карала она «Уложением о наказаниях». На штыке часовых горели полночные звезды. В сумраке реяли соглядатаи, пузыри провокации взбулькивали, как на болоте. Машина сыска работала бесшумно, неустанно.
России монархической противостояла Россия революционная. Народовольцы сражались, терпели поражения, истекали кровью. Осененные виселицей, писали: «Наше дело не может заглохнуть… А вообще пусть нас забывают, лишь бы само дело не заглохло».