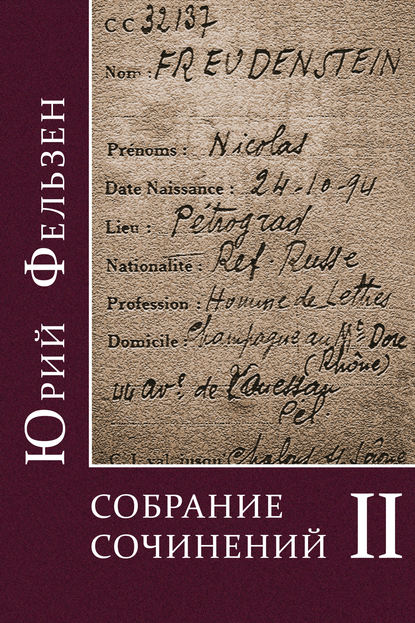По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Собрание сочинений. Том II
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Весной меня приятно взволновало анонимное любовное письмо (впрочем, написанное Люсиным почерком) – в неизвестных мне, гладких стихах заключался ряд признаний и упреков, чем я был, разумеется, польщен. Люсина лирика кончалась словами: «Если же слезы мои не подскажут тебе, покоряюсь тогда неизбежной судьбе, но звездою моей не останешься Ты, и увянет любовь, и увянут мечты», – и прозрачно-поучительным намеком: «Не откладывайте никогда на завтра того, что можете сделать сегодня». Единственное в Люсином письме, что слегка меня охладило, была дата – первое апреля – но, зная Люсю, я это объяснил самолюбивой ее осторожностью. На всякий случай я не ответил, да и к любви нисколько не стремился, довольствуясь своим торжеством и возможностью гордиться перед Тоней.
В то лето я попал за границу и, как ни странно, еще целый год не видел Тони, даже на улице, но чуть ли не каждое утро по дороге в гимназию встречал двух барышень, ее одноклассниц, мне косвенно о ней напоминавших: я не был с ними знаком, однако с нетерпением их ждал, словно далекое Тонино сияние частично и на них отражалось. За эти годы, за время разлуки, моя влюбленность как бы раскрылась и стала ощутительной в те дни, когда, переносясь в свое прошлое, я не мог себе Тоню представить и не сразу ее узнавал на фотографии, правда, ей льстившей и выпрошенной мною у Люси: очевидно, в этом возрасте любовь нуждается в помощи фантазии. Наступили выпускные экзамены – полусвобода, забегание к товарищам, прогулки по набережной, в Летнем саду, самонадеянный, ранний, взрослый задор – в своих чрезмерно книжных мечтах я как бы учился в Тонину честь (наподобие рыцарских подвигов) и всё острее, всё упрямее хотел, чтобы кто-нибудь ей передал о моих гимназических успехах, о волевых непрерывных усилиях, и чтобы Тоня это оценила: лишь позже, с годами, я понял, как для меня отвратителен труд, как вымучен всякий мой успех, насколько лучше мне при этом скрываться.
Мы переехали на лето в Павловск, и вскоре после экзаменов я как-то сидел на скамейке у вокзала – был долгий концертный антракт. В знаменитом когда-то кружке разгуливала громкая, пестрая толпа (именно летом такая, как на юге), и вдруг передо мной оказались Энни с матерью, Тоня и Алек – я сейчас же к ним подошел и, после первых расспросов и приветствий, очутился с Тоней вдвоем, по ее незаметному почину: мы оживленней, естественней, чем прежде, непринужденно с нею беседовали, и на веселую мою болтовню она отвечала милым вздором, то смеясь, то вздыхая о прошлом и блестя не очень белыми зубами (ей вместо сломанного вставили другой). Я поздравил Тоню с прической и с вероятным окончанием гимназии, она меня – со студенческой фуражкой. На мой вопрос о дальнейшем, о курсах, она шутливо, но твердо, заявила: «Нет, с меня довольно учиться – выйду замуж и буду хозяйкой, а до того нафлиртуюсь, сколько влезет». Затем я слушал с особым волнением пленительно-мрачные звуки тангейзеровской стройной увертюры, и для меня они связались навсегда с любовью, с молодостью, с Тоней. У меня осталось впечатление какой-то с ней чарующей легкости и возникла смутная догадка, что Алека она «разлюбила», что он несчастен и весь потускнел, стал некрасивым, черным, худым. Но я на этом не сумел задержаться и воспринял отношения формально – что Алек Тонин жених, а я отвергнутый, забытый поклонник (потом я верил своим интуициям, и они большей частью оправдывались). Полудетское мое воображение, разгоряченное встречей и музыкой и романтизмом столь «сложных» отношений, работало без устали всю ночь, а к утру у меня появилась упорная, страстная потребность хоть с кем-нибудь всем этим поделиться. Я выбрал Люсю, составил письмо, аккуратно его переписал – и чудом в одной из старых тетрадок у меня сохранился черновик, и за тогдашние глупые бредни я до сих пор способен покраснеть. Вот из него наивный отрывок: «Находясь в здравом уме и твердой памяти, я утверждаю, что Тоню не люблю, но что судьба меня столкнет и с нею и с Алеком, и я беспечно столкновения жду. Только ждать придется немало: Костровы на лето едут на Кавказ». Впоследствии при каждом любовном разрыве я точно так же что-то предсказывал («Сопьюсь… умру… отомщу…»), и никогда ничто не сбывалось. Люся в ответ писала о себе, о своих приключениях и новых знакомых – и ни слова о Тоне и об Алеке.
Мои первые, студенческие годы прошли беспорядочно и грубо – я тянулся за новыми своими друзьями, за донжуанской или пьяной их лихостью, вел цинические с ними разговоры, презирал «молодых идеалистов» (революционного, научного, любовного склада), но некоторым тайно завидовал, я кое-как готовился к экзаменам, ходил в рестораны и кафе, поздно ложился, поздно вставал – моя же истинная, внутренняя жизнь (то, о чем я стыдливо молчал) была иною, возвышенной и нежной: я много читал, всё с большей разборчивостью, ища душевно-питательных книг, овеянных конкретной поэзией, враждебно-чуждый всему отвлеченному, я верил и в собственные силы, не зная, как их применить, и по-детски желая «прославиться», я стремился кого-то осчастливить, кого-то бескорыстно и преданно любить – за отсутствием «другого» предмета, мои мечты сосредоточились на Тоне. Мне казалось, что я в нее влюблен, что ей полностью себя посвящу, что это надолго, пожалуй, навсегда, но я по-прежнему не думал, не хотел воплотить свое чувство в реальности. Я словно ждал какого-то чуда, какой-то внезапной перемены, ее признания, трогательных слез, но ничего для этого не делал, лишь изредка пытаясь с ней встретиться, поймать ее «случайно» на улице (там, где она обычно гуляла), боясь этих вымученных встреч и неловко их обрывая. И всё же каждая такая «случайность» (и каждая Тонина фраза) во мне оставляла длительный след и освещала, по-своему окрашивала внешне-бесцельное мое существование. Я даже сумел приспособиться к тому, что сам с собою считал – по признакам едва ли основательным – своими удачами или неудачами: если я от робости мямлил и у нас беседа не клеилась, Тоня мне представлялась «дурнушкой», неразвитой и слишком уж простенькой, каких на свете сколько угодно, если она меня, напротив, ободряла, вдохновляя на дружеский, милый разговор, от нее исходило сияние, которое во мне сохранялось – я наслаждался при ней ее присутствием, потом неделями о ней вспоминал, но большего добиться не пробовал, себе давая всё новые сроки, находя для откладывания всякие причины. Как многие тогдашние «мальчики», я сочинял подражательно-скверные стихи, от самолюбия их не показывал и потихоньку носил по редакциям, не понимая, что помимо дурного их качества без «протекции» их не возьмут. Но один бородатый, неопытный редактор захудалого журнальчика с громким названием принял всерьез какой-то мой «сонет» и обещал его напечатать, и вот я решил отложить окончательное с Тоней объяснение до начала «литературной карьеры». К сожалению, журнал прогорел и следующий номер не вышел, а других покровителей так и не нашлось – моя «карьера» на этом прекратилась, и я с Тоней опять не объяснился. Свои невозможные стихи я писал чуть ли не с самого детства и всё же поэтом не стал (не хватило словесно-музыкальной одаренности), но мой нелепый с Тоней роман освободил меня от подражаний, от модно-декадентских условностей, от пресных и ложно-возвышенных чувств и придал моим бледно-безобразным стихам подобие жизненной правдивости. Так наше летнее с Тоней прощание я через год или два описал, мне кажется, взволнованно и точно:
…Мы оба сидели вначале
На тумбочках, около дерна,
«Увидимся ль», – мне вы сказали,
Вздохнули лукаво-притворно…
Эта жизненно-честная правдивость, эти мои о Тоне признания, вероятно, мне и мешали показывать знакомым стихи – между тем я в критике нуждался и упустил лучшее время, когда чужие бесценные советы еще могли что-то поправить.
Потом наступила злосчастная война и ускорила те перемены, которые обычно происходят около нас, в двадцатилетием нашем возрасте: Энни с мужем (тем самым англичанином) навсегда уехала в Лондон, где он очутился переводчиком в каком-то русском военном учреждении, Люся вышла скоропалительно замуж за невзрачного армейского поручика, по-мужицки рябого и курносого, попавшего в плен под Варшавой (я был ему представлен на свадьбе как Люсин «единственный друг», и он мне в ответ пробурчал что-то неясное, но смутно неприязненное), Нина стала сестрой милосердия, Алек устроился в летучем санитарном отряде, часто бывал в Петербурге, в отпуску, похорошел в защитной шинели, но Тоня вскоре ему отказала и предпочла богатого купчика. Я с нею виделся всё реже, всё случайнее, и она как-то сверх меры щеголяла «наплевательским» своим безразличием ко всему, что тревожило других, своей эгоистической бодростью, весельем, уважением к деньгам. Я за это ее порицал, но, пожалуй, в показном ее эгоизме был вызов и даже надрыв – она могла бы сказать о себе: «Я рождена не для нытья, не для грусти, я хороша и так молода, а вы затеяли дурацкую войну и заставляете меня вам сочувствовать». Она попала в шумную среду разноплеменных военных подрядчиков, биржевиков, тыловых офицеров, пила, наряжалась, слушала цыган и не думала о «завтра», о расплате, как об этом не думал никто в беспечном ее окружении.
Всем на смену пришли большевики, и для меня эти страшные годы совпали с первой непризнанной любовью, с первой ревностью, с таким чередованием счастливых и горестных дней, которого я прежде не знал и которое властно заполнило все мои чувства, мысли и цели, так что «событий» я почти не замечал. Это мгновенно вытеснило Тоню, как когда-то ее появление убило мою детскую влюбленность, – в обоих случаях была соблюдена математически-точная пропорция переходов от меньшей к большей реальности, от мечтаний к жизненной конкретности. В последний раз в советском Петербурге мы нечаянно встретились с Тоней весной восемнадцатого года, как ни странно, снова на Вагнере, и никакие тангейзеровские звуки ее во мне не могли воскресить, что было бы победой над временем и чудом житейской композиции. Я говорил, словно с мертвыми, чужими людьми, с ее напуганным мужем и с нею и даже для себя не отметил, как от нее бесповоротно ушел, будто ее никогда и не любил. Она с увлечением рассказывала, что стала «торговкой», «мешочницей», что ездила успешно на юг и сколько при этом заработала: она, вероятно, усвоила практически-разумные черты своих недавних близких знакомых (или такой уже родилась), и я удивлялся тому, что ей приписывал бездну поэзии, что она и меня вдохновляла, но загадочно-темной, нелепой игре подобных внушений и воздействий я не раз поддавался и позже.
Я был недавно проездом в Берлине и за день до возвращения в Париж с компанией вечером сидел в полурусском, всем известном кабаке. Среди других моих собутыльников была та певица-иностранка, которую я всё еще люблю, с очередным богатым поклонником. Я терзался ревностью и завистью (он пригласил нас всех на кутеж и держал себя грубо по-хозяйски), я вспоминал, как за год перед тем «она» в меня внезапно влюбилась, как мне польстила эта любовь немолодой, но с именем, актрисы, как мы встречались каждое утро в самых трущобных парижских «бистро», как беззаботно пили и смеялись, с каким непонятным обожанием она подолгу смотрела на меня и, волнуясь, без конца переспрашивала, не надоела ли мне ее любовь и не из жалости ли я притворяюсь. Она не совсем ошибалась: из тщеславия, отчасти из жалости, я старался ее не оттолкнуть, к тому же был душевно свободен и – всегда разгоряченный вином – преувеличивал при ней свои чувства. Своим напором и жаждой ответности она легко во мне пробуждала голодную ласковую нежность – моложавая, каменно-красивая, на меня она особенно влияла своим грудным голосом, низкопевучим даже в разговоре. Я проводил все ночи у нее и поражался ее восхитительной интимности, ее послушной и требовательной власти, ее спокойному со мною бесстыдству. Она во мне искала серьезности, лояльности, надежной доброты, какой, вероятно, не бывает в ее корыстном, избалованном кругу. Я постепенно втянулся в игру, привык к нашей ровной колее, к постоянным высоким оценкам любых моих суждений и слов, к ежеминутным признательным улыбкам, к почти болезненной покорности во всем, я незаметно к ней привязался и, когда ей первый надоел однообразной бедностью и скромностью, когда она мне «честно» сказала, что больше мы встречаться не должны, вот тогда, как во всех психологических романах, я впервые ее полюбил. Она уехала вскоре в Берлин, и теперь, за эту неделю, униженный, жалко подавленный ее забывчиво-вежливой холодностью, я считал наше прошлое «счастьем» и сравнивал с ним настоящее. В тот вечер я изнемогал от молчаливой, нарастающей горечи и боли, от неизбежной завтрашней разлуки, оттого, что без всякой борьбы я уступаю место другому, который с ней останется и «завтра» (он, впрочем, давно победил и был со мной пренебрежительно рассеян). В этом печальном, безутешном состоянии, не имея опоры ни в чем (ни в деньгах, ни в каком-либо житейском успехе, ни в «ее» хотя бы дружеской верности), я подумал о «моральной поддержке», о немногих моих прежних возлюбленных – если б одна из них появилась, мне, без сомнения, стало бы легче: правда, с каждой из них уже бывали такие же точно положения, и у меня возникали такие же мечты, но каждый раз я об этом не помнил и стремился к нелепому «реваншу». Я смотрел на высокие стены, расписанные старым московским художником, стилизующим былинные сюжеты, на выхоленных, русых, «лихих» богатырей в остроконечных касках и с копьями, на царевен в остроносых сапожках, и старался царевнам придать чьи-либо «милые», знакомые черты. Внезапно мне из бара закивала кудрявая, тоненькая, стройная блондинка с накрашенным, помятым лицом – я узнал «беззубую Эрну», изящную русскую немочку, участницу давних моих кутежей, в те пьяные берлинские годы со мной почему-то дружившую. Я запросто к ней заходил, она нюхала при мне кокаин, а меня угощала шампанским, которое ей аккуратно посылал поклонник, уехавший в Париж. Мы танцевали на пожарных балах, кутили в дорогих ресторанах и говорили о смерти, о любви, без малейшего намека на флирт: в ней была удивительная смесь сентиментальности, беспечности, нежности, цинизма – ей дали ужасное прозвище из-за черных отвратительных зубов, которых умышленно она не лечила, выпрашивая деньги на лечение у своих очередных покровителей (называвшихся всегда «женихами»). Ко мне эта странная «беззубая Эрна» – из-за мужской моей бескорыстности и нашего дружеского равенства – относилась истерически-нежно, как относились в институтах к «лучшей подруге», меня ревнуя, как именно подругу, к своим легкомысленным приятельницам, и, словно девочка, плакала навзрыд, когда я уезжал из Берлина и должен был с нею расстаться. Сейчас она смеялась от радости, и я стремительно к ней подошел, пытаясь себя убедить, что в ней непременно найду столь мне нужную «моральную поддержку». Мы оба деликатно скрывали, что считаем друг друга постаревшими, Эрна мне наспех рассказала о себе, о последнем своем женихе, с которым свадьба состоится на днях (на этот раз «решено бесповоротно»), огорчилась, узнав про мой отъезд, записала берлинский мой адрес и обещала мне утром позвонить. Она была какой-то трогательно-милой и смущенно, с выражением преданности, мне благодарно смотрела в глаза, не выпуская сухой моей руки из своей, горячей и дрожащей. Сидя с ней на высоком табурете у бара, я увидал развязную компанию, подошедшую к нашему столу, трех мужчин и полную даму, мне улыбнувшуюся издали, – Тоню. Расцеловавшись на прощание с Эрной, я вернулся на прежнее место и оказался Тониным соседом.
Я всю ее вмиг разглядел глазами взрослого, чужого человека – она действительно слегка располнела, как-то раздвинулась в талии, в боках, однако лицом почти не изменилась и только перестала быть красивой (почему, я не мог уловить – у нее сохранились те же краски и те же правильные, мелкие черты). В разговоре она мне представилась такой же ровной, приветливой, как раньше, и такой же ускользающе-неясной, словно всё то, что с ней произошло – замужество, богатство, заграница– и всё, что, по моим предположениям, могло заполнять ее жизнь, вечная смена любовных приключений, утомительно-пьяные ночные кутежи, словно всё это ее не коснулось и на нее ничуть не повлияло. Повинуясь своим ожиданиям, я теперь окончательно поверил, что в ней моя опора и поддержка, и с какой-то искусственной бодростью ей начал рассказывать о прошлом (о нашем старом безоблачном прошлом, баснословно-далеком и чуждом моим последним грубым мучениям):
– Я в вас когда-то был ужасно влюблен.
И я подробно Тоне передал, как смущенно робел в ее присутствии, как не решился ей поднести для нее приготовленные розы, как потом не мог их купить, как Алек меня устранил и как я скрывал свою любовь – она слушала, видимо, польщенная, но своего отношения не выразила, а затем мне вкратце сообщила немногие домашние новости: родители при ней, у мужа «бюро», Алек умер в России от чахотки, Энни с супругом по-прежнему в Лондоне («но он неделовой человек»). Ей захотелось причислить и меня к какой-нибудь деловой категории, и она между прочим спросила, зачем я приехал в Берлин, в каком остановился отеле, и незаметно осмотрела мой костюм. Под конец она с улыбкой добавила:
– Да, мы с вами старинные знакомые и, кажется, были ровесники. Не забудьте, мне тридцать два года.
На следующее утро, перед самым моим отъездом, мне были присланы – без карточки, без имени – грушевидные махровые розы, и с ними я уехал в Париж. Я знал, что розы от Эрны, и оценил ее милое внимание, даже то, что ради меня ей пришлось непривычно рано встать. Но в своих разговорах с приятелями я – сам с собою явно хитря, драматизируя, как-то интересничая – старался внушить себе и другим, что эти розы подарены мне Тоней, что они – запоздалый ответ на мои, ей никогда не поднесенные, что так эффектно и стройно закончилась наша с ней давнишняя история. У меня, как это часто бывает, получился, от многих повторений, готовый рассказ с готовыми словами, до отвращения мне надоевший, один из тех, которые для нас механизируют что-то из прошлого и что-то из него вытесняют: мы к ним от лени постоянно возвращаемся и поневоле забываем остальное. Этот готовый устный рассказ всё время мешал мне писать (как мешала и моя поглощенность теперешней любовной неудачей). Среди других выигрышных фраз, неизменно в нем выступающих, мне самому приятно подчеркивать одну – о прощальном берлинском кутеже: «Итак, со мною рядом очутилась моя последняя и первая любовь». Разумеется, это передержка: Тоня была не первой любовью, да и едва ли была настоящей (как и детская влюбленность до нее). Но когда я так говорю и утверждаю, что розы от Тони, я подчиняюсь внутренней потребности в какой-то схеме, в биографической стройности, в каких-то расплатах и наградах, в необходимости каких-то завершений, без чего мы слишком свободны и погружаемся в анархию и в хаос. И вот, наперекор очевидности и всем нашим азбучным понятиям, мне кажется, только в искусстве (где мы сильнее, бесстрашнее, чем в жизни, по крайней мере душевно и творчески) мы можем себя преодолеть, избавиться от нужных нам условностей и стать безгранично свободными, какими были бы и в жизни, если бы ею не хотели управлять и слегка бы ее не сочиняли.
Перемены
Я уже неделю нахожусь в русской клинике, недавно открывшейся, пока еще светлой и чистой, где перенес нелегкую операцию (запущенный гнойный аппендицит) и где начинаю медленно поправляться. К постели привинчен маленький пюпитр, с почти отвесною спинкой (что удобно также и для чтения – при моей теперешней слабости действительно «валятся книги из рук»), и я, кое-как приспособившись, неуклюже пишу карандашом. Это было возможно и раньше (у меня всё та же потребность писать), но только сегодня увезли моего единственного сожителя по комнате, а мне беспрерывно мешало его присутствие, хотя бы молчаливое. Я весь погружен в больничную обстановку, не без труда и не сразу освоился (зато надежно и прочно – как со всяким устоявшимся бытом) с навязанными извне собеседниками – докторами, сиделками, сестрами – и мир свободных передвижений, произвольного выбора мест, очередных занятий и друзей, мир улиц, кафе, ресторанов, прогулок, неба и погоды отодвинулся куда-то далеко. Мне иногда освежительно-приятно, что нет постоянной обязанности изворачиваться, о чем-то заботиться, что поневоле на время отложены огрубляющие деловые усилия, мне здесь, как и повсюду, нескучно: неизменная сладкая внутренняя дрожь – то непосредственно, то смутно-отраженно – заполняет и эти часы, несмотря на их видимое однообразие, чудесно меня избавляя от апатического ко всему равнодушия или от приступов глухого нетерпения. Вспоминаю, как я сюда попал, как подчинился здешним порядкам, внезапно ставшим властной реальностью, как незаметно вытеснялась предыдущая, вспоминаю мучительные дни на свободе и удивляюсь нашей восприимчивости, тому, что рано или поздно мы привыкаем к любым жизненным условиям и порой еще умудряемся свое, основное, в них сохранить.
Перед моей операцией и болезнью Леля уехала с Павликом на юг, и сперва я свое нездоровье объяснял чрезмерным, понятным огорчением из-за ее скоропалительно решенной и нескрываемо радостной поездки. Теперь я честно сознаю, что себя наполовину обманывал и сам непременно хотел насильственно с Лелей расстаться, избавиться от длительной ревности, от ежедневных мелких уколов, которые у меня появлялись непрестанно, из-за тысячи поводов, как я безропотно-твердо ни мирился с окончательным Лелиным уходом.
Еще при ней меня поразило неожиданное отвращение к еде: каждый проглоченный мною кусок, полстакана воды или вина вызывали неудержимую тошноту, припадки рвотного, желчного кашля, с отдачей в натянутых стенках живота. Как ни странно, боль ощущалась не там, где надо – в правом боку – а почти посередине и ниже. Именно это и ввело в заблуждение милейшего молодого врача, к которому я тогда обратился после вынужденной пятидневной голодовки – он дважды прописал мне слабительное, что оказалось убийственно-вредным, однако ничуть не уменьшило моего обычного к медицине доверия: как и всякая наука о людях, она лишь приблизительно точна, и я, став «жертвой ошибки», одним из неизбежных исключений, пытался в себе подавить эгоистически-несправедливую досаду. Я и сам наивно поставил нелепый диагноз – язва желудка (в котором была какая-то тяжесть, словно присутствовало что-то постороннее) – но меня и это не пугало; я покорился усталому, слепому равнодушию, считая (без малейшей рисовки), будто незачем жить и не стоит бороться, и проще, положившись на судьбу, не загадывать, не думать о последствиях. Мне даже боль представлялась выносимой (и только надоедливо-противной), хотя моя соседка по отелю – сочувствуя – жаловалась прислуге, что я целыми ночами стонал (бессознательно – должно быть, во сне). Леля говорила «о нервах» и сомнительно меня утешала: «Вот увидите, мы с Павликом уедем, всё забудется, и сразу вы окрепнете». На вокзале я старался не упасть, облокотившись о столб и гримасничая, и Рита повела меня к себе в ресторан, чтобы не оставить одного без присмотру (кроме нас никто не провожал – Шура не мог отлучиться и «бросить дело к чертям», а Петрик давно уже гостит у лондонского своего мецената). В ресторане я сидел, обессиленный, боясь, что любое движение мгновенно меня приведет к неминуемо позорной развязке и всё же сознавая необходимость поскорее отправиться домой. Наконец, решив, что мне легче и надо этим воспользоваться, я – вопреки советам хозяев и собственному трезвому благоразумию – поспешно вышел на улицу, где сейчас же мне прервала дыхание неумолимо-резкая струя сырого, колючего ветра – была худосочная парижская зима. Я стремительно кинулся обратно и лег на диван у стены, по-прежнему боясь шевельнуться, изнемогая от головокружения и тошноты, и от боли, их вызывавшей, теперь невыносимо-жестокой. И эти, и другие ощущения – предвиденье близкого удушья, страх того, как будет перед всеми и что именно случится со мной, отвратительная предобморочная тоска – нарастая, смешивались в одно. Не помню яркого, путано-долгого, затейливо-пестрого сна (как выяснилось позже, по рассказам, продолжавшегося не более минуты) – из мелькающей этой пестроты навязчиво стала выделяться смутно-знакомая женская фигура, волшебно превратившаяся в Риту (но суженно-призрачную, будто в проекции), а рядом с ней (и почему-то вдалеке) успокоительно улыбался мне Шура. Поймав мой пристальный взгляд, Рита умышленно-громко сказала: «Слава Богу, всё хорошо», – однако я в ее словах уловил оттенок тревожной неуверенности и тогда лишь начал соображать, что был обморок, похожий на сон, что, пожалуй, так и умирают, что не проснуться до ужаса легко. Ко мне вернулись боль и тошнота и прежнее опасение удушья, и казалось, от жеста, от фразы, от незначительного поворота головы, оттого, что на секунду нарушится физическое или душевное равновесие, я опять «туда» провалюсь, и у меня инстинктивно возобновилась упорная с этим борьба. Не надеясь на помощь извне и странно полагаясь на себя, я с вялым любопытством смотрел, как усердно, склонившись надо мной, Рита мягко растирала мне пальцы – бумажного цвета и ломкости, по тогдашним моим впечатлениям – и насмешливо, лениво отмечал ее и Шурины повторные вопросы («Признайтесь, вам все-таки лучше»); своим благоприятным ответом я их избавил бы от скучной обязанности, чего им обоим явно хотелось. Публика в зале, театрально взбудораженная, столпилась около нас, и я тихонько Шуру попросил меня увести, через кухню, в прохладный темный погребок, где после рвоты, возникшей от ходьбы и облегчающе-длительно-сладостной, я и на самом деле вдруг ожил, с особой эпикурейской остротой вспоминая недавнее свое состояние (как вспоминают избегнутую опасность), удобно сидя на твердом табурете и опираясь о влажную стену. Даже чувство брезгливости прошло от горячей воды и одеколона, и я, продолжая блаженствовать, неискренно заговорил «о стыде, о напрасно причиненном беспокойстве», но Шура, с обычным у него повышенным сознанием долга, победив естественную досаду и не слушая моих объяснений, поднялся наверх за врачом: как бывает в газетных происшествиях, среди ресторанных посетителей оказался известный хирург – он немедленно спустился ко мне и, пощупав мой вздувшийся, каменный живот, сейчас же распорядился по телефону, чтобы в клинике (в которой я сегодня лежу) приготовили всё необходимое для срочной и сложной операции.
Этот хирург, высокий, худой, московская былая знаменитость из немецкой не обрусевшей семьи, голубоглазый, лысый и сутулый, со свисшими «по-казачьи» усами, седеющими и жестко-густыми, и с округленно-певучими фразами, меня как бы решил завоевать, чередуя свои интонации, переходя с одних на другие, с милых и добрых на властные и резкие, но я нелегко поддаюсь (даже если хочу поддаваться) искусственному шарму и внушению, тем более казенно-профессиональному, и сперва мне казалось невозможным приспособиться к чужому человеку, ему послушно во всем помогать, объединяя наши усилия – и волевые, и мускульно-телесные – лишь оттого, что он доктор, специалист и мой союзник в борьбе за здоровье. Конечно, у него позади заслуженно-громкая слава, постепенно здесь выдыхающаяся, как у всех в этом беженском подполье, ему приписывают суровое упрямство, бесстрашие, умение рисковать, без которого не бывает и выигрыша, он может распущенно-трусливых людей подтянуть безжалостной насмешкой (иногда, по рассеянности, в гневе, и на родном своем языке – так, перевязывая сломанный палец, он внушительно кому-то заявил: «Das ist auch keine Schokolade»), и больных у него подкупает неожиданная после упреков, горячая и мягкая заботливость, но меня покорило не это, а исцеляюще-сухое прикосновение его не по росту маленьких рук, бархатно-ласковых, умных и строгих. Тогда и мне захотелось непременно его покорить, и этим отчасти объясняется моя неподдельная стойкая бодрость, до глупости беспечное любопытство, наивно к нему обращенное, ему создавшее тот нужный «ореол», которого он и добивался, от которого зависит победа и, значит, мое выздоровление: вот почему я безбоязненно-спокоен и лежу, принимая как должное, невыносимо-противные мелкие неприятности, с одним заглушенным желанием, чтобы всё поскорее пронеслось и чтоб я мог уже гордиться прошедшим. За такое «отсутствие капризов» и будто бы «редкую выдержку» меня преувеличенно хвалят, в особенности наш санитар, неприветливо-мрачный и скупой на похвалы (в легендарно-далекие «белые» времена поручик, обойденный производством, и с тех пор безнадежный мизантроп), он одобрительно мне улыбается, но эти отзывы, улыбки и успех, и вся моя убогая выдержка – не достижение, не признак превосходства, не результат усилий и борьбы: я просто знаю, что жалкое нытье не избавит меня от болезни и что нельзя излишними хлопотами обременять усталых людей, а главное, могу не волноваться, предвидя благополучный исход. Однако чужое одобрение мне страстно хочется до Лели довести, чтобы она меня хоть «там» оценила, сравнив свой блаженный покой с моей неукоснительной смелостью и с тяжестью моих «испытаний» – в этом стремлении как-то использовать пустые, несуществующие заслуги, вероятно, сказались и поздняя детскость, и тайная, мне свойственная расчетливость.
В ту первую ночь в операционной были все, кому быть полагалось, как бы маленький медицинский отряд – мой хирург, две сестры и санитар, и высокая докторша-ассистентка, надменно-красивая и яркая (или такой она мне представилась) – и незаметно, ради нее, захотел себя проявить, выполняя с подчеркнутой готовностью последние, наспех, распоряжения врачей. Когда налагали эфирную маску, я вызывающе-весело предложил оставить мне свободными руки, обещая «не драться и не скандалить», и свое обещание действительно сдержал. Вначале я немного испугался, решив, будто опять задыхаюсь и вот-вот совсем задохнусь, но сейчас же себя уговорил не думать и подчиниться неизбежному, потом заколотилось, как пьяное, разбухшее гулкое сердце, что-то стучало около глаз, точно свистел пролетающий ветер, голоса становились всё глуше, я медленно падал в темную пропасть и – уже неспособный бояться – наконец издалека услыхал деловито-спокойные слова:
– Кажется, пора приступать.
В ответ из той же дали раздался мой собственный голос, удививший меня самого:
– Нет, пока еще рано…
И братское, нежно-снисходительное:
– Слышу, милый, слышу.
Пробуждение еле запомнилось: в полутьме торопливые сестры и доктора, мелькающие, куда-то исчезающие, тошнотворная слабость и тяжесть, громоздкая, неудобная повязка, раздирающая боль в животе при кашле, при всяком движении – и ни единой сознательной мысли. Мне, видимо, было нехорошо: операция несколько запоздала, уже начинался перитонит, и рану зашили не без риска, промыв желудок эфиром, с тем, чтобы снова, если понадобится, ее надолго открыть и тампонами вытянуть оставшийся гной. Но к этому прибегнуть не пришлось, и моя подозрительная слабость оказалась последствием утомления, с каждым днем я крепну, боль уменьшается, и появились крохотные радости: первая ложка воды, горячий бульон, посетители – Рита и Шура. Так создалось теперешнее состояние – оторванности от прежнего мира и любопытства ко всему окружающему: я вовлекся в неясный, мне чуждый обиход и поглощен рассказами и сплетнями – о неудачах бедного хирурга (ему как-то странно «не везет», несмотря на одаренность и упорство), о скверных делах «нашей клиники», о том, что угрюмому санитару изменяет жена с американцем (и это его доконало), что мой сосед – неисправимый морфинист. Он по пятнадцать, по двадцать раз в сутки – на улице, в автобусе, в метро – прокалывая костюм и белье, себе впрыскивал очередную дозу морфия, у него от грязи возникли нарывы, и здесь, после того как их вскрыли, после всяких лекарств и внушений, его считали окончательно здоровым и наши сестры хвалились результатами («надо браться за дело с умом»), но сегодня, когда он отсюда уехал, обнаружился ловкий обман: сконфуженная старшая сестра нашла «инструменты» в постели, между верхним и нижним матрасом, чего даже я не заметил, проведя с ним вместе несколько дней, всё это – и клиника, и морфий и сложные чужие отношения – меня привычно и близко задевает, и я не верю, что скоро восстановится полузабытая прежняя вольная жизнь, с ее простыми и страшными случайностями и с ожиданием вечных перемен.
Она опять безмерно отдалилась – у меня воспаление в легком – и новая, здешняя реальность всё наглядней вытесняет предыдущую. Ко мне вернулось печальное сознание нелепой своей неподвижности, физической тяжести, почти окаменелости, и в то же время уносчивости, непрочности, хотя одно противоречит другому: я отчетливо себе представляю, как без борьбы распадется, развеется мое исхудавшее тело, но сейчас оно приковано к месту и тем доступнее для гибельных сил, которые – извне или внутри – его таинственно и слепо разрушают. Я всегда был одинаково далек от того, чтобы собой любоваться, и от брезгливого к себе отвращения и – похожий на стольких мужчин (кроме «эстетов», спортсменов и чувственников) – не замечаю собственного тела, пока не напомнят о нем болезни, опасности и страсти, причем эти жестокие поводы, казалось бы, друг друга исключающие, нередко у меня совпадают: так, например, в больничной обстановке я своим телом невольно поглощен, я к нему как бы вплотную приблизился, из-за всей над ним постоянной и осязательно-грубой возни, из-за всех неизбежных его оголений, и это неожиданно во мне вызывает похотливую горячую возбужденность, конечно, бесцельную и бездеятельную, направленную смутно и робко – за неимением лучшего выбора – на миловидную операционную сестру (очаровательная докторша не в счет – она уж слишком надменно-недоступна). Мы выбираем столь же случайно, мы ошибаемся, неправильно оцениваем и в условиях большей свободы – в зрительном зале, в трамвае, в гостях – если рядом с понравившейся нам женщиной нет другой, милее и моложе, как ошибаемся решительно во всем (и в основном, и в любых мелочах, хотя бы в определении роста), при невозможности с кем-либо сравнивать еще неизвестного нам человека, и порой, увлекаясь своим выбором, забываем о его произвольности.
Когда воспаление обнаружилось, мне было достаточно скверно – теперь опасность, кажется, прошла, я дышу ровнее, свободнее, постепенно уменьшились колоти в боку, и моя полуздоровая природа, ничем не занятое живое воображение усиливают чувственную горячку. Да и вообще в эти странные недели я поддаюсь различным восприятиям, особенно кожным и внешним, которых прежде, разумеется, не знал: так ежедневно приходит ко мне, для выслушиванья, выстукиванья легких, старенький, сгорбленный московский профессор, как и хирург, былая знаменитость, и я доверчиво сразу успокаиваюсь, едва ощущаю у груди седую мягкую бороду и теплое ухо, а по ночам спокойствие теряется из-за таких же мимолетных ощущений – меня преувеличенно пугают проезжающие на улице грузовики, и шум дождя угнетающе растет от шелеста шин и от жужжания автомобилей. Как-то заметным становится всё, что связано со сном и засыпанием – сновидения, дремота, полусны – все, что раньше (от поглощенности действенной жизнью) отметалось и грубо забывалось. Сама по себе эта вечная неподвижность естественно располагает ко сну – при легкой, быстрой моей утомляемости и раз ненужно сопротивляться и бодрствовать – и вот граница, переходные состояния возникают сравнительно часто, и наблюдаются без малейшей помехи. Иногда не успеваешь уловить, как что-то мелькает в темной пустоте, что, однако, не сгущается в сон, иногда же наступление долгого сна воспринимается отчетливо и точно. Бывают и удивительные случаи – так, недавно, лишь только я уснул, неожиданный телефонный звонок прервал и довел до сознания начало какого-то сна, разбив его на кусочки, на множество зрительных и звуковых представлений, объединенных чем-то мне близким, чем-то неясно-волнующе-женственным, смутною нежностью, которую нарушали трезвящие, громкие, досадные голоса (среди них, быть может, и мой), разговоры о картах, о делах, но меня поразило не это, а то, что сон продолжался наяву: он тянулся, медленно скользил по намеченно-легкому пути, по своим невидимым рельсам, словно поезд вдали, на краю горизонта – и вдруг неумолимо исчез. Подобная сладкая нежность и живые знакомые голоса, врывающиеся в наше пробуждение, нередко нам кажутся реальностью, потом галлюцинацией и бредом, и не всегда для нас обнаруживается неподдельное их существо – что они как бы отзвуки сна, загадочно-страшное отражение неизвестного и чуждого нам мира. Бывает у меня и обратное – что в этот ночной таинственный мир врывается непосредственная реальность, что я во сне озабочен собой, своей любовной и творческой одержимостью, и слишком быстро пытаюсь разрешить неразрешимые дневные вопросы, с той безрассудной нелепой самонадеянностью, какая рождается и в пьяные минуты. Порой я предчувствую и тороплю пробуждение – спасаясь бегством от опасного противника, не в силах бороться с жестокими препятствиями, которых обычно встретить нельзя – но я не верю волшебному смыслу, потустороннему истолкованию снов: для меня, вопреки их навязчивости, они не ответ на наши догадки, не вторая и подлинная жизнь, у них иное назначение и цель – обновлять воспоминания, поэзию прошлого, в неуправляемой последней человеческой глубине, придавая этим воспоминаниям оттенок особой убедительности, особой трепещущей злободневности, так что внезапно ими побеждается неизбежная скука прижизненных смертей, то, чего я предельно боюсь. Привожу наглядный пример – мне как-то снилась Леля в кафе, сперва с обворожительной улыбкой, затем рассеянно-холодно-чужая и нетерпеливо кого-то ожидающая, кто воплотился, разумеется, в Павлика и уже был рядом со мной, и тогда мягко-точеные Лелины черты, расплываясь в сонном тумане, постепенно стали тускнеть и превратились в едва различимое пятно, однако, проснувшись, я сохранил очарование, свежесть, остроту ее незабываемого присутствия, хотя и не мог бы воскресить ее лицо, выражение глаз, ее сияющую ангельскую кожу. Правда, и днем, и наяву мне изменяет зрительная память, но совсем не внешние мелочи, не формальная их безошибочность нужны для оживления прошлого – оно само приблизится к нам, мгновенно оттеснив настоящее, если какой-либо внутренний толчок (пускай навеянный внешними причинами) взбудоражит и вызовет в нас необъятную, щедрую, страстную полноту всего, что кажется мертвым, что в летаргии до чьих-то заклинаний (спящая красавица в стеклянном гробу), и такая душевная, магическая память, такие вдохновляющие сны воссоздают утерянное единство и помогают нам разобраться в основном – в судьбе и в любви: ведь и любовь, раскрывающая нашу судьбу, становится с годами неузнаваемой – беспредметной и как бы отвлеченной – и в нас надолго ее пробуждают ее же тайная прелесть и выстраданность, а не соседство или образ возлюбленной, и для меня тот неясно-мучительный сон, напомнивший о счастье и о ревности, оказался почти неотразимым – он перенес в упорядоченный здешний уклад всю мою прежнюю безрадостную яркость, всю ненапрасную, предтворческую боль, и внушил мне потребность возобновить эти давнишние, трудные записи.
Они даются труднее, чем раньше – от неудобной моей позы, от слабости, оттого что я невольно отвык напряженно и много писать – и перечитывая последние страницы, я, удивленный, в них нахожу непрерывное отражение болезни и ею вызванных бессчетных перемен: и новая, поглотившая меня обстановка, и чрезмерное внимание ко внешнему, и странно оживающие сны мне представляются просто чудесами, неизбежными именно в болезни (когда всё ошеломительно меняется), и одного только чуда не произошло – наиболее отрадного и нужного – это внезапного Лелиного приезда. Для меня ее обидное отсутствие похоже иногда на дезертирство, хотя она и ни в чем не виновата: я сам настойчиво Риту прошу по возможности Лелю не пугать и аккуратно ей посылаю беспечно-веселые открытки и письма. Зато меня навестил (как бы завершая «серию чудес») мой гимназический товарищ Лаврентьев. Ему сообщили адрес отеля (не знаю, кто – он предельно осторожен), а из отеля направили сюда. Его я помню с четвертого класса – великовозрастным, ленивым второгодником – потом кое-как, на подсказках, на хитростях, на вечном «три с минусом», он перешел через все испытания, осилил выпускные экзамены и со мною попал в университет. Лаврентьев считался «дон-жуаном» и «красавцем» – у него отличная фигура (высокий рост, широкие плечи, узкая талия, длинные ноги, всё, пожалуй, даже преувеличенное, так что пропорции едва соблюдены) и овально-круглое, худое лицо, с тонкими, правильными, чуть мелкими чертами, с героическим шрамом на морщинистом лбу (неудачное падение на катке, что явилось когда-то событием) и с умышленной игрою серых глаз, то сияющих, то нежно-задумчивых, то выразительно-милых и теплых. Он первый «лишился невинности», первый завел «адюльтерный роман» (и с печалью, возбуждавшей нашу зависть, говорил, что «порывает долгую связь»), он был единственный в жизни, в реальности, вне гимназической вялой суеты, и студентом уже зарабатывал – не от каких-либо нищенских уроков, а помогая в деле отцу, разбогатевшему костромскому подрядчику. Он порой нам глухо рассказывал и о своих революционных знакомствах, но доверия в нас не возбуждал: мы знали обычную его осторожность и давно между собой решили, что он «пустой, неинтересный и средний», и романтический его ореол давно и безнадежно поблек. Я запомнил в начале войны экзамен по римскому праву, необходимый для третьего курса (и для отсрочки по воинской повинности), непонятно-трусливые жалобы Лаврентьева («Если не выдержу, то прямо в окопы»), свою настойчивую, действенную помощь, безмерную гордость, что он не провалился, и его бурно-веселую признательность. Затем он всё же был призван и, окончив пехотное училище, устроился где-то в провинции – адъютантом запасного полка – но свое благополучие объяснял слишком надуманно, возвышенно и сложно: «Мы должны для России, для будущего, сохранить интеллигентские кадры». В последний раз я случайно с ним встретился в Петербурге, в семнадцатом году, в беспросветные, мрачные ноябрьские дни – Лаврентьев неохотно намекал на старые большевистские связи и на свои усилия в Смольном кого-то с кем-то помирить (что нисколько меня не удивило – он с детства улаживал ссоры, умел разнимать драчунов и, без сомнения, честно заслужил полушутливое прозвище «миротворца»). О его дальнейшей карьере, военно-советской, неслыханно быстрой, достаточно известно из газет – вероятно, ему помогло это же свойство со всеми быть в ладу, уклоняться от участия в борьбе, выжидая ее результатов, с тем, чтобы вовремя противников мирить. Мне Лаврентьев теперь показался необычайно моложавым, гибко-стройным, лишь поседевшим и более морщинистым – он явился сюда оживленный и какой-то с воздуха свежий, в темно-синем безупречном костюме, и у него за словами угадывалось завидное спокойствие человека, себя считающего полезным и на месте, упоенного длительным везением и «кипучей» непрерывною деятельностью (он и сейчас военный эксперт на ответственно-важной конференции и только проездом в Париже). Мы непритворно, без малейшей отчужденности, друг другу мгновенно обрадовались, и у каждого из нас пробудилось любопытство к миру собеседника, таинственно-враждебному, волнующе-новому, и знакомые руки Лаврентьева, столь непохожие на весь его облик – большие, сильные, жесткие, с широкими крепкими ногтями, обведенными снизу белой каймой – меня вернули к давнишнему ощущению благожелательной его теплоты, нашей привычной товарищеской близости: это, быть может, также произошло из-за моей счастливой способности не поддаваться годам разлуки и нечаянно влиять на других (что не раз уже подтверждалось и в моих отношениях с Лелей), но была и неоспоримая поддержка Лаврентьева. Мы сперва говорили «нейтрально» – о гимназии, о семейных делах – и у обоих неожиданно возникло то взаимное тяготение вчерашних соперников, очутившихся рядом за бутылкою вина, то прощающее пьяное великодушие, в котором есть оттенок влюбленности и которое, подобно любви, пускай на время, в нас что-то меняет. Так, незаметно забылись, исчезли – от одного присутствия Лаврентьева – все мои доводы против большевиков, всё к ним презрение и мстительный гнев, как исчезает всякая ненависть от наивно-сочувственной улыбки ожесточенного нашего врага, словно мы лучше, добрее, чем думаем. Разговор перешел на политику, и мы упорно оба отстаивали каждый несложную свою правоту, но каждый старался другого понять и щегольнуть «европейской терпимостью» («Видишь, мы вовсе не ослепленные фанатики»), и я невольно с этим сравнил наши у Лели грубые споры – в тогдашних моих возражениях Петрику была, несомненно, и личная задетость, чему неумышленно способствовал Павлик и без чего мы легко договорились с Лаврентьевым. Когда он ушел, обещая снова зайти, меня разбудил постучавший в комнату Шура и нарушил мое безмятежное спокойствие неприязненно-резким своим отношением к тому, что я принял «большевика». Не помогли никакие доказательства, что Лаврентьев «приличный большевик» (он избегает слова «товарищ», отзывается холодно о вождях, не побоялся меня навестить и со мной не хитрил и не лицемерил) – Шура упрямо стоял на своем: «Ваш Лаврентьев от скуки решил посмотреть, какой вы дурак, что пошли в эмиграцию, но конечно он струсит и сюда не вернется». К моему удивлению, Шура не ошибся, и Лаврентьев уехал, не попрощавшись, и всё же именно перед Шурой (боевым офицером и «героем») я гордился военными успехами Лаврентьева, точно их жалкий, сомнительный блеск должен был и на мне слегка отразиться.
Я всё более к Шуре привязываюсь – и не только из чувства благодарности за его и Ритины заботы (что иногда у него превращается в искусственно-ложное умиление) – нет, я действительно с ним внутренне считаюсь: у него не бывает отвлеченных вопросов, зато ему свойственно другое – какая-то жизненная серьезность, какая-то настойчивая трезвость, сочетание долга и здравого смысла, и слов для показу он не ищет, меня же единственно прельщают простые, но верные и веские слова. Я на себе не однажды испытывал преимущество тех, кого называют – в наше время с усмешкой – «порядочными людьми», как будто порядочность, сознание долга есть признак душевной ограниченности и всякий умный человек выше нелепых предрассудков, и «все дозволено», и прочее. Но стоит подумать о том, как было бы сложно и путано жить, если бы нас всегда окружали такие презрительные умники и нам бы никто не доверял – и вседозволенность сразу отпадает. Шуре, я знаю, сейчас нелегко, и Рита и он работают «как негры» (его же излюбленное сравнение), доходов пока «не выколачивают», и строгий, скупой их «командитер» лишних франков «из кассы» не выдает, да и сам прижимисто экономен («На себя, молодчага, тратит гроши»), однако Шура мне предложил брать взаймы у него без стеснения: «Не беспокойтесь, мы сосчитаемся». Между тем и помимо своих затруднений он неохотно расстается с деньгами («Дано, одолжено – похоронено»), к тому же мое финансовое будущее довольно шаткое и смутное, и наконец я мог умереть, но я заболел, я близкий приятель, и значит, не думая, надо помочь. Мне Шуру особенно не хочется «использовать» – я, правда, не столь безупречен в деньгах, однако с немногими друзьями до конца, до неловкости щепетилен, а к Шуре теперь у меня возникло именно дружески-теплое чувство, и в нем и в Рите меньше всего я ценю их спасительное участие: я постепенно к ним привязался, словно для этого были нужны, были отмерены какие-то годы, и со стыдом, с тоской вспоминаю свою перед Шурой неправоту, вызванную соперничеством и ревностью. И вот неожиданно произошло одно из тех невозможных чудес, которые здесь меня поражают и которых, кажется, не случалось в обычных «нормальных» прежних условиях: сюда явился Густав Тиде, напуганно-ласковый и простой, сменивший начальственную важность на благодушную снисходительность (как меняются взрослые к больному ребенку, что меня удивляло в детские дни), и уплатил мне за месяц вперед и отдельно за выполненные поручения, угадав или высчитав нужную сумму – ровно столько, сколько я задолжал в отеле, в клинике и Шуре. Сейчас на время я обеспечен, но скоро кончится это время, и надо будет возвращаться к тяжелой будничной колее, к ежедневным заботам и хлопотам, когда судьба ни во что не вмешивается и ни в чем мне уже не помогает.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: