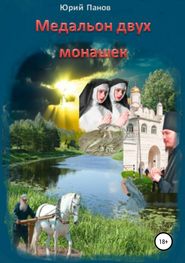По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Клад монахов. Книга 2. Хозяин Верхотурья
Автор
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– У-у-у, ходют тута всякия, жхут чо попало! – со злостью выпалил он, вымещая свой страх на ящике, невольно заставившем снова испытать неприятные ощущения. Пнув как следует ящик, он увидел как вывалился из него клубок чего-то, испускающий черный дым и едкую вонь – А у людев опосля ентова лихоманка начинаетси… У-у-у, шантрапа!
Показав кулак убегающему беспризорнику, Сысой хоть как-то хотел отомстить человеку, поселившему навсегда в его душе тревогу и страх. Только этого Сысой еще и сам не осознал, но к Мостовому теперь идти уже не торопился.
– А, Сысой, пгоходи! – Мостовой пожал руку и почувствовал некоторую напряженность Сысоя. Чтобы его успокоить, командарм улыбнулся. – Хошь чайку? Или что-нибудь покхгепче?
– Покрепче-то оно завсехда лучче! – Сысой медлил. Что-то несвойственное обычно Мостовому было в его поведении. – Так-так… Знать выволочки не избежать! Ну, ладно, посмотрим, чо бут дальше!
А потому, разом поглотив набежавшую слюну, нетерпеливо спросил. – Ну, чо звал-то?
Мостовой удивился поведению товарища, но, как всегда не показывая своих чувств, ничего не сказал, а протянул лишь список с адресами бывших царских офицеров.
Сысой, подозревая очередной подвох или нечто неприятное для себя, с явной неохотой его взял. —Ну вот! Не уж-то мене, свово старова товаришша по партии, отправит снова на каторху?
– Беги, беги! – командарм улыбался. – Ведь ты же сам вчега говогил «Кикидемиев не кончал»!
Мысль о неизвестном ему наказании стала просто нестерпимой. – Вот хад, а?! Ну, хоть ба не лыбилси, и то лехча бы было! Ишь как у нево топерича: с вечера – водочку, а утром – на каторху!
Тяжелая с перепоя голова могла выдавать только такие мысли. И Сысой еще подозрительнее посмотрел на Мостового. – Вот хад! Ужо мене и передразнивать начал, лихоманка тя забери! А лыбитси как? Лыбитси-то как натурально, а за пазухой-то, небось, каменюку держит! Плохо твое дело, Сысой, совсем плохо…
Мостовой меж тем подошел к нему и положил руку на плечо.
– Вот здесь списочек я тебе пгиготовил… – и командарм заглянул в мутные глаза своего подчиненного. – Это бывшие офицегы: они-то как раз академии кончали! Вот и пусть теперь на нас погаботают!
Сысой недоуменно захлопал глазами. – Ох, ты, лихоманка тя забери! Дак енто не мене та бумаха-то прихотовлена!
И так радостно и хорошо стало вдруг на душе у него, что заулыбался во весь рот. Еще минуту или две стоял он так перед Мостовым, пока до него не дошло то, что требовалось ему сделать.
– А вдрух не подойдут имя условия наши? – Сысоя охватили сомнения. – Охвицерье? Да оне с нами и разховаривать не станут! Не то што…
И он покачал головой. – Чо тоды?
– А ты вот что, Сысой… Что хочешь, то и делай с ними! – неожиданно Мостовой понял всю тупость своего помощника и начал злиться. – Но чтобы за неделю они были вот тут, иначе…
И показал пальцем на дверь, отвернулся, закрыв глаза. – Господи, убегеги ты меня от этого идиота! Когда же кончатся эти голодганцы, желающие встать гядом со мной? Ну что еще я должен ему сказать такого, чтобы он понял?
И вдруг понял: надо просто приказать ему!
– Вот что, комиссаг Тимофеев, значит так: пгиказываю тебе укомплектовать полк военспецами по этому списку! И как хошь, а комплектовку мне дай, понял? Ты пгиказ получил? Так вот иди и выполняй, а не то быстго вспомню тебе то, как ты целый полк белогвагдейцев пгофукал, понял?
Сысой невольно вытянулся в струнку: это говорил уже не его старый товарищ, а командарм! И тон обязывал Сысоя беспрекословно подчиняться…
Невольно он заулыбался. – Ну, наконец-то, лихоманка тя забери! Наконец-то сказал про полк! Ну, топерича я спокоен…
Тупо улыбаясь своему начальнику, Сысой не знал, что этим еще больше вызывал раздражение его. Но думать уже времени не было: щелкнув для приличия каблуками, он повернулся и вышел. Если бы Сысой повернулся в это время и посмотрел на своего бывшего товарища по каторге, то увидел бы, как тот крутит пальцем у своего виска, изображая своего подчиненного. Мало того, если бы он в это время посмотрел и на того самого вестового, который сопровождал его к командарму, то увидел бы большую фигу, которую с невыразимым удовольствием показывал Чистюля в спину Сысою…
Сысой шел по улице, довольный тем, что не получил взбучки. Козья ножка из дармовой махорки еще больше придавала удовольствия. Почему из дармовой? Да потому, что ее Сысой как бы невзначай извлек из кармана своего начальника, решив вспомнить свое прежнее ремесло ради баловства. Но теперь она должна была возместить ему расходы на выполнение нового задания.
– Итак-с, кто тута у нас значитси первым? – Сысой пыхнул клубком дыма на бумагу, разогнал дым рукой и с трудом разобрал. – Мар-ков. Штабс – капи-тан. Ну, чо ж, пойду, хляну на штабса…
3.
Конец октября 1918 года, г. Пермь.
– Голубушка ты моя, ну, не надо же так волноваться: все будет хорошо! – Владимир Алексеевич возвышался почти на две головы над своей худощавой женой, стоящей лицом к окну, которая то и дело прикладывала к глазам платочек. Медленно разделяя каждое слово, он уверенно говорил о сыне, которому восемь месяцев назад исполнилось шесть лет. Вчера сорванец сбежал от своей гувернантки и разбил себе колено, оба локтя и ободрал до крови лицо. Доктор, который в тот же день осмотрел мальчишку, сообщил родителям, что беспокоиться не о чем, однако мать всю ночь проплакала, переживая за него. – Послушай доктора, он же ясно сказал: все будет хорошо!
Ирина Терентьевна повернулась к мужу и уткнулась головой в грудь Маркову: по ее щекам текли слезы.
– Володенька, я боюсь! – прошептала она, поднимая голову и вглядываясь в ясные глаза мужа. – Мне не понятно… Что-то очень нехорошее должно случиться с нами… Я сон плохой видела…
Владимир Алексеевич Марков тридцатилетний мужчина плотного телосложения и почти двухметрового роста был штабс-капитаном царской армии в отставке, о которой заявил еще в начале 1917 года вслед за отречением царя Николая Второго. Сослуживцы, зная его характер и понимая его чувства, а так же то, что кавалера двух орденов Святого Георгия за Японскую и первую Мировую лучше силой не удерживать, согласились на его отставку.
Однако, больше всего горевали подчиненные, прошедшие с ним обе войны и ценившие его за то, что он больше собственной жизни берег жизни солдатские. Это редчайшее качество очень не нравилось многим офицерам. Полная деморализация в армии среди солдат и офицеров, не желавших воевать за свою Родину, бездарные приказы офицеров и генералов, бросавших войска на противника без тщательной проработки боевых операций и изучения противника, как это делал сам Марков, приводили к многочисленной гибели лучших из них.
Кроме того, политическое брожение в среде офицеров и солдат, требовало от Маркова принятия той или иной политической позиции. Друзья-офицеры требовали от него борьбы за защиту интересов офицерства, а солдаты, беззаветно любившие своего храброго командира за открытость, честность, справедливость и просто порядочность, убеждали и агитировали за переход на их сторону. Сам же Марков для себя давно решил, что не в праве становиться ни на ту, ни на другую сторону. Однажды присягнув Царю и Отечеству, он верой и правдой выполнял свою присягу, спасая жизни своих подчиненных, не важно, кто они были – большевики или монархисты…
Позиция эта была многим офицерам непонятна и не приятна, однако удивительна солдатам. Но однажды, получив пулю в спину не от врага , а от своих товарищей – офицеров, задумался. И, не спаси его тогда те самые «зачуханные» солдаты, которых он, вопреки требованиям старших офицеров и генералов, берег, едва ли бы сейчас стоял и обнимал свою плачущую жену. Когда в госпитале его застала весть об отставке царя и отречения от трона, Марков тут же подал прошение об отставке, не считая его предателем своего дела именно тогда, когда было особенно трудно его Отечеству.
Решение было трудное, но вполне закономерное: царя больше не было и служить было некому, Вера его поколебалась сильно после предательства товарищей, а Отечество разваливалось на глазах, разрываемое генералами. И единственной поддержавшей его в то трудное время оказалась жена, лучше других понимавшая то, что творилось в душе ее мужа. Поэтому и приехала в госпиталь и больше не отходила от него ни на шаг.
– Володенька, родной мой, не переживай! Даст Бог, пройдет и это. Главное сейчас, не испоганить собственную совесть… – она гладила его огромные руки, вдруг оставшиеся без привычной воинской работы и невольно сравнивала со своими – маленькими и щуплыми. И тихо, как вода гасит вспыхнувшее пламя, постепенно приводила в порядок вулкан Маркова: так могла делать только она. И боль в душе раненного затихала. – Ты помнишь, еще Леонардо да Винчи сказал о таких людях: «Человек – царь зверей. Поэтому и зверства его необычайны!». Предательство всегда больнее всего бьет по душе… Придется привыкнуть к этому и нам с тобой!
– Нет! – хотелось крикнуть тогда Маркову, но он, жалея ее, только горько проглотил обиду, а вслух все же сказал то, что думал. – Боюсь, самое страшное еще впереди!
Вот и сейчас он просто гладил ее темно-русые, пахнущие полевой ромашкой волосы.
– Все проходит, пройдет и это… – философски заметил он, поцеловав ее в лоб. Что он хотел этим сказать, Ирина Терентьевна так и не поняла, но, согласившись с мудростью древних, плакать перестала.
Кстати сказать, Ирина Терентьевна Маркова была молодой двадцативосьмилетней женщиной аристократического происхождения с немецкой кровью в каком-то колене. Это особенно сильно ощущалось даже по тому, что в это смутное время она продолжала быть сама чрезвычайно аккуратной и того же требовала от других. В ее доме всегда поддерживался такой порядок, что многие знакомые без конца завидовали ей, а сама хозяйка к концу дня падала на кровать без рук и ног.
Но, даже не заходя к ней в дом, можно было то же самое сказать о ней, лишь только стоило посмотреть повнимательнее на ее манеру одеваться. Строгое коричневое платье до пят с белоснежным отложным воротником, перехваченное поясом по талии, прекрасно подходило для белого фартука сестры милосердия госпиталя, в котором она трудилась. Ее высокая шея, которую только подчеркивали локоны даже тогда, когда она примеряла косынку с красным крестом, была заметна издали. Не удивительно, что многие мужчины бросали страстные взгляды на нее, но Ирина Терентьевна, однажды отдав свое сердце Маркову, просто не замечала вожделенных взглядов мужчин, так или иначе окружавших ее.
Как видно, у них обоих было много общего: он жалел своих солдат и офицеров, стараясь сберечь их жизни в бою, а она – жалела и помогала выжить или облегчить страдания тем, кто попадал к ней в госпиталь. А дома обоих ждал маленький сын, которого оба супруга любили больше своей жизни.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: