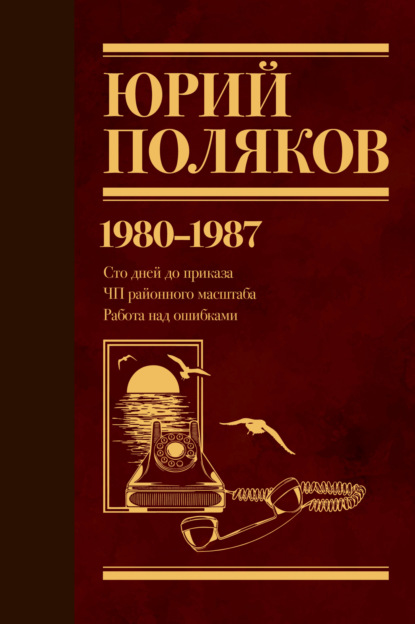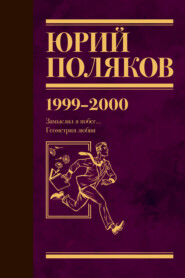По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений. Том 1. 1980–1987
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Возможно, автор этих строк и не вполне прав, но ему очень жаль героя, созданного воображением писателя. Ведь история жизненной катастрофы процветающего успешного человека показывает, сколь незаметны и опасны капканы, силки, ловушки, расставляемые жизнью, и мало кому удавалось их миновать. Но вот осознать всю степень катастрофизма собственного бытия и смело оценить невеселые жизненные итоги, пусть и заплатив за это некрологом на шестой полосе, как это сделал Гена Скорятин, удается далеко не каждому. Чаще подобные размышления если и появляются, то анестезируются крепким алкоголем, который не дает углубиться в бездны самоанализа. А такой самоанализ требует определенной честности – и от героя, и от автора. Да и от читателя, если он готов следить, как все увеличивается бездна между внешним успехом и внутренней катастрофой. Повторим: осознание катастрофы собственного бытия требует от личности немалых усилий, и оно если не гарантирует герою охранной грамоты в иных мирах, уже после публикации некролога, то уж по крайней мере дает ему право на всевозможное читательское понимание и симпатию.
Можно сказать, что это роман об ошибках. Герой ошибается, и принимает страсть к надменной однокурснице, которая его едва и замечает, за любовь, в результате чего семейная жизнь в тот период, когда мы застаем Геннадия Скорятина в его редакционном кабинете, напоминает поездку в купе поезда с похмельным, закусившим черт знает чем попутчиком, – и когда долгожданная конечная станция, никто не знает…
Он ошибается в любовнице и прозревает неверность, застав ее с индусом, торговцем лавки колониальных товаров; ошибается в друге, который «сливает» написанную Геной статью о пороках нынешней власти под названием «Клептократия» политическим оппонентам; ошибается в собственном отцовстве (отношения с дочерью вдруг резко портятся и жена открыто говорит ему, что ребенок не его)… Мало того, Скорятин, практически перестав общаться с дочерью, тем не менее периодически отсылает ей деньги, которые та, как выясняется в конце концов, отдает своему настоящему отцу, выпавшему ныне из журналистской обоймы, выброшенному на помойку современной российской истории. Кажется, что автор, нанося герою удар за ударом, даже переходит некую границу правдоподобия, гротескно сгущая абсурдные факты его жизни, нагромождая заблуждение за заблуждением, заставляя героя вновь и вновь расставаться с иллюзиями, переживать отрезвление, обрекая его на мильон терзаний.
Казалось бы, сама судьба кидает Скорятину спасательный круг: в редакционной почте он находит письмо из небольшого провинциального городка Тихославля, к которому прикреплена фотография милой девушки с наивной надписью: «Это наша Ниночка в день рождения. Не забывай нас!»
Эта фотография и мотивирует обращение Гены Скорятина в прошлое, в давнюю историю любви, которая через много лет поманила его знакомством с дочерью, о существовании которой он не знал…
Поляков использует характерную для него жанровую романную форму, прибегая к приему сжатия времени: сюжетное действие романа охватывает один день, а фабула вмещает всю жизнь персонажа. Именно так построен роман «Замыслил я побег…» (1999). Олег Трудович Башмаков, уходя из семьи и желая избежать муторного объяснения с женой, готовится к замысленному побегу и собирает вещи, необходимые ему в новой жизни с молоденькой любовницей Ветой. Каждый предмет, вещь, бытовая деталь мотивируют обращение героя в прошлое, где «перед ним воображенье свой пестрый мечет фараон». Случайная и, казалось бы, сюжетно немотивированная гибель героя оказывается объяснена всей логикой неудачной жизни, которая предстает перед читателем не в сюжете, но в фабуле, тогда как сам сюжет включает в себя лишь несколько часов чемоданных сборов.
Тот же принцип романной композиции писатель реализует и в новом своем произведении. Проведя весь день в редакции и узнав об изменах любовницы, о дочери, таскающей его деньги первому мужчине матери и своему настоящему отцу, о предательстве друга-соратника, а в конце рабочего дня – о собственном увольнении, Гена Скорятин вспоминает практически весь свой жизненный путь, который завершился, судя по всему, вечером того же самого дня, такого длинного и тяжелого для героя.
Однако между двумя романами – целых полтора десятилетия, что не могло не отразиться на их проблематике. «Любовь в эпоху перемен» – и сложнее, и обладает теми смыслами, которые, наверное, не могли воплотиться в конце прошлого века, когда создавался роман «Замыслил я побег…». Иными словами, национальный исторический опыт первых полутора десятилетий века XXI и осмыслен, и отражен в новом произведении в первую очередь в частной судьбе его героя, человека, непосредственно включенного в исторические процессы современности и в силу своей профессии, и в силу своего склада мышления. Заставая главного редактора «Мымры» в день, исполненный тяжелых прозрений и внезапно мелькнувших, но обманувших надежд, мы соотносим его частную судьбу с национальной исторической судьбой, время его частной жизни с историческим временем.
«Любовь в эпоху перемен» – само название указывает на многие смыслы и готовит к их истолкованию. Знаменитое китайское проклятие, широко известное в 90-е годы («чтобы жить тебе в эпоху перемен»), отсылает читателя, помнящего нашу «эпоху перемен», к его собственному опыту тех лет. Неожиданно «эпоха перемен» возникает в эпиграфе – стихотворной строфе некого Сунь Цзы Ло (насколько мы знаем, такого поэта ни в одну эпоху китайской истории, как общей, так и литературной, не существовало). Написанная автором и стилизованная в духе китайской образности строфа завершается строкой «Грустна любовь в эпоху перемен…», которая и предлагает один из возможных кодов интерпретации романа: соотнесение частного и исторического сюжетов. И в самом деле, главное событие личной жизни Гены Скорятина, которое и мелькнуло через два десятилетия обманным лучиком надежды, как раз и приходится на время исторических перемен национальной судьбы, которое герой так и не отважился сделать временем перемен судьбы частной.
Так мы подходим, возможно, к главному вопросу романа, формирующему его проблематику: насколько плодотворной могла быть эпоха перемен в русской социально-политической жизни и насколько сильно обманула она тогда, четверть века назад? И ответ на этот вопрос дается через личный сюжет романа: эпоха перемен обещала герою любовь и новую жизнь – его собственную, семейную, с женщиной, способной его понять и принять. И обманула. Потенциала эпохи перемен не хватило не только на национальную жизнь, но и на личную. Впрочем, частная судьба в романе Полякова оказывается отражением судьбы национальной… До чего же знакомый сюжет – русский человек на rendez-vous! Герой встречает женщину, с которой готов связать жизнь, а потом теряет – по собственной нерешительности и из-за желания все как следует взвесить и оценить, как у Тургенева в «Асе», по неумению понять себя самого и представить вовремя, что теряешь, как у Бунина в «Солнечном ударе», или потому что дает возможность постылой жене и ее любовнику разрушить только что возникшую любовь. Так – в новом романе Полякова. И потерять навсегда, чтобы жгло потом всю жизнь. Ведь вспоминая о Зое, милой девушке, встреченной во время командировки в уютный провинциальный городок Тихославль, и потеряв ее, «Гена вздрагивал всем телом, словно от удара широкого отцовского ремня, и слезы обиды сыпались из глаз. Чувство непоправимой потери мучило и мешало жить. Он просыпался ночью, тихо лежал, перебирая в памяти мгновения… Ему казалось, если удастся вспомнить какую-нибудь забытую нежность или прикосновение, случится чудо: все вернется и останется. Но ничего, конечно, не возвращалось, и душа ныла от плаксивого отчаяния… И наконец память о короткой любви превратилась в туманную печаль об утраченной молодости с ее ослепительными безумствами. Лишь иногда, при знакомстве с какой-нибудь женщиной по имени Зоя, вздрагивало сердце и на миг терялось дыхание».
Как и всегда, русский человек на rendez-vous проявляет удивительную беспомощность и несамостоятельность. Он почему-то позволяет своему начальнику, тогдашнему редактору еженедельника Исидору Шабельскому, который по совместительству выполняет еще и обязанности любовника Ласской, жены Скорятина, объясниться с Зоей и открыть ей, что в семье Геннадия Скорятина ждут ребенка, утаив, правда, вопрос об отцовстве. Ведь ситуация усугубляется тем, что жена Гены ждет ребенка от своего любовника, а не от мужа. Впрочем, познать эту истину Скорятину придется еще не скоро. Этот сюрприз автор припасает для героя ближе к концу, а все точки над i расставляет самый последний день, тот самый, когда мы и застаем Скорятина в его редакционном кабинете. Слеп человек…
Эпоха перемен обещала многое – это знает каждый, кто пережил социальную эйфорию конца 80-х и кто помнит тяжелое похмелье начала 90-х с двумя путчами, танками на Новоарбатском мосту, лупящими прямой наводкой по собственному Парламенту… Фотография дочери, которая лежит на столе у героя, мотивирует возвращение в ту самую эпоху перемен, на четверть века назад, и заставляет подумать о том, что она дала – и в плане социальном, и в плане личном.
Она обещала очень много! И Поляков намеренно совмещает надежды социальные и планы личные. Молодой журналист Геннадий Скорятин, страстный адепт Перестройки и проповедник Гласности, приезжает в Тихославль и не только будоражит публику в библиотечном зале расхожими пропагандистскими штампами того времени, искренне принимая их за грани исторической правды и сокрытые аспекты национального опыта, но и встречает любовь всей своей жизни. Не здесь ли та самая эпоха перемен, потенциал которой можно реализовать, оставшись с Зоей, взяв ее в жены, разрушить жизнь с неверной женой? Но для этого-то нужны определенные личные усилия – одного лишь ветра перемен недостаточно. А их-то и не хватает обычно русскому человеку на rendez-vous. Эпоха перемен предоставляет множество возможностей, но реализовать их нужно самому. Не потому ли так часто мы обвиняем время, среду, обстоятельства, эпоху в том, что не воспользовались заложенным в ней потенциалом, как будто за нас это должны были сделать время, среда, – та самая эпоха, которая давала надежды, но обманула. Может, мы сами себя обманываем, не пользуясь заложенными в наши времена надеждами?
Эпоха перемен несла в себе потенциал изменения к лучшему – и в социально-политической сфере, и в личной, по крайней мере для героя Ю. Полякова. Обернулась она в социально-политической сфере величайшей геополитической катастрофой: крушением СССР. В личной – крахом семейной жизни, мелькнувшей, обжегшей, но несостоявшейся любовью. В результате теперь, уже в наши дни, рыцарь «Золотого пера», ярый пропагандист Гласности и свободы слова зависит от капризов хозяина газеты, беглого олигарха Корчмарика, отсиживающегося в Ницце и оттуда руководящего изданием, относящегося к журналистам примерно так, как плантатор к неграм. За приступы дикой злобы и непредсказуемость редакционной политики, которая зависит исключительно от околовластных прихотей и политических хитросплетений, сотрудники редакции зовут своего заграничного издателя-владельца Кошмариком.
Когда мы привычно твердим об историческом времени, то забываем, что это своего рода иллюзия. Время, один из самых таинственных и фантастических феноменов жизни, предстает перед нами в трех ипостасях: прошлое, настоящее, будущее. Прошлого, строго говоря, больше нет: есть наши общие и индивидуальные представления о том, каково оно было. Представления эти и разнятся, и меняются, порой кардинально, поэтому шутка о непредсказуемости прошлого имеет вполне реальные основания. Но ведь и будущего нет: будущее – это всего лишь спектр возможностей, которые транслирует в него настоящее. Какие из этих возможностей реализуются, какие нет – трудно сказать. Все зависит от наших совокупных усилий, заблуждений, убеждений, упорства и лености, и от множества случайностей, которые от нас, увы, не зависят.
А что же такое настоящее? Этот крохотный отрезок длительности между прошлым и будущим есть, пожалуй, единственная подлинная, ощутимая здесь и теперь реалия времени. Но она имеет значение лишь тогда, когда несет в себе потенциалы, сформировавшиеся в прошлом, и обуславливает будущее. Иными словами, в настоящем сходятся прошлое и будущее, наполняя категорию времени смыслом как историческим, так и личным. Лишь тогда время «обживается», наполняется присутствием национального духа. Иными словами, время обретает смысл лишь тогда, когда связь между прошлым и нынешним очевидна. Замечательный исследователь средневековой культуры А. Я. Гуревич дал прекрасное определение времени, актуальность которого представляется очевидной не только в отношении к Средневековью, но и к Новому и Новейшему времени: «Время – это солидарность человеческих поколений, сменяющихся и возвращающихся подобно временам года».
Осознание времени как «солидарности человеческих поколений» подразумевает, что ушедшие поколения понимаются не как «почва» или «материал» для утверждения и укоренения ныне живущих, но как присутствующие здесь и сейчас, но не в плане мистическом или трансцендентном. Речь идет о том, что настоящее воспринимается как плод их трудов, усилий, приносимых жертв, как результат их созидательной исторической деятельности, причем в совокупности всех ушедших поколений. В таком случае и жизнь людей, существующих в настоящем, наполняется историческим смыслом: они транслируют в будущее опыт тех, кто прошел свой черед раньше, вкладывая в него свой, и очень немалый, опыт. Тогда есть все основания полагать, что и будущее реально существует, опираясь на настоящее, исходя из него, в виде потенций, которые непременно будут реализованы. В таком случае настоящее избегает гамлетовского скептицизма, разъедающего, эрозирующего смысл времени: мир тогда не предстает перед людьми, вывихнувшимся из коленного сустава, как говорил Шекспир; дней связующая нить не распадается, как переводил слова Гамлета Пастернак.
В романе Полякова мы видим мир вне прошлого и настоящего. Скорятин мечется в настоящем, пытая прошлое и тщась понять, какие же из тех, как казалось, богатейших возможностей реализовались сейчас? И здесь возникает еще один очень важный мотив «Любви в эпоху перемен»: это мотив онтологической пустоты. Мучительные возвращения в прошлое обнаруживают, что, в сущности, время перестройки и последовавшее за ним не было «эпохой перемен», жить в которую так боятся китайцы; скорее, это было время тягчайших исторических деформаций, смысл которых сводился к насильственному разъятию времени; тектонических изменений национальной культуры, невероятным усилием вывихнувших советский мир из его коленного сустава.
Когда мы говорим о времени, то, в сущности, речь идет о реализовавшихся потенциях прошлого в настоящем и возможности их прорастания в будущем. Или же, напротив, о сломе времени: когда здоровый потенциал развития не реализуется, а начинает доминировать вектор, еле различимый ранее, маргинальный, вроде бы и не имеющий смысла, но все более и более заметный, отрицающий иные перспективы развития, чем те, на которые указывает сам. Такой момент, когда направление исторического движения может резко измениться, называется в науке точкой бифуркации. Это момент, когда любая система, будь то частная человеческая судьба или государственное устройство, находятся в «неравновесном состоянии» и любая мелочь, пылинка, случайность может определить новое, и далеко не всегда лучшее, направление развития – будь то частная судьба или же национальный путь. Тогда время как целостность, как единство прошлого и будущего распадается на несвязанные друг с другом и совершенно случайные фрагменты, не соединяющие поколения по вертикали времени, но разъединяющие его. Размышляя о подобном периоде нашей общей истории, Поляков так характеризует мироощущение человека, в судьбе которого сбылось китайское проклятие: «И мозг озарялся страшным открытием: они родились и жили в стране с омерзительным прошлым, отвратительным настоящим и безнадежным будущим». Это и есть страшная реализация гамлетовской метафоры: распалась связь времен… Или, добавим от себя: это ситуация, когда человек выпал из своего времени. И не один человек… А ведь время – это тоже родина, и его нужно тоже беречь, им нужно бы тоже гордиться. И это чувство было прекрасно известно раньше: «Наше время еще занесут на скрижали. В толстых книгах напишут о людях тридцатых годов», – с гордостью писал К. Симонов. Увы, этого чувства не знают герои Ю. Полякова. Тотальной утратой смыслов своего времени обернулась для них точка бифуркации – горбачевская перестройка.
Катастрофически оборваны преемственные нити между прошлым и настоящем. А уж о будущем и речи нет. Его просто-напросто не существует: о нем герой не думает, всматриваясь в давнюю уже эпоху перемен, порвавшую, как стало ясно, все связи с прошлыми, советскими, «застойными», временами, и не обретшую новых связей по вертикали времени – ни с прошлым, ни с будущим.
Да, именно она была такой точкой бифуркации в нашей истории – та самая «эпоха перемен». Поначалу она отрицала отжившее, мешающее движению вперед (даже назвали ее Горбачев со товарищи поначалу Ускорением). Она покушалась на старую мифологию, на немотивированные запреты личной и социальной жизни, она обещала свободу…
Честно говоря, автор этих строк не вполне и не всегда готов бранить эпоху перемен, те самые 90-е годы, которые в ныне созданной мифологии именуются «бандитскими». Здесь ведь тоже полуправда, и не только бандитскими разборками, рейдерскими захватами и долларами, инкассируемыми в коробках из-под ксерокса (кто помнит – тот поймет), она характеризовалась. Эта эпоха дала нам, людям, профессионально связанным с современной русской литературой и ее историей, невероятные в советские времена степени свободы, которые мы ощущаем как неотъемлемые и по сей день. Это и отмена цензуры, и возвращение к читателю всех трех волн русской эмиграции, публикация потаенной, «катакомбной» литературы. Это и свобода исследовательской методологии, и возвращение к русской религиозно-философской традиции, и свободное сосуществование в современной литературе самых разных «направлений» – от почвеннического до крайне либерального. И Юрий Поляков, писатель, первыми же своими вещами заявивший о себе как о «колебателе основ», был одним из тех, кто степени этой свободы расширял – вспомнить хотя бы «Сто дней до приказа», которые представили армию несколько иначе, чем о ней рассказывал советский фильм «Солдат Иван Бровкин».
Но почему эта свобода, в первую очередь коснувшаяся гуманитарного знания, в принципе уничтожившая какие-либо ограничения гуманитарной мысли, привела к тотальному разрушению прежних бытийных основ – неужели они держались только на советских табу, на запрете Мандельштама, Набокова и Ахматовой? И пусть герой романа «Любовь в эпоху перемен» не задается таким вопросом, он обращается мыслями на четверть века назад, пытаясь понять, почему и в чем эпоха перемен его обманула.
Как же это все близко вроде бы: битком набитые залы, встречи с журналистами, политиками, с прорабами перестройки – рукой подать… И какой же дешевой демагогией выглядят сейчас лозунги и пропагандистские клише той поры… Писатель их дословно воспроизводит: «Почему в цивилизованных странах каждый человек самоценен, а у нас швыряются миллионами жизней? Отчего наш исторический путь вымощен трупами, как улицы вашего прекрасного города булыжниками? Петербург стоит на костях, гиганты пятилеток – на костях, колхозы – на костях… Вы не думали, почему наш государственный флаг весь красный? … Это еще надо разобраться, кто был большим фашистом, Сталин или Гитлер. Почему мы живем хуже всех?» Эта демагогия, не просто перечеркивавшая русский исторический опыт, но принципиально его отрицающая, будто бы обещала, что жить мы будем не хуже всех, а лучше всех, что станем самой «цивилизованной страной» (не очень понятно, что это значит), что у нас будет не только самые лучшие танки, но и краны течь не будут. А путь ко всему этому – в Гласности, в Перестройке.
Поляков заставляет героя сопоставить настоящее и прошлое – и обнаружить удивительную вещь: от гласности остались немного стыдные воспоминания, а в настоящем каждое его печатное слово зависит от прихотей хозяина газеты Кошмарика, и единственное слово, которое свободно в «Мымре», – это его слово, владельца заводов, газет, пароходов… «А теперь задумаешься: стоило ли выбираться из-под теплых, привычных ягодиц тетушки КПСС, чтобы угодить под костлявую, вечно ерзающую задницу Кошмарика?» – горькая ирония Скорятина, который задается этим воистину философским вопросом, по крайней мере свидетельствует о неоднозначности ответа…
Сопоставления временных планов, на котором роман держится композиционно, обнаруживают тотальный разрыв преемственных связей по вертикали времени. Ничего не вышло из обещаний той эпохи: гласность обернулась немотой, зависимость от идеологии – еще более страшной зависимостью от прихотей хозяина, цензура политико-идеологическая – еще более страшной цензурой рынка. И если политическую цензуру можно было обойти, обманув Главлит, отдав рукопись в самиздат, переправив на Запад, то цензуру рынка не обойти никак – она всевластна! В результате апологет Гласности и горбачевского нового мышления выполняет теперь любую политическую прихоть Кошмарика, а ослушание вызывает реакцию в духе Органчика: «Разгоню всех к чертям собачьим!»
Несоотнесенность двух временных планов становится лейтмотивом книги, проходит через мелкие, казалось бы, эпизоды. Вот, например, модный бард и менестрель дает Скорятину интервью, торопливо рассказывая (на гастроли в Венгрию улетает), «как задыхается в этой стране с уродским названием СССР». Прощаясь, он поет журналисту свою новую композицию, которая начинается словами «Мне скучно в этой огромной стране…», а заканчивается строфой «Поднимите нам веки,/Поднимите с колен!/Мы хотим перемен!/Мы хотим перемен!». После этой сцены следует ироничный авторский комментарий: «Теперь Семен Кусков – владелец сети винных бутиков «Чин-чин», но песенки про свободу до сих пор сочиняет и поет в правильных местах, к примеру, на хлебосольных презентациях сенатора Буханова». Вероятно, перемены, которых взыскала страстная душа артиста, не были связаны с обретением «правильных мест», где можно петь крамолу, и стремлением к хлебосольным презентациям. В подтексте все же что-то другое подразумевалось…
В романе остается единственно возможное для героев восприятие времени: как изменения к худшему. «Время – это какой-то сумасшедший косметический хирург, который злорадно лепит из молодого прекрасного лица обрюзгшую ряху», – подумает Скорятин, глядя на свое отражение.
Отсутствие связей прошлого с настоящим – знак того, что «эпоха перемен» оказалась эпохой онтологической пустоты, поглотившей исторические смыслы прошлого и не несущей в себе никаких собственных исторических смыслов. И та свобода гуманитарного знания, о которой уже шла речь, обретенная тогда и существующая по сей день, есть не результат исторических смыслов эпохи перемен, но результат аннигиляции тех ограничителей советского прошлого, которые ее сдерживали. Иными словами: свобода, обретенная тогда, есть не осмысленное действие той эпохи, а просто результат разрушения старых смыслов. И зачем обуздывать обретенную тогда свободу гуманитарной мысли? Да делайте что хотите… Смысла нет ограничивать. По крайней мере, Кошмарику и ему подобным, имеющим теперь реальную власть. Власть клептократии, о которой Гена написал статью, но так и не посмел опубликовать. Не те теперь времена. Где ты, гласность?.. Можно, конечно же, ослушаться хозяина и вести себя независимо, но это «значит навсегда выпасть из обоймы, вылететь из «Мымры», лишиться всего: положения, денег, поездок, тех же посольских приемов… Зачем? Чтобы сказать правду?» Но и правда, по мысли главного редактора, тоже подвержена эрозии и не имеет ценности в нынешнем безвременье, пришедшем после эпохи перемен: «нет, не для того, чтобы сказать правду, а для того, чтобы нести ересь, которая выглядит правдоподобной лишь потому, что ее выкрикивают обиженные и обманутые». К таким обиженным и обманутым Гена примыкать не хочет, предпочитая тиранию Кошмарика.
Есть в проблематике романа еще один аспект, которого деликатно касается писатель. Это вопрос о том, насколько счастлив может быть человек в смешанном браке. Ведь всякий брак, если вспомнить замечательный афоризм Ю. Трифонова, – «не соединение двух людей, как думают, а соединение или сшибка двух кланов, двух миров. Всякий брак – двоемирие». И это совсем уж двоемирие, если речь идет о соединении в браке людей разных национальностей.
«Скорятину, отпрыску русских пахарей, порой становилось дико и смешно от мысли, что его первенец живет теперь у Мертвого моря, носит трудно выговариваемое имя Барух бен Исраэль и воюет с арабами за клочок обетованной земли величиной с колхозный пустырь. Как, в какой момент Борька стал буйным иудеем, страдающим за каждую пядь Голанских высот, словно это его собственная кожа?» Этим вопросом задается Геннадий Скорятин, итожа результаты своего брака с надменной однокурсницей Ласской: сын – иудей, закончивший университет в Хайфе, воюющий в израильской армии, а дочка Вика – чужая и по крови, и по духу: вот уж у нее с ее биологическим отцом национальных трений нет…
«У нас, евреев, такими вопросами занимаются женщины», – гордо скажет Ласская своему мужу, отбирая последнюю надежду уйти, развестись, начать новую, на сей раз самостоятельную жизнь. Купленный втайне от жены кооператив безжалостно разоблачен главным редактором «Мымры», начальником Скорятина и любовником его жены. Конечно, попытка эмансипации не выглядела очень уж твердой и уверенной, но все же она была. Но в словах Марины содержится ключ к их отношениям вообще: именно она решает все вопросы, притом не только в семье, но и в жизни Гены, дед которого землю пахал, как сам он вспоминает, смутно ощущая свое родство с разночинцем Базаровым. Вот так складывается жизнь разночинца, ставшего примаком в еврейской семье. «Свое и чужое начинают различать позже», – случайно услышал Скорятин от своей будущей тещи – так она характеризовала неравный брак своей дочери, явный, по ее мнению, мезальянс. В правоте ее слов и сам Скорятин убедился вполне, расплачиваясь всю жизнь за слишком поздние прозрения на предмет своего и чужого.
Речь здесь идет о несовместимости национальных культурных кодов, несовпадение которых в брачном союзе столь же губительно, как и в общей исторической ретроспективе. Пожалуй, Поляков впервые после двухтомника А. Солженицына «Двести лет вместе» это несовпадение национальных кодов, бытовых и бытийных, сделал предметом изображения, определяющим важные аспекты проблематики романа. Только Солженицын прослеживал общий вектор национальной русской судьбы, а Поляков показал его отражение в частной судьбе своего героя, обнаружив тотальное несовпадение двух взглядов на мир. И в этой несовместимости еще одна причина катастрофы, постигающей героя. Как и в том, что распалась связь времен, мир вывихнулся из сустава…
Один из романов Маркеса, написанный уже после получения им Нобелевской премии, называется «Любовь во время чумы». Переводчики сознательно изменили название романа, включая его в наш культурный код (в оригинале – «Любовь во времена холеры»). Конечно же, никакой чумы в начале ХХ века, когда романное действие завершается соединением счастливых любовников, уже не было, речь идет о холерном карантине, но пушкинский «Пир во время чумы» оказывается значимее исторических реалий. Маркес создал, пожалуй, уникальное произведение, показывающее, что любви всей жизни можно дождаться, если терпеливо ждать, и в глубокой старости она еще более остра и ценна, чем в молодости. Любовь, потерянную в ранней юности, человек лелеял всю жизнь и получил свою возлюбленную в глубокой старости, что не помешало насладиться обоим всеми прелестями любви и чувственной, и духовной. Маркес соединяет юность, когда любовь вспыхнула, со старостью, когда судьба позволила героям соединиться, обнаруживая нерушимую связь времен в частной судьбе.
Сходство композиционной структуры двух романов про любовь – «Любовь в эпоху перемен» и «Любовь во время чумы» – не только в названии, которое соединяет частное и историческое время. Оно и в композиционной структуре, которую избирают оба писателя, испытывая потребность в соединении частной судьбы и национально-исторических событий: в стране Карибского региона на рубеже XIX–XX веков и в России на рубеже ХХ – ХХI веков. Различие между ними состоит в том опыте, который извлекают из этого соединения писатели. У Маркеса – радостная песнь любви, победившей всемогущее время. У Полякова – реквием светлым надеждам обманувшей нас эпохи перемен.
Неужели все так грустно у Полякова?
Нет, не все. Есть вещи, которые дают личности возможность активного противостояния и онтологической пустоте, и распавшейся связи времен. Одна из них – творчество. Именно о творчестве роман «Гипсовый трубач». Это самый объемный роман писателя. Он позволил себе писать не останавливаясь, столько, сколько понадобится, не задумываясь об объеме. Он сравнил свой текст, все нарастающий в объеме, с подходящим тестом, вылезающим из кастрюли, которое хозяйка (автор в нашем случае) и не собирается особо запихивать, уминая, обратно. А пусть себе лезет! Сколько будет, столько будет! Вот и получился в результате такой объемный, больше тысячи страниц, роман.
Естественно, такое произведение не может не рассыпаться без очень сильных композиционных скреп, которые объединяли бы сотни героев, связанных и не связанных сюжетно друг с другом, которые внезапно появляются в романе и столь же быстро исчезают из него; сотни не связанных друг с другом положений и ситуаций, кажется, распадутся, а строгая романная форма утратится, и текст, действительно, превратится в бесформенное тесто, вылезшее на стол из кастрюли – замысла.
Традиционно композиционное единство романа формируется сюжетом, т. е. системой событий, связанных друг с другом причинно-следственными отношениями, и включающих в себя главных героев произведения. Но ни один сюжет, даже самый разветвленный и хитро закрученный, не включит в себя сотни героев «Гипсового трубача» и не выдержит такой нагрузки – он просто обречен разрушиться и превратиться в ворох никак не соотнесенных друг с другом эпизодов.
Но этого не происходит. Поляков находит композиционный принцип, на котором держится роман. Два странных человека, несомненно, творчески одаренных, оказываются объединены одной задачей: снять фильм. Этот тандем составляют неудачливый режиссер, ныне значительно более успешный ресторатор, Горынин и писатель «очень второго ряда», как сказал бы В. Набоков, Кокотов, написавший, впрочем, один удачный рассказ «Гипсовый трубач» – он тоже включен в безбрежный текст романа. Никакого фильма в результате не получается: все погружается в бесконечные разговоры ни о чем. Писодей и кукловод, как называют себя соавторы, погружаются в бесконечную пучину воспоминаний, размышлений на тему «а вот так тоже было», становятся свидетелями и участниками жизни в Ипокренино, включаются в борьбу за спасение не то дома творчества, не то дома престарелых работников искусств от банды некого Ибрагимбыкова, который, как водится, собирается его приватизировать. Таким образом создается кумулятивный сюжетно-композиционный принцип, если воспользоваться терминологией В. Я. Проппа, описавшего его действие в сюжете волшебной сказки. Его суть состоит в том, что множество событий, ситуаций, характеров и положений, воссозданных в романе, связаны друг с другом не сюжетными причинно-следственными связями, а ассоциативными, возникающими в ходе трезвых (и не всегда) разговоров соавторов. Никакого фильма в конце концов, конечно же, не получается, но у мнимых соавторов возникает подлинная иллюзия творческого озарения. Экстатическое восклицание Жарынина «О, как я это сниму!» становится лейтмотивом романа и мотивирует включение в него по принципу ассоциативной связи множество эпизодов, воспоминаний, ложных сюжетных ходов, которые, как может показаться наивному читателю, и начнут сейчас развиваться – и тут же угасают, обманув читательское ожидание. Иные ходы и композиционные связи завязываются вокруг борьбы за Ипокроенино, за спасение которого смело берется Жарынин.
Соавторы писодей (Кокотов, несостоявшийся автор так и не написанного синопсиса) и игровод (экс-кинорежиссер Жарынин, ныне ресторатор, тоскующий по творческому свершению) болтают в романе больше всего, имея для этого каждый свои психологические мотивации. Но главное в том, что оба тоскуют по подлинному творчеству, оба стремятся к нему. Увы, этим стремлениям не дано осуществиться: фильм не снят, синопсис не написан… Слова, ставшие лейтмотивом образа Жарынина «О, как я это сниму!» лишь подчеркивают иллюзорности возможности что-нибудь снять. Именно в их «болтовне», которая развивается на фоне сюжета с Ипокренино, и обнаруживается глубинная и очень трагическая нота романа: оба героя не обладают творческим потенциалом, способным вывести их из жизненной рутины, которая осмысляется как безнадежность: режиссер становится ресторатором, создатель блестящей новеллы о гипсовом трубаче пишет бульварные романы под женским псевдонимом, якобы представляющие собой перевод с французского…
Таким образом, мы видим героев в весьма трагической ситуации, обнаруживающей разрывы исторического времени. Их настоящее – старики из Ипокренино, у которых все в прошлом; нет будущего: фильм даже не начат. Да в общем, и настоящего настоящего у них нет: душегубы Ибрагимбыкова – просто труппа Театра имени Мцыри, играющая по сходной цене бандитов-рэкетиров, а сам Ибрагимбыков – заслуженный артист республики и заведующий труппой. Поэтому случившееся кровопролитие тоже какое-то не настоящее, напоминающее клоунаду, а кровь – клюквенный сок из «Балаганчика» А. Блока. Комическое лишь подчеркивает трагическую безысходность положения героев… Игровод явно переиграл – и стал жертвой собственной игры.
Действие романа происходит уже в двухтысячные годы, но постоянные вкрапляющиеся эпизоды и положения относят читателя в предшествующие эпохи, в первую очередь эпоху 90-х годов. Наверное, это самое сложное и самое мифологизированное время нашей недавней истории. Миф о «лихих девяностых» слишком уж все упрощает. Как, впрочем, и всякий миф. И когда Поляков воссоздает ситуации, вроде бы вписывающиеся в эту мифологию, он все равно идет дальше и преодолевает упрощенность мифологического сознания: в романе «Замыслил я побег…», в повести «Небо падших» показана эрозия не нравственных, а онтологических ценностей.
А вот как обозначить первое десятилетие нынешнего века, когда, собственно, и происходит поездка в Ипокренино писодея и игровода? Мифологии этого времени пока еще нет, но его образ ярко запечатлен в «Гипсовом трубаче».
* * *
«Повесть о светлом прошлом» – так назвал писатель трилогию «Совдетство», над которой увлеченно работал в последние три года. Их жанр трудно определить: это роман-ностальгия, отправляющий читателя вслед за автором на поиски утраченного времени. С типологической точки зрения трилогия Полякова близка знаменитому фильму Феллини «Амаркорд» (Я вспоминаю). Эти воспоминания ценны сами по себе: автору удается заставить своего читателя испытать ностальгию по 60-м годам, а тех, кто не застал то время, полюбить идеализированные образы советской эпохи; но они ценны еще и воистину акмеистическим вниманием к деталям быта: цвету абажура в московской квартире (кто знает, что это такое, сейчас?) интерьеру, предметам сервировки стола, отполированной морде собаки пограничника на станции метро «Площадь Революции», а отсюда уже путь к московской мифологии, живущей и сейчас: попав на «Площадь Революции», посмотрите, как и по сей день сверкает довольная морда пса, старожила московского метро! Поляков рассказывает простую и интимную жизненную повесть в трилогии «Совдетство», с любовью представляя бытовые детали домашней кухни, московского метро, булочной-кондитерской, московского двора, интимные переживания молодого человека. Иными словами, творит замечательный миф о Москве своего детства.
Миф – отнюдь не неправда. Миф есть форма нашего мышления, которая позволяет нам воспринимать и структурировать окружающий нас мир. Бывают мифы деструктивные, разрушающие реальность; бывают, напротив, светлые, творящие ее замечательный образ, пусть и приукрашенный, идеализированный сознанием взрослого состоявшегося человека, который с благодарностью вспоминает эпоху своей юности и тех людей, что жили тогда и смогли передать настоящему и, хочется надеяться, будущему свою мудрость, силу и доброту.
Говоря о прозе Полякова, мы не коснулись других важнейших родовых составляющих его метаромана: драматургии, поэзии и публицистики. А эти явления не менее важны в палитре его творчества.
Поэзия – особая сфера, и читать ее и говорить о ней нужно иначе, чем о прозе и драме. О ней нужен отдельный разговор. Здесь же обратим внимание на то, что в лирике Полякова почти нет того, что пронизывает все его творчество: иронии, гротеска, фарсового начала, которое проявляется с избытком в драме и прозе. А тут он серьезен и… лиричен. Усвоив уроки акмеистического письма, он обращается к обыденности (случайной встрече, райкомовскому суетному дню) и возводит ее на уровень проникновенной лирической глубины. Стихотворение «Старый друг» воспроизводит малозначительную уличную сценку: «Я прохожего толкнул, я извинился…», которая оборачивается не просто встречей друзей, но и грустным мотивом уходящего времени: «Друг мой, друг, / вот время и коснулось / Нас испепеляющим крылом». Это дает возможность предельного расширения поэтического контекста: здесь окажется и городской трамвай, коммунальная квартира, кухонный и коридорный инвентарь. Такое расширение поэтического контекста обусловлено стремлением сделать доступным лирическому сознанию самые разные стороны бытия, если угодно, увидеть прекрасное в обыденном. Редкий дар для русского поэта. Или русского человека вообще?
Самое удивительное при этом: в поэзии поворачиваются новыми гранями основные темы творчества. Тут и армия, и дружба, и военная тематика, и любовь, и мотивы «Совдетства», и работа в РК ВЛКСМ, и жизнь школьного учителя, и эрозия нравственных ценностей… Тут и попытки осмыслить революцию 1917 года, и размышления о Пушкине и его эпохе… И все же не может он обойтись совсем без иронии! Стихотворение «Иронический автопортрет» создает образ поэта-поденщика, которым Поляков, разумеется, никогда не был: «Он пишет в автобусе, в поезде и в самолете, / Использует также троллейбус, метро и трамвай, / Поэтому эпоса вы у него не найдете: / Сложил три куплета – и хватит, приехал, вставай!»
Можно сказать, что это роман об ошибках. Герой ошибается, и принимает страсть к надменной однокурснице, которая его едва и замечает, за любовь, в результате чего семейная жизнь в тот период, когда мы застаем Геннадия Скорятина в его редакционном кабинете, напоминает поездку в купе поезда с похмельным, закусившим черт знает чем попутчиком, – и когда долгожданная конечная станция, никто не знает…
Он ошибается в любовнице и прозревает неверность, застав ее с индусом, торговцем лавки колониальных товаров; ошибается в друге, который «сливает» написанную Геной статью о пороках нынешней власти под названием «Клептократия» политическим оппонентам; ошибается в собственном отцовстве (отношения с дочерью вдруг резко портятся и жена открыто говорит ему, что ребенок не его)… Мало того, Скорятин, практически перестав общаться с дочерью, тем не менее периодически отсылает ей деньги, которые та, как выясняется в конце концов, отдает своему настоящему отцу, выпавшему ныне из журналистской обоймы, выброшенному на помойку современной российской истории. Кажется, что автор, нанося герою удар за ударом, даже переходит некую границу правдоподобия, гротескно сгущая абсурдные факты его жизни, нагромождая заблуждение за заблуждением, заставляя героя вновь и вновь расставаться с иллюзиями, переживать отрезвление, обрекая его на мильон терзаний.
Казалось бы, сама судьба кидает Скорятину спасательный круг: в редакционной почте он находит письмо из небольшого провинциального городка Тихославля, к которому прикреплена фотография милой девушки с наивной надписью: «Это наша Ниночка в день рождения. Не забывай нас!»
Эта фотография и мотивирует обращение Гены Скорятина в прошлое, в давнюю историю любви, которая через много лет поманила его знакомством с дочерью, о существовании которой он не знал…
Поляков использует характерную для него жанровую романную форму, прибегая к приему сжатия времени: сюжетное действие романа охватывает один день, а фабула вмещает всю жизнь персонажа. Именно так построен роман «Замыслил я побег…» (1999). Олег Трудович Башмаков, уходя из семьи и желая избежать муторного объяснения с женой, готовится к замысленному побегу и собирает вещи, необходимые ему в новой жизни с молоденькой любовницей Ветой. Каждый предмет, вещь, бытовая деталь мотивируют обращение героя в прошлое, где «перед ним воображенье свой пестрый мечет фараон». Случайная и, казалось бы, сюжетно немотивированная гибель героя оказывается объяснена всей логикой неудачной жизни, которая предстает перед читателем не в сюжете, но в фабуле, тогда как сам сюжет включает в себя лишь несколько часов чемоданных сборов.
Тот же принцип романной композиции писатель реализует и в новом своем произведении. Проведя весь день в редакции и узнав об изменах любовницы, о дочери, таскающей его деньги первому мужчине матери и своему настоящему отцу, о предательстве друга-соратника, а в конце рабочего дня – о собственном увольнении, Гена Скорятин вспоминает практически весь свой жизненный путь, который завершился, судя по всему, вечером того же самого дня, такого длинного и тяжелого для героя.
Однако между двумя романами – целых полтора десятилетия, что не могло не отразиться на их проблематике. «Любовь в эпоху перемен» – и сложнее, и обладает теми смыслами, которые, наверное, не могли воплотиться в конце прошлого века, когда создавался роман «Замыслил я побег…». Иными словами, национальный исторический опыт первых полутора десятилетий века XXI и осмыслен, и отражен в новом произведении в первую очередь в частной судьбе его героя, человека, непосредственно включенного в исторические процессы современности и в силу своей профессии, и в силу своего склада мышления. Заставая главного редактора «Мымры» в день, исполненный тяжелых прозрений и внезапно мелькнувших, но обманувших надежд, мы соотносим его частную судьбу с национальной исторической судьбой, время его частной жизни с историческим временем.
«Любовь в эпоху перемен» – само название указывает на многие смыслы и готовит к их истолкованию. Знаменитое китайское проклятие, широко известное в 90-е годы («чтобы жить тебе в эпоху перемен»), отсылает читателя, помнящего нашу «эпоху перемен», к его собственному опыту тех лет. Неожиданно «эпоха перемен» возникает в эпиграфе – стихотворной строфе некого Сунь Цзы Ло (насколько мы знаем, такого поэта ни в одну эпоху китайской истории, как общей, так и литературной, не существовало). Написанная автором и стилизованная в духе китайской образности строфа завершается строкой «Грустна любовь в эпоху перемен…», которая и предлагает один из возможных кодов интерпретации романа: соотнесение частного и исторического сюжетов. И в самом деле, главное событие личной жизни Гены Скорятина, которое и мелькнуло через два десятилетия обманным лучиком надежды, как раз и приходится на время исторических перемен национальной судьбы, которое герой так и не отважился сделать временем перемен судьбы частной.
Так мы подходим, возможно, к главному вопросу романа, формирующему его проблематику: насколько плодотворной могла быть эпоха перемен в русской социально-политической жизни и насколько сильно обманула она тогда, четверть века назад? И ответ на этот вопрос дается через личный сюжет романа: эпоха перемен обещала герою любовь и новую жизнь – его собственную, семейную, с женщиной, способной его понять и принять. И обманула. Потенциала эпохи перемен не хватило не только на национальную жизнь, но и на личную. Впрочем, частная судьба в романе Полякова оказывается отражением судьбы национальной… До чего же знакомый сюжет – русский человек на rendez-vous! Герой встречает женщину, с которой готов связать жизнь, а потом теряет – по собственной нерешительности и из-за желания все как следует взвесить и оценить, как у Тургенева в «Асе», по неумению понять себя самого и представить вовремя, что теряешь, как у Бунина в «Солнечном ударе», или потому что дает возможность постылой жене и ее любовнику разрушить только что возникшую любовь. Так – в новом романе Полякова. И потерять навсегда, чтобы жгло потом всю жизнь. Ведь вспоминая о Зое, милой девушке, встреченной во время командировки в уютный провинциальный городок Тихославль, и потеряв ее, «Гена вздрагивал всем телом, словно от удара широкого отцовского ремня, и слезы обиды сыпались из глаз. Чувство непоправимой потери мучило и мешало жить. Он просыпался ночью, тихо лежал, перебирая в памяти мгновения… Ему казалось, если удастся вспомнить какую-нибудь забытую нежность или прикосновение, случится чудо: все вернется и останется. Но ничего, конечно, не возвращалось, и душа ныла от плаксивого отчаяния… И наконец память о короткой любви превратилась в туманную печаль об утраченной молодости с ее ослепительными безумствами. Лишь иногда, при знакомстве с какой-нибудь женщиной по имени Зоя, вздрагивало сердце и на миг терялось дыхание».
Как и всегда, русский человек на rendez-vous проявляет удивительную беспомощность и несамостоятельность. Он почему-то позволяет своему начальнику, тогдашнему редактору еженедельника Исидору Шабельскому, который по совместительству выполняет еще и обязанности любовника Ласской, жены Скорятина, объясниться с Зоей и открыть ей, что в семье Геннадия Скорятина ждут ребенка, утаив, правда, вопрос об отцовстве. Ведь ситуация усугубляется тем, что жена Гены ждет ребенка от своего любовника, а не от мужа. Впрочем, познать эту истину Скорятину придется еще не скоро. Этот сюрприз автор припасает для героя ближе к концу, а все точки над i расставляет самый последний день, тот самый, когда мы и застаем Скорятина в его редакционном кабинете. Слеп человек…
Эпоха перемен обещала многое – это знает каждый, кто пережил социальную эйфорию конца 80-х и кто помнит тяжелое похмелье начала 90-х с двумя путчами, танками на Новоарбатском мосту, лупящими прямой наводкой по собственному Парламенту… Фотография дочери, которая лежит на столе у героя, мотивирует возвращение в ту самую эпоху перемен, на четверть века назад, и заставляет подумать о том, что она дала – и в плане социальном, и в плане личном.
Она обещала очень много! И Поляков намеренно совмещает надежды социальные и планы личные. Молодой журналист Геннадий Скорятин, страстный адепт Перестройки и проповедник Гласности, приезжает в Тихославль и не только будоражит публику в библиотечном зале расхожими пропагандистскими штампами того времени, искренне принимая их за грани исторической правды и сокрытые аспекты национального опыта, но и встречает любовь всей своей жизни. Не здесь ли та самая эпоха перемен, потенциал которой можно реализовать, оставшись с Зоей, взяв ее в жены, разрушить жизнь с неверной женой? Но для этого-то нужны определенные личные усилия – одного лишь ветра перемен недостаточно. А их-то и не хватает обычно русскому человеку на rendez-vous. Эпоха перемен предоставляет множество возможностей, но реализовать их нужно самому. Не потому ли так часто мы обвиняем время, среду, обстоятельства, эпоху в том, что не воспользовались заложенным в ней потенциалом, как будто за нас это должны были сделать время, среда, – та самая эпоха, которая давала надежды, но обманула. Может, мы сами себя обманываем, не пользуясь заложенными в наши времена надеждами?
Эпоха перемен несла в себе потенциал изменения к лучшему – и в социально-политической сфере, и в личной, по крайней мере для героя Ю. Полякова. Обернулась она в социально-политической сфере величайшей геополитической катастрофой: крушением СССР. В личной – крахом семейной жизни, мелькнувшей, обжегшей, но несостоявшейся любовью. В результате теперь, уже в наши дни, рыцарь «Золотого пера», ярый пропагандист Гласности и свободы слова зависит от капризов хозяина газеты, беглого олигарха Корчмарика, отсиживающегося в Ницце и оттуда руководящего изданием, относящегося к журналистам примерно так, как плантатор к неграм. За приступы дикой злобы и непредсказуемость редакционной политики, которая зависит исключительно от околовластных прихотей и политических хитросплетений, сотрудники редакции зовут своего заграничного издателя-владельца Кошмариком.
Когда мы привычно твердим об историческом времени, то забываем, что это своего рода иллюзия. Время, один из самых таинственных и фантастических феноменов жизни, предстает перед нами в трех ипостасях: прошлое, настоящее, будущее. Прошлого, строго говоря, больше нет: есть наши общие и индивидуальные представления о том, каково оно было. Представления эти и разнятся, и меняются, порой кардинально, поэтому шутка о непредсказуемости прошлого имеет вполне реальные основания. Но ведь и будущего нет: будущее – это всего лишь спектр возможностей, которые транслирует в него настоящее. Какие из этих возможностей реализуются, какие нет – трудно сказать. Все зависит от наших совокупных усилий, заблуждений, убеждений, упорства и лености, и от множества случайностей, которые от нас, увы, не зависят.
А что же такое настоящее? Этот крохотный отрезок длительности между прошлым и будущим есть, пожалуй, единственная подлинная, ощутимая здесь и теперь реалия времени. Но она имеет значение лишь тогда, когда несет в себе потенциалы, сформировавшиеся в прошлом, и обуславливает будущее. Иными словами, в настоящем сходятся прошлое и будущее, наполняя категорию времени смыслом как историческим, так и личным. Лишь тогда время «обживается», наполняется присутствием национального духа. Иными словами, время обретает смысл лишь тогда, когда связь между прошлым и нынешним очевидна. Замечательный исследователь средневековой культуры А. Я. Гуревич дал прекрасное определение времени, актуальность которого представляется очевидной не только в отношении к Средневековью, но и к Новому и Новейшему времени: «Время – это солидарность человеческих поколений, сменяющихся и возвращающихся подобно временам года».
Осознание времени как «солидарности человеческих поколений» подразумевает, что ушедшие поколения понимаются не как «почва» или «материал» для утверждения и укоренения ныне живущих, но как присутствующие здесь и сейчас, но не в плане мистическом или трансцендентном. Речь идет о том, что настоящее воспринимается как плод их трудов, усилий, приносимых жертв, как результат их созидательной исторической деятельности, причем в совокупности всех ушедших поколений. В таком случае и жизнь людей, существующих в настоящем, наполняется историческим смыслом: они транслируют в будущее опыт тех, кто прошел свой черед раньше, вкладывая в него свой, и очень немалый, опыт. Тогда есть все основания полагать, что и будущее реально существует, опираясь на настоящее, исходя из него, в виде потенций, которые непременно будут реализованы. В таком случае настоящее избегает гамлетовского скептицизма, разъедающего, эрозирующего смысл времени: мир тогда не предстает перед людьми, вывихнувшимся из коленного сустава, как говорил Шекспир; дней связующая нить не распадается, как переводил слова Гамлета Пастернак.
В романе Полякова мы видим мир вне прошлого и настоящего. Скорятин мечется в настоящем, пытая прошлое и тщась понять, какие же из тех, как казалось, богатейших возможностей реализовались сейчас? И здесь возникает еще один очень важный мотив «Любви в эпоху перемен»: это мотив онтологической пустоты. Мучительные возвращения в прошлое обнаруживают, что, в сущности, время перестройки и последовавшее за ним не было «эпохой перемен», жить в которую так боятся китайцы; скорее, это было время тягчайших исторических деформаций, смысл которых сводился к насильственному разъятию времени; тектонических изменений национальной культуры, невероятным усилием вывихнувших советский мир из его коленного сустава.
Когда мы говорим о времени, то, в сущности, речь идет о реализовавшихся потенциях прошлого в настоящем и возможности их прорастания в будущем. Или же, напротив, о сломе времени: когда здоровый потенциал развития не реализуется, а начинает доминировать вектор, еле различимый ранее, маргинальный, вроде бы и не имеющий смысла, но все более и более заметный, отрицающий иные перспективы развития, чем те, на которые указывает сам. Такой момент, когда направление исторического движения может резко измениться, называется в науке точкой бифуркации. Это момент, когда любая система, будь то частная человеческая судьба или государственное устройство, находятся в «неравновесном состоянии» и любая мелочь, пылинка, случайность может определить новое, и далеко не всегда лучшее, направление развития – будь то частная судьба или же национальный путь. Тогда время как целостность, как единство прошлого и будущего распадается на несвязанные друг с другом и совершенно случайные фрагменты, не соединяющие поколения по вертикали времени, но разъединяющие его. Размышляя о подобном периоде нашей общей истории, Поляков так характеризует мироощущение человека, в судьбе которого сбылось китайское проклятие: «И мозг озарялся страшным открытием: они родились и жили в стране с омерзительным прошлым, отвратительным настоящим и безнадежным будущим». Это и есть страшная реализация гамлетовской метафоры: распалась связь времен… Или, добавим от себя: это ситуация, когда человек выпал из своего времени. И не один человек… А ведь время – это тоже родина, и его нужно тоже беречь, им нужно бы тоже гордиться. И это чувство было прекрасно известно раньше: «Наше время еще занесут на скрижали. В толстых книгах напишут о людях тридцатых годов», – с гордостью писал К. Симонов. Увы, этого чувства не знают герои Ю. Полякова. Тотальной утратой смыслов своего времени обернулась для них точка бифуркации – горбачевская перестройка.
Катастрофически оборваны преемственные нити между прошлым и настоящем. А уж о будущем и речи нет. Его просто-напросто не существует: о нем герой не думает, всматриваясь в давнюю уже эпоху перемен, порвавшую, как стало ясно, все связи с прошлыми, советскими, «застойными», временами, и не обретшую новых связей по вертикали времени – ни с прошлым, ни с будущим.
Да, именно она была такой точкой бифуркации в нашей истории – та самая «эпоха перемен». Поначалу она отрицала отжившее, мешающее движению вперед (даже назвали ее Горбачев со товарищи поначалу Ускорением). Она покушалась на старую мифологию, на немотивированные запреты личной и социальной жизни, она обещала свободу…
Честно говоря, автор этих строк не вполне и не всегда готов бранить эпоху перемен, те самые 90-е годы, которые в ныне созданной мифологии именуются «бандитскими». Здесь ведь тоже полуправда, и не только бандитскими разборками, рейдерскими захватами и долларами, инкассируемыми в коробках из-под ксерокса (кто помнит – тот поймет), она характеризовалась. Эта эпоха дала нам, людям, профессионально связанным с современной русской литературой и ее историей, невероятные в советские времена степени свободы, которые мы ощущаем как неотъемлемые и по сей день. Это и отмена цензуры, и возвращение к читателю всех трех волн русской эмиграции, публикация потаенной, «катакомбной» литературы. Это и свобода исследовательской методологии, и возвращение к русской религиозно-философской традиции, и свободное сосуществование в современной литературе самых разных «направлений» – от почвеннического до крайне либерального. И Юрий Поляков, писатель, первыми же своими вещами заявивший о себе как о «колебателе основ», был одним из тех, кто степени этой свободы расширял – вспомнить хотя бы «Сто дней до приказа», которые представили армию несколько иначе, чем о ней рассказывал советский фильм «Солдат Иван Бровкин».
Но почему эта свобода, в первую очередь коснувшаяся гуманитарного знания, в принципе уничтожившая какие-либо ограничения гуманитарной мысли, привела к тотальному разрушению прежних бытийных основ – неужели они держались только на советских табу, на запрете Мандельштама, Набокова и Ахматовой? И пусть герой романа «Любовь в эпоху перемен» не задается таким вопросом, он обращается мыслями на четверть века назад, пытаясь понять, почему и в чем эпоха перемен его обманула.
Как же это все близко вроде бы: битком набитые залы, встречи с журналистами, политиками, с прорабами перестройки – рукой подать… И какой же дешевой демагогией выглядят сейчас лозунги и пропагандистские клише той поры… Писатель их дословно воспроизводит: «Почему в цивилизованных странах каждый человек самоценен, а у нас швыряются миллионами жизней? Отчего наш исторический путь вымощен трупами, как улицы вашего прекрасного города булыжниками? Петербург стоит на костях, гиганты пятилеток – на костях, колхозы – на костях… Вы не думали, почему наш государственный флаг весь красный? … Это еще надо разобраться, кто был большим фашистом, Сталин или Гитлер. Почему мы живем хуже всех?» Эта демагогия, не просто перечеркивавшая русский исторический опыт, но принципиально его отрицающая, будто бы обещала, что жить мы будем не хуже всех, а лучше всех, что станем самой «цивилизованной страной» (не очень понятно, что это значит), что у нас будет не только самые лучшие танки, но и краны течь не будут. А путь ко всему этому – в Гласности, в Перестройке.
Поляков заставляет героя сопоставить настоящее и прошлое – и обнаружить удивительную вещь: от гласности остались немного стыдные воспоминания, а в настоящем каждое его печатное слово зависит от прихотей хозяина газеты Кошмарика, и единственное слово, которое свободно в «Мымре», – это его слово, владельца заводов, газет, пароходов… «А теперь задумаешься: стоило ли выбираться из-под теплых, привычных ягодиц тетушки КПСС, чтобы угодить под костлявую, вечно ерзающую задницу Кошмарика?» – горькая ирония Скорятина, который задается этим воистину философским вопросом, по крайней мере свидетельствует о неоднозначности ответа…
Сопоставления временных планов, на котором роман держится композиционно, обнаруживают тотальный разрыв преемственных связей по вертикали времени. Ничего не вышло из обещаний той эпохи: гласность обернулась немотой, зависимость от идеологии – еще более страшной зависимостью от прихотей хозяина, цензура политико-идеологическая – еще более страшной цензурой рынка. И если политическую цензуру можно было обойти, обманув Главлит, отдав рукопись в самиздат, переправив на Запад, то цензуру рынка не обойти никак – она всевластна! В результате апологет Гласности и горбачевского нового мышления выполняет теперь любую политическую прихоть Кошмарика, а ослушание вызывает реакцию в духе Органчика: «Разгоню всех к чертям собачьим!»
Несоотнесенность двух временных планов становится лейтмотивом книги, проходит через мелкие, казалось бы, эпизоды. Вот, например, модный бард и менестрель дает Скорятину интервью, торопливо рассказывая (на гастроли в Венгрию улетает), «как задыхается в этой стране с уродским названием СССР». Прощаясь, он поет журналисту свою новую композицию, которая начинается словами «Мне скучно в этой огромной стране…», а заканчивается строфой «Поднимите нам веки,/Поднимите с колен!/Мы хотим перемен!/Мы хотим перемен!». После этой сцены следует ироничный авторский комментарий: «Теперь Семен Кусков – владелец сети винных бутиков «Чин-чин», но песенки про свободу до сих пор сочиняет и поет в правильных местах, к примеру, на хлебосольных презентациях сенатора Буханова». Вероятно, перемены, которых взыскала страстная душа артиста, не были связаны с обретением «правильных мест», где можно петь крамолу, и стремлением к хлебосольным презентациям. В подтексте все же что-то другое подразумевалось…
В романе остается единственно возможное для героев восприятие времени: как изменения к худшему. «Время – это какой-то сумасшедший косметический хирург, который злорадно лепит из молодого прекрасного лица обрюзгшую ряху», – подумает Скорятин, глядя на свое отражение.
Отсутствие связей прошлого с настоящим – знак того, что «эпоха перемен» оказалась эпохой онтологической пустоты, поглотившей исторические смыслы прошлого и не несущей в себе никаких собственных исторических смыслов. И та свобода гуманитарного знания, о которой уже шла речь, обретенная тогда и существующая по сей день, есть не результат исторических смыслов эпохи перемен, но результат аннигиляции тех ограничителей советского прошлого, которые ее сдерживали. Иными словами: свобода, обретенная тогда, есть не осмысленное действие той эпохи, а просто результат разрушения старых смыслов. И зачем обуздывать обретенную тогда свободу гуманитарной мысли? Да делайте что хотите… Смысла нет ограничивать. По крайней мере, Кошмарику и ему подобным, имеющим теперь реальную власть. Власть клептократии, о которой Гена написал статью, но так и не посмел опубликовать. Не те теперь времена. Где ты, гласность?.. Можно, конечно же, ослушаться хозяина и вести себя независимо, но это «значит навсегда выпасть из обоймы, вылететь из «Мымры», лишиться всего: положения, денег, поездок, тех же посольских приемов… Зачем? Чтобы сказать правду?» Но и правда, по мысли главного редактора, тоже подвержена эрозии и не имеет ценности в нынешнем безвременье, пришедшем после эпохи перемен: «нет, не для того, чтобы сказать правду, а для того, чтобы нести ересь, которая выглядит правдоподобной лишь потому, что ее выкрикивают обиженные и обманутые». К таким обиженным и обманутым Гена примыкать не хочет, предпочитая тиранию Кошмарика.
Есть в проблематике романа еще один аспект, которого деликатно касается писатель. Это вопрос о том, насколько счастлив может быть человек в смешанном браке. Ведь всякий брак, если вспомнить замечательный афоризм Ю. Трифонова, – «не соединение двух людей, как думают, а соединение или сшибка двух кланов, двух миров. Всякий брак – двоемирие». И это совсем уж двоемирие, если речь идет о соединении в браке людей разных национальностей.
«Скорятину, отпрыску русских пахарей, порой становилось дико и смешно от мысли, что его первенец живет теперь у Мертвого моря, носит трудно выговариваемое имя Барух бен Исраэль и воюет с арабами за клочок обетованной земли величиной с колхозный пустырь. Как, в какой момент Борька стал буйным иудеем, страдающим за каждую пядь Голанских высот, словно это его собственная кожа?» Этим вопросом задается Геннадий Скорятин, итожа результаты своего брака с надменной однокурсницей Ласской: сын – иудей, закончивший университет в Хайфе, воюющий в израильской армии, а дочка Вика – чужая и по крови, и по духу: вот уж у нее с ее биологическим отцом национальных трений нет…
«У нас, евреев, такими вопросами занимаются женщины», – гордо скажет Ласская своему мужу, отбирая последнюю надежду уйти, развестись, начать новую, на сей раз самостоятельную жизнь. Купленный втайне от жены кооператив безжалостно разоблачен главным редактором «Мымры», начальником Скорятина и любовником его жены. Конечно, попытка эмансипации не выглядела очень уж твердой и уверенной, но все же она была. Но в словах Марины содержится ключ к их отношениям вообще: именно она решает все вопросы, притом не только в семье, но и в жизни Гены, дед которого землю пахал, как сам он вспоминает, смутно ощущая свое родство с разночинцем Базаровым. Вот так складывается жизнь разночинца, ставшего примаком в еврейской семье. «Свое и чужое начинают различать позже», – случайно услышал Скорятин от своей будущей тещи – так она характеризовала неравный брак своей дочери, явный, по ее мнению, мезальянс. В правоте ее слов и сам Скорятин убедился вполне, расплачиваясь всю жизнь за слишком поздние прозрения на предмет своего и чужого.
Речь здесь идет о несовместимости национальных культурных кодов, несовпадение которых в брачном союзе столь же губительно, как и в общей исторической ретроспективе. Пожалуй, Поляков впервые после двухтомника А. Солженицына «Двести лет вместе» это несовпадение национальных кодов, бытовых и бытийных, сделал предметом изображения, определяющим важные аспекты проблематики романа. Только Солженицын прослеживал общий вектор национальной русской судьбы, а Поляков показал его отражение в частной судьбе своего героя, обнаружив тотальное несовпадение двух взглядов на мир. И в этой несовместимости еще одна причина катастрофы, постигающей героя. Как и в том, что распалась связь времен, мир вывихнулся из сустава…
Один из романов Маркеса, написанный уже после получения им Нобелевской премии, называется «Любовь во время чумы». Переводчики сознательно изменили название романа, включая его в наш культурный код (в оригинале – «Любовь во времена холеры»). Конечно же, никакой чумы в начале ХХ века, когда романное действие завершается соединением счастливых любовников, уже не было, речь идет о холерном карантине, но пушкинский «Пир во время чумы» оказывается значимее исторических реалий. Маркес создал, пожалуй, уникальное произведение, показывающее, что любви всей жизни можно дождаться, если терпеливо ждать, и в глубокой старости она еще более остра и ценна, чем в молодости. Любовь, потерянную в ранней юности, человек лелеял всю жизнь и получил свою возлюбленную в глубокой старости, что не помешало насладиться обоим всеми прелестями любви и чувственной, и духовной. Маркес соединяет юность, когда любовь вспыхнула, со старостью, когда судьба позволила героям соединиться, обнаруживая нерушимую связь времен в частной судьбе.
Сходство композиционной структуры двух романов про любовь – «Любовь в эпоху перемен» и «Любовь во время чумы» – не только в названии, которое соединяет частное и историческое время. Оно и в композиционной структуре, которую избирают оба писателя, испытывая потребность в соединении частной судьбы и национально-исторических событий: в стране Карибского региона на рубеже XIX–XX веков и в России на рубеже ХХ – ХХI веков. Различие между ними состоит в том опыте, который извлекают из этого соединения писатели. У Маркеса – радостная песнь любви, победившей всемогущее время. У Полякова – реквием светлым надеждам обманувшей нас эпохи перемен.
Неужели все так грустно у Полякова?
Нет, не все. Есть вещи, которые дают личности возможность активного противостояния и онтологической пустоте, и распавшейся связи времен. Одна из них – творчество. Именно о творчестве роман «Гипсовый трубач». Это самый объемный роман писателя. Он позволил себе писать не останавливаясь, столько, сколько понадобится, не задумываясь об объеме. Он сравнил свой текст, все нарастающий в объеме, с подходящим тестом, вылезающим из кастрюли, которое хозяйка (автор в нашем случае) и не собирается особо запихивать, уминая, обратно. А пусть себе лезет! Сколько будет, столько будет! Вот и получился в результате такой объемный, больше тысячи страниц, роман.
Естественно, такое произведение не может не рассыпаться без очень сильных композиционных скреп, которые объединяли бы сотни героев, связанных и не связанных сюжетно друг с другом, которые внезапно появляются в романе и столь же быстро исчезают из него; сотни не связанных друг с другом положений и ситуаций, кажется, распадутся, а строгая романная форма утратится, и текст, действительно, превратится в бесформенное тесто, вылезшее на стол из кастрюли – замысла.
Традиционно композиционное единство романа формируется сюжетом, т. е. системой событий, связанных друг с другом причинно-следственными отношениями, и включающих в себя главных героев произведения. Но ни один сюжет, даже самый разветвленный и хитро закрученный, не включит в себя сотни героев «Гипсового трубача» и не выдержит такой нагрузки – он просто обречен разрушиться и превратиться в ворох никак не соотнесенных друг с другом эпизодов.
Но этого не происходит. Поляков находит композиционный принцип, на котором держится роман. Два странных человека, несомненно, творчески одаренных, оказываются объединены одной задачей: снять фильм. Этот тандем составляют неудачливый режиссер, ныне значительно более успешный ресторатор, Горынин и писатель «очень второго ряда», как сказал бы В. Набоков, Кокотов, написавший, впрочем, один удачный рассказ «Гипсовый трубач» – он тоже включен в безбрежный текст романа. Никакого фильма в результате не получается: все погружается в бесконечные разговоры ни о чем. Писодей и кукловод, как называют себя соавторы, погружаются в бесконечную пучину воспоминаний, размышлений на тему «а вот так тоже было», становятся свидетелями и участниками жизни в Ипокренино, включаются в борьбу за спасение не то дома творчества, не то дома престарелых работников искусств от банды некого Ибрагимбыкова, который, как водится, собирается его приватизировать. Таким образом создается кумулятивный сюжетно-композиционный принцип, если воспользоваться терминологией В. Я. Проппа, описавшего его действие в сюжете волшебной сказки. Его суть состоит в том, что множество событий, ситуаций, характеров и положений, воссозданных в романе, связаны друг с другом не сюжетными причинно-следственными связями, а ассоциативными, возникающими в ходе трезвых (и не всегда) разговоров соавторов. Никакого фильма в конце концов, конечно же, не получается, но у мнимых соавторов возникает подлинная иллюзия творческого озарения. Экстатическое восклицание Жарынина «О, как я это сниму!» становится лейтмотивом романа и мотивирует включение в него по принципу ассоциативной связи множество эпизодов, воспоминаний, ложных сюжетных ходов, которые, как может показаться наивному читателю, и начнут сейчас развиваться – и тут же угасают, обманув читательское ожидание. Иные ходы и композиционные связи завязываются вокруг борьбы за Ипокроенино, за спасение которого смело берется Жарынин.
Соавторы писодей (Кокотов, несостоявшийся автор так и не написанного синопсиса) и игровод (экс-кинорежиссер Жарынин, ныне ресторатор, тоскующий по творческому свершению) болтают в романе больше всего, имея для этого каждый свои психологические мотивации. Но главное в том, что оба тоскуют по подлинному творчеству, оба стремятся к нему. Увы, этим стремлениям не дано осуществиться: фильм не снят, синопсис не написан… Слова, ставшие лейтмотивом образа Жарынина «О, как я это сниму!» лишь подчеркивают иллюзорности возможности что-нибудь снять. Именно в их «болтовне», которая развивается на фоне сюжета с Ипокренино, и обнаруживается глубинная и очень трагическая нота романа: оба героя не обладают творческим потенциалом, способным вывести их из жизненной рутины, которая осмысляется как безнадежность: режиссер становится ресторатором, создатель блестящей новеллы о гипсовом трубаче пишет бульварные романы под женским псевдонимом, якобы представляющие собой перевод с французского…
Таким образом, мы видим героев в весьма трагической ситуации, обнаруживающей разрывы исторического времени. Их настоящее – старики из Ипокренино, у которых все в прошлом; нет будущего: фильм даже не начат. Да в общем, и настоящего настоящего у них нет: душегубы Ибрагимбыкова – просто труппа Театра имени Мцыри, играющая по сходной цене бандитов-рэкетиров, а сам Ибрагимбыков – заслуженный артист республики и заведующий труппой. Поэтому случившееся кровопролитие тоже какое-то не настоящее, напоминающее клоунаду, а кровь – клюквенный сок из «Балаганчика» А. Блока. Комическое лишь подчеркивает трагическую безысходность положения героев… Игровод явно переиграл – и стал жертвой собственной игры.
Действие романа происходит уже в двухтысячные годы, но постоянные вкрапляющиеся эпизоды и положения относят читателя в предшествующие эпохи, в первую очередь эпоху 90-х годов. Наверное, это самое сложное и самое мифологизированное время нашей недавней истории. Миф о «лихих девяностых» слишком уж все упрощает. Как, впрочем, и всякий миф. И когда Поляков воссоздает ситуации, вроде бы вписывающиеся в эту мифологию, он все равно идет дальше и преодолевает упрощенность мифологического сознания: в романе «Замыслил я побег…», в повести «Небо падших» показана эрозия не нравственных, а онтологических ценностей.
А вот как обозначить первое десятилетие нынешнего века, когда, собственно, и происходит поездка в Ипокренино писодея и игровода? Мифологии этого времени пока еще нет, но его образ ярко запечатлен в «Гипсовом трубаче».
* * *
«Повесть о светлом прошлом» – так назвал писатель трилогию «Совдетство», над которой увлеченно работал в последние три года. Их жанр трудно определить: это роман-ностальгия, отправляющий читателя вслед за автором на поиски утраченного времени. С типологической точки зрения трилогия Полякова близка знаменитому фильму Феллини «Амаркорд» (Я вспоминаю). Эти воспоминания ценны сами по себе: автору удается заставить своего читателя испытать ностальгию по 60-м годам, а тех, кто не застал то время, полюбить идеализированные образы советской эпохи; но они ценны еще и воистину акмеистическим вниманием к деталям быта: цвету абажура в московской квартире (кто знает, что это такое, сейчас?) интерьеру, предметам сервировки стола, отполированной морде собаки пограничника на станции метро «Площадь Революции», а отсюда уже путь к московской мифологии, живущей и сейчас: попав на «Площадь Революции», посмотрите, как и по сей день сверкает довольная морда пса, старожила московского метро! Поляков рассказывает простую и интимную жизненную повесть в трилогии «Совдетство», с любовью представляя бытовые детали домашней кухни, московского метро, булочной-кондитерской, московского двора, интимные переживания молодого человека. Иными словами, творит замечательный миф о Москве своего детства.
Миф – отнюдь не неправда. Миф есть форма нашего мышления, которая позволяет нам воспринимать и структурировать окружающий нас мир. Бывают мифы деструктивные, разрушающие реальность; бывают, напротив, светлые, творящие ее замечательный образ, пусть и приукрашенный, идеализированный сознанием взрослого состоявшегося человека, который с благодарностью вспоминает эпоху своей юности и тех людей, что жили тогда и смогли передать настоящему и, хочется надеяться, будущему свою мудрость, силу и доброту.
Говоря о прозе Полякова, мы не коснулись других важнейших родовых составляющих его метаромана: драматургии, поэзии и публицистики. А эти явления не менее важны в палитре его творчества.
Поэзия – особая сфера, и читать ее и говорить о ней нужно иначе, чем о прозе и драме. О ней нужен отдельный разговор. Здесь же обратим внимание на то, что в лирике Полякова почти нет того, что пронизывает все его творчество: иронии, гротеска, фарсового начала, которое проявляется с избытком в драме и прозе. А тут он серьезен и… лиричен. Усвоив уроки акмеистического письма, он обращается к обыденности (случайной встрече, райкомовскому суетному дню) и возводит ее на уровень проникновенной лирической глубины. Стихотворение «Старый друг» воспроизводит малозначительную уличную сценку: «Я прохожего толкнул, я извинился…», которая оборачивается не просто встречей друзей, но и грустным мотивом уходящего времени: «Друг мой, друг, / вот время и коснулось / Нас испепеляющим крылом». Это дает возможность предельного расширения поэтического контекста: здесь окажется и городской трамвай, коммунальная квартира, кухонный и коридорный инвентарь. Такое расширение поэтического контекста обусловлено стремлением сделать доступным лирическому сознанию самые разные стороны бытия, если угодно, увидеть прекрасное в обыденном. Редкий дар для русского поэта. Или русского человека вообще?
Самое удивительное при этом: в поэзии поворачиваются новыми гранями основные темы творчества. Тут и армия, и дружба, и военная тематика, и любовь, и мотивы «Совдетства», и работа в РК ВЛКСМ, и жизнь школьного учителя, и эрозия нравственных ценностей… Тут и попытки осмыслить революцию 1917 года, и размышления о Пушкине и его эпохе… И все же не может он обойтись совсем без иронии! Стихотворение «Иронический автопортрет» создает образ поэта-поденщика, которым Поляков, разумеется, никогда не был: «Он пишет в автобусе, в поезде и в самолете, / Использует также троллейбус, метро и трамвай, / Поэтому эпоса вы у него не найдете: / Сложил три куплета – и хватит, приехал, вставай!»