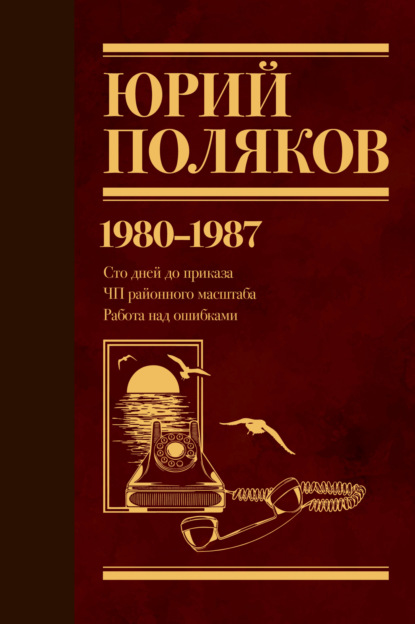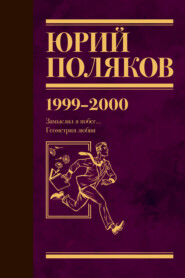По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений. Том 1. 1980–1987
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Собрание сочинений. Том 1. 1980–1987
Юрий Михайлович Поляков
Юбилейный Поляков
В первый том собрания сочинений включены те самые знаменитые повести, с которыми Юрий Поляков вошел в отечественную словесность в середине 1980-х, став одним из самых ярких художественных явлений последних лет существования Советского Союза. Сегодня эта, некогда полузапретная, проза нисколько не устарела, наоборот, словно выдержанное вино приобрела особую ценность. Написанная рукой мастера, она читается с неослабным интересом и позволяет лучше осознать прошлое, без которого сегодняшний день непостижим. Хотите понять, почему рухнул СССР? Читайте Полякова. Хотите понять, почему СССР можно было сохранить? Читайте Полякова…
Юрий Михайлович Поляков
Собрание сочинений
1980–1987
Том 1
© Поляков Ю.М.
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Классика нового времени
Лет эдак через сто (добавьте или убавьте полсотни лет) наш с вами сегодняшний день будут изучать, среди прочего, по пятнадцатитомному собранию сочинений Юрия Полякова, счастливым обладателем которого является читатель этих строк. За полвека работы в литературе писатель сумел воссоздать целую галерею литературных типов, характеризующих временной промежуток между поздней советской эпохой и первой четвертью ХХI века. Социальные типы этого времени вереницей проходят перед читателем: это «деды» и «салаги» в армейской казарме 70-х годов, мечтающие о «дембеле»; молодые партийные работники, незаметно для себя теряющие естественные человеческие рефлексы; начинающие бронзоветь комсомольские секретари, неспособные понять причины ЧП районного масштаба; молодые школьные учителя, делающие работу над ошибками; «новые русские», для которых деньги и золотые цепи на бычьих шеях стали эквивалентом всех жизненных ценностей. В произведениях Полякова как в калейдоскопе мелькает множество представителей социальных слоев, выдвинутых этим временем на первый план русской жизни: это старики из дома творчества, который постепенно превратился в дом престарелых, греющихся в лучах давно погасших звезд их славы, чиновники, бизнесмены, бандиты из «лихих 90-х», писатели, строчащие литературную халтуру под иностранным женским псевдонимом, режиссеры-рестораторы, писатели, не написавшие ни слова, но ставшие громкими проектами…
Юрию Полякову удалось показать все наиболее значимые институты как советского, так и постсоветского времени: армия, школа, вуз, комсомол и партия, редакция социально-политического еженедельника первой четверти ХХI века, ну и, конечно же, литературная среда, сконцентрировавшаяся в ЦДЛ и в Союзе писателей. Мало того, Ю. Поляков не только показал социальные типы тех эпох, смену которых ему и людям его поколения довелось пережить, но создал уникальные литературные типы: писатель, не написавший ни слова, кинорежиссер, не снявший ни одного фильма… В его сатирических произведениях мы находим фантастические локусы, как, например, Демгородок, в который поселены узнаваемые политические деятели переходной эпохи, уже ушедшие с исторической арены, да еще все это закручено в лихой детективный сюжет.
* * *
Первые три повести Ю. Полякова: «ЧП районного масштаба» (1985), «Работа над ошибками» (1986) и «Сто дней до приказа» (1987) сыграли очень важную роль в истории новейшей русской литературы.
Поляков ставит в тяжелое положение критиков: все его вещи сопровождаются ироничными, но в то же время очень серьезными и глубокими эссе, которые можно бы назвать автокритикой. Это своеобразные тексты-сателлиты, как бы вращающиеся вокруг художественных текстов: «Как я был колебателем основ» (это о повестях «Сто дней до приказа» и о «ЧП районного масштаба», «Работа над ошибками»), «Как я был поэтом», «Как я варил «Козленка в молоке», «Как я писал «Апофегей» и т. д. Писатель выступает в несвойственной ему роли интерпретатора собственных произведений и того социально-политического и литературного контекста, из которого они возникли. Саморефлексия литературы происходит как бы минуя критика: писатель перехватывает у него эти функции. Но литературоведа, историка литературы, пусть и занимающегося современностью, это ставит в более выгодное положение. Задача осмысления закономерностей литературного процесса и общественно значимых смыслов, генерируемых литературой, упрощается. Писатель выступает как собеседник исследователя, прямо говорящий ему, неразумному, «что хотел сказать автор». Другое дело, что исследователь иногда по-другому видит то, что сказалось, а не только хотелось сказать. Однако автокомментарий автора для исследователя литературы бесценен.
Юрий Поляков вошел в литературу в тот момент, когда привычный по советским десятилетиям предсказуемый литературный процесс с противоборством традиционных журналов и направлений сменился литературным хаосом. Политическая либерализация, отмена цензуры привели к тому, что на страницы журналов хлынули запрещенные ранее произведения, появились имена писателей, которых в принципе не было в литературе: Владимир Набоков, Гайто Газданов, Евгений Замятин, поэты парижской ноты, Адамович и Ходасевич, Валерий Тарсис, появилось имя Солженицына, началась переоценка не только фигуры Сталина, но и Ленина. В истории литературы этот период приобрел имя публикаторского. Неразрешенные цензурой, отторгнутые от читателя произведения потеснили собственно современную литературу, и три повести Полякова, о которых спорили не менее жарко, чем о «Детях Арбата» А. Рыбакова и «Белых одеждах» Дудинцева, оказались едва ли не единственными, что увидели свет в тот период, а не в предшествующие советские десятилетия. И все же роль романов и повестей Рыбакова, Дудинцева, Айтматова, Распутина, Астафьева при всей их огромной значимости для истории литературы была принципиальной иной, чем у повестей Полякова. Они завершали прежний период литературной истории, давали ответы на вопросы, поставленные литературой второй половины ХХ века, деревенской, военной, городской прозой – подобно тому, как «Доктор Живаго» давал ответ той концепции революции, что была предложена А. Блоком в поэме «Двенадцать», т. е. завершал первую половину ХХ века, но не открывал следующего периода. А повести Полякова, напротив, открывали новый, современный нам, период литературного развития.
Почему?
Потому что они говорили запретную ранее правду – будто бы напрашивается ответ. Но ответ, увы, неправильный. А разве неправду говорил роман Дудинцева о научной генетической школе и истории ее разгрома в 40-е годы? Неправду говорил Рыбаков о судьбах детей Арбата в 30–40-е годы? Так ли уж неправдива история отношений Сталина и Кирова, рассказанная в этом романе? Или Астафьев в «Печальном детективе» с его размышлениями о немотивированной преступности, о корнях зла так уж неправдив? Да и вообще, критерий правды – не самый достоверный в искусстве. Ведь и литература социалистического реализма даже в самый жесткий момент формирования соцреалистического канона имела свою правду. И колхозный роман 30-х годов тоже имел свою правду – совсем иную, конечно, чем правда деревенской прозы 50–80-х годов, чем правда, о которой скажут Ф. Абрамов и В. Белов спустя два десятилетия. Но тоже имел свою правду, правду так никогда и не сбывшегося идеала советской деревенской жизни, основанной на принципах добра и справедливости. Так что не в правде дело. Литература, как ни странно это может показаться, не умеет лгать, она, если угодно, не знает неправды. Только ее правда далеко не всегда соотносится с правдой протокола или черно-белой фотографии.
Конечно, тогдашние повести Ю. Полякова говорили правду, притом о запретном, о том, о чем в СССР писать было нельзя. Поэтому они и валялись несколько лет в кабинетах военной и политической цензуры, а увидели свет тогда, когда цензура и государство ослабели и сдерживать напор запретной ранее литературы уже было невозможно. Недаром в романе «Веселая жизнь, или Секс в СССР» автобиографический герой Полякова молодой писатель Полуяков оказывается автором двух «непроходимых» повестей об армейской жизни и о жизни комсомола. Впрочем, если он будет вести себя хорошо, то цензурные запреты можно и ослабить…
Так что дело не в правде, а еще в чем-то. В том, наверное, что автор, человек молодой и глубоко укорененный в социально-исторических реалиях поздней советской жизни, писал не о прошлом, а о будущем. Он, пожалуй, оказался единственным реалистом позднего советского времени, который не скорбел о прошлом, но думал о настоящем и путях его совершенствования. И это принципиально отличало его от Распутина, который горевал об ушедшей деревне, показывая на ее месте невероятный поселок-бивуак («Пожар»); от Рыбакова и Дудинцева, углубившихся в сталинскую эпоху; от Астафьева с его пессимизмом в осмыслении природы зла. Поляков же думал о том, как нужно изменить советскую жизнь, вовсе не ставя под сомнение ее историческую правду и правоту.
Если взять «Сто дней до приказа», то в этой повести прямо ставится вопрос о том, что неблагополучно в армии, что такое дедовщина и почему офицеров вполне устраивает такое положение дел, когда молодые солдаты становятся объектом жесточайшего прессинга со стороны старослужащих. Почему в армии царит не взаимная поддержка людей, разделенных всего лишь одним-двумя годами (здесь даже и о разных поколениях говорить не приходится), но подавление и унижение, навыки которого передаются по наследству, и через год молодые, распрощавшись со «стариками», ведут себя по отношению к новому набору точно так же. И ответственность за эту ситуацию Поляков искал не в культе личности Сталина и не в ежовщине, а в современной ситуации, в эрозии морально-этических норм, затронувшей не только армию, но общество в целом.
Честно говоря, коллизия повести «ЧП районного масштаба» кажется сейчас и наивной, и легковесной. Мальчишку в РК ВЛКСМ обидели, не приняли в комсомол, не поверили, не вникли, отнеслись формально – и все это выясняется только к концу повести, да и то потому, что он забрался ночью в здание райкома и там напакостил, да еще украл знамя. Первого секретаря райкома вызывают из отпуска с Черноморского побережья, где он успешно охотится на крабов. Ну правда ведь, на фоне грядущих воистину всенародных испытаний (распад страны, ГКЧП, путч, обстрел танками собственного парламента и пр. и пр.) ЧП в Краснопролетарском райкоме комсомола не тянет на масштабную историю. Но это с нынешней точки зрения, когда мы знаем, что было потом. Так, однако, случилось, что эта первая, опубликованная еще до перестройки повесть Ю. Полякова сделала его знаменитым. И тоже потому, что не в прошлом он искал беды и их истоки, но в настоящем, заглядывая в меру отпущенного в будущее.
Впрочем, столь ли незначительна сюжетная ситуация, легшая в основу той ранней повести? Обратившись к ней, писатель обнаружил эрозию комсомола как своего рода министерства по делам молодежи, за которой он сумел разглядеть верные признаки эрозии советской цивилизации в целом и предугадать ее крушение. Поляков в этой вещи сумел уловить одну из самых страшных, «базисных» сторон советской цивилизации, которая и привела к ее гибели. Двоемыслие, представление о том, что можно и нужно говорить на комсомольском собрании и что дома или с друзьями, два дискурса, свободно сосуществующие в речевом и мыслительном обиходе, ложь привели к тому, что именно комсомол стал инкубатором будущих постсоветских нуворишей. Бесстыдно эксплуатируемые комсомольские мифологемы романтико-героического плана (например, Павка Корчагин как герой советской мифологии) и реальность аппаратных игр стала главным противоречием той среды, которую исследовал Поляков.
Уже значительно позже размышляя о тех давних своих шагах в литературе, он с сокрушением писал, что люди его поколения были призваны не к созидательной деятельности, как, скажем, писатели 30-х или 40-х годов, но, скорее, к разрушительной. Его первые повести будто бы дискредитировали и подталкивали к краху важнейшие институты советской эпохи: армию, комсомол, школу… При этом их автор никогда не был убежденным антикоммунистом, антисоветчиком, противником советской цивилизации, к которой, по его же признанию, «испытывал сложные, но не враждебные чувства». Однако общая и литературная история сложились так, что вопреки авторской воле писательские усилия Полякова в сложной общественной картине тех лет совпали с усилиями тех, кто бодался с дубом. И здесь мы выходим на самые сложные литературные и общественно-политические контексты творчества писателя.
«Бодался теленок с дубом» – так назвал А. И. Солженицын с огромной долей самоиронии свою книгу очерков литературной жизни 50–70-х годов. Ироничность заложена в самой русской поговорке, которую использовал писатель: когда у теленка режутся рожки, он чешет их о забор, о ворота, о дуб. И если слабый забор или старые ворота могут не устоять, то исход поединка с дубом всегда предрешен: дуб не только устоит, но и не шелохнется. Однако самоирония Солженицына оказалась напрасной: теленок свалил дуб, победил советское мироустройство. Его «Архипелаг ГУЛАГ», его публицистика, его художественное творчество, созданные им образы Сталина в «Круге первом» и Ленина в «Красном колесе», нанесли сокрушительный удар по советской политической и государственной системе. Естественно, Солженицын был не один, рядом с ним были и политические деятели подобные Сахарову, и писатели, подобные В. Шаламову, которые при всех своих политических и религиозно-философских расхождениях складывали свои усилия в общий вектор борьбы с дубом.
Логика литературной истории бывает подчас совершенно непостижимой: к вектору этих усилий прибавился и голос Полякова, принципиального идейного оппонента Солженицына! И его усилия были приложены к общей точке давления: дуб не устоял! Сам Поляков, размышляя об этом парадоксе литературной и политической жизни, говорил в эссе «Как я был колебателем основ»: «Драма в том, что наша писательская честность была востребована ходом истории не для созидания, а для разрушения <…> Почему? И могло ли быть иначе? Не знаю…»
Но дело не только в том, что Поляков выступает как летописец эпохи перемен. Дело еще в его способности вести с читателем прямой дружеский диалог, «забалтываться» с ним, как сказал Пушкин о своем читателе «Евгения Онегина». И такое обращение к читателю заставляет воспринимать чтение произведений Ю Полякова как лёгкую и радостную беседу с давно и хорошо знакомым человеком, с добрым другом. Получается, что писатель обращается к жанровой форме «свободного романа», созданного впервые Пушкиным. М. Бахтин говорил, что жанр – это память литературы, и неудивительно, что память об открытиях Пушкина жива в современном художественном сознании. Пушкин рассказывал в одном из писем, что пишет роман, в котором забалтывается донельзя. Так же «забалтывается» и Ю. Поляков. Но ведь заболтаться можно с близким другом, случайно встретившись с ним хоть в кафе, хоть на улице: с самим собой не получится. И Пушкин вводит в свой роман образ читателя – друга, с которым можно заболтаться, забыв о сюжете, о развитии романного действия, бросив на время Татьяну, Ленского, Онегина, для того, чтобы обсудить с другом, человеком, близким к литературе, проблемы перехода от романтизма к реализму, рассказать, что красоту подлинную он сейчас видит не в брегах Тавриды, а в простом сельском пейзаже, что идеалу гордой девы он предпочел бы теперь хозяйку. С кем такое обсудишь? Да только с другом… Притом с самым близким. Его-то образ он и вводит в роман, получая возможность в спонтанных разговорах с ним через «магический кристалл» обнаружить «даль свободного романа».
Но в романе Пушкина есть образы самых разных читателей. Среди них придирчивый, ищущий «противоречия» и «орфографические ошибки», с которым автор, впрочем, прощается в конце первой главы как с приятелем; есть наивный читатель, который, прочитав «морозы», сразу же ждет рифму «розы» – и получает ее от ироничного автора. Но с ними забалтываться неинтересно; заболтаться можно с близким другом… Пушкинское обращение «Друзья мои!» – это к нам.
Можно, наверное, говорить, что в русской литературе последних двух столетий сформировался жанр романа-диалога, романа-беседы, в котором образ читателя-друга столь же важен, как и образ автора-повествователя. И чаще всего это происходит тогда, когда в произведении ставятся проблемы литературные, когда на обсуждение с читателем выносятся вопросы романтизма и реализма или же реализма и постмодернизма – от эпохи зависит.
Во многих своих произведениях Поляков тоже выстраивает «даль свободного романа», разрешая себе «заболтаться донельзя». Но с кем? Кого находит он для того, чтобы диалог оказался интересным для обоих? Друга! Именно его присутствие мотивирует и авторские оговорки: «Докончу как-нибудь потом», и обращения: «Возлюбленный читатель, скорее туда, в золотую советскую осень 1983 года!» С образом читателя-друга мы ассоциируем себя. Отсюда эффект дружеской беседы, в которую мы погружаемся, становясь читателем Полякова. Часто повествователь говорит: «наши герои», «наша история», он «почувствовал то, что мы чувствуем, когда…» Местоимения «мы», «наши» становится способом маркировать незримое присутствие читателя-друга, которому можно рассказать практически все, даже то, о чем мужчины в присутствии женщин обычно не говорят. В самом деле, потребность рассказать что-то веселое и явно не относящееся прямо к сюжету может возникнуть только тогда, когда рядом – читатель-друг, с которым автор составляет дружеское «мы».
Но образ читателя у Полякова дан, скорее, имплицитно – его присутствие нужно суметь увидеть, почувствовать за монологом повествователя, обращенного к имплицитному читателю. Но именно благодаря такому общению устанавливается специфический поляковский тон повествования, исполненный иронией, юмором, гротеском. Без образа читателя, способного эту иронию понять, посмеяться над шуткой и распознать гротеск, принять его условность, такая повествовательная манера была бы просто невозможна. Ведь именно взгляд повествователя делает что-то смешным; его иносказание обнаруживает за обыденным явлением его ироническую интерпретацию, как, например, в случае с контролерами, усомнившимися в возрасте героя и его праве до 7 лет ездить в троллейбусе бесплатно. «Дай им честное партийное! – (шепчет герой своей матери. – М.Г.), твердо зная: коммунисты не имеют права врать, лишь в самых крайних случаях», и дальше такой случай находится в бытовом эпизоде, характеризующем отношения родителей повествователя: мать доказывает мужу, «будто пузырек пробных духов стоил всего сорок копеек, хотя на самом деле за него заплачено в три раза больше». Да уж, тут и коммунисту соврать не грех! А чего стоят такие замечательные сентенции, юмор которых оценить сможет только читатель-друг: «Предков нельзя приучать к хорошим оценкам – они превращаются в вымогателей пятерок». Или: «Заплаты украшают старые штаны, как шрамы лицо пирата!»
Читатель-друг нашего скромного предисловия к собранию сочинений писателя заметил, наверное, что мы не называем произведений, о героях которых, о социальных и литературных типах мы говорим, не спешим отметить, откуда взяты примеры иронии или юмора. И это не случайно. Дело в том, что все прозаическое творчество Ю. Полякова, вошедшее в это собрание сочинений, представляет некое художественное целое, своеобразный метатекст, который можно (и должно, наверное) расценить как один большой роман. Это единство определяется авторской позицией и средствами ее выражения, общим взглядом на мир, проблематикой (при всей тематической широте), но главное – особой повествовательной манерой, для которой всегда характерна глубинная серьезность в сочетании с тотальной ироничностью, с которой писатель касается любого десятилетия, современником которого он был, любого явления жизни, которое стало предметом его авторской рефлексии. И здесь есть определенное противоречие, которое Поляков не только не желает сглаживать, но и обостряет его от книги к книге.
Итак, глубинная серьезность – с одной стороны; тотальная ироничность – с другой. Как это возможно?
Очень даже возможно! Это постмодернизм с его играми в тотальную деконструкцию всего и вся приучил нас к тому, что мир можно разобрать на кубики и потом собрать заново и по-новому – отсюда и знаменитое слово «деконструкция» с двумя противоположными по смыслу приставками «де» (разрушение) и «кон» (созидание), введенное Жаком Дерридой. Это и «постмодернистская чувствительность», не позволяющая никакой пафосности, только ироничную насмешку, и «пастиш», особый тип постмодернистской чувствительности, не принимающей ничего всерьез. Это постмодернизм приучил нас к тому, что глубинная серьезность если и могла быть в литературе, то в стародавние эпохи, а теперь, когда на дворе уже давно наступил конец истории (еще один тезис постмодерна), разговоры о серьезном отношении к литературе и миру – старомодная архаика.
Так именно дело и обстоит, когда речь идет о постмодернистской деконструкции. Но как только писатель, работавший в русле постмодерна, вдруг обнаруживал потребность говорить на этом же языке о подлинных проблемах национального бытия, его как будто выбрасывало из жестко очерченного пространства постмодернизма навстречу подлинной реальности, и он оказывался в модернистской системе координат. Такую эволюцию, возможно, незаметно для самого себя пережил Владимир Сорокин. Его путь от «Романа», ставшего классикой постмодернизма, к художественному миру «Доктора Гарина» и «Наследия», интереснейшим, пусть и очень спорным опытам современного модернизма, убедительно показывает ложность тезиса о конце истории. Так и хочется вспомнить слова Долохова, пытающегося, превозмогая боль, сделать свой выстрел на дуэли с Пьером: «Нет, не кончено!» Нет, не кончено! – это современные писатели, нашедшие творческие возможности преодолеть постмодернизм, возражают Фукуяме с его идеей конца истории.
И тогда оказалось, что можно быть ироничным, сохраняя ответственное отношение к литературе и к реальности; глубинная серьезность в отношении к изображаемому и творимому миру не противоречит, оказывается, ироничному отношению к тем явлениям действительности, которые его заслуживают. Только Поляков знал это с самого начала своего творческого пути. К соблазнам постмодерна у него был сильный иммунитет, что не помешало ему, однако, выступить «колебателем основ» постмодернистского мироощущения и разбить его его же оружием – смехом и убийственной иронией. В самом деле, сокрушающий удар по постмодернистскому мироощущению с его ироничностью, особой чувствительностью, смертью автора и прочей атрибутикой французского постструктурализма 60-х годов Поляков наносит тогда, когда постмодернизм победно шествует по русской литературе и многим кажется, что это и есть ее столбовая дорога.
Этот удар, после которого русский постмодернизм оправиться, пожалуй, так и не смог, был нанесен в середине 1995 года романом-эпиграммой «Козленок в молоке». Этот роман, веселый и игровой по своей природе, очерчивает круг развития русского постмодерна, показывает его начала и концы, иными словами, те тупики, в которые неизбежно попадает писатель постмодернистского мироощущения. Тогда они отнюдь еще не были очевидны. Это вовсе не значит, что после «Козленка…» не появилось ни одного постмодернистского текста. Появлялись, и во множестве! Но выйти за пределы той системы координат, что была четко очерчена в «Козленке…», не удалось никому. Иными словами, Поляков обозначил пределы той эстетической системы, что зародилась на русской почве на рубеже 60–70-х годов в «Пушкинском доме» А. Битова, в поэме «Москва – Петушки» Венечки Ерофеева, в «Прогулках с Пушкиным» Абрама Терца, и завершила круг своего развития к началу ХХI века. Сорока лет вполне хватило для того, чтобы сказать и сделать все, что постмодернизм мог сказать и сделать. Далее началось движение по уже очерченному кругу, которое, впрочем, иногда наблюдается и по сей день. «Козленок…» стал первым романом русской литературы, показавшим исчерпанность этой эстетики.
Сама по себе главная сюжетообразующая ситуация романа (которая, забегая вперед, скажем, сулит множество глубоких философских обобщений) совершенно абсурдна. Герой, от лица которого ведется повествование, неудачливый литератор, который перебивается с хлеба на квас то очерками истории шинного завода, то речевками для пионерских утренников (спрос на которые стремительно падает), затевает в Дубовом зале ресторана ЦДЛ нелепый спор со своими приятелями, что он сделает из любого человека, весьма далекого от литературы, писателя – буквально за месяц-два.
Нелепость сюжетообразующей ситуации развивается с невероятной быстротой и приобретает буквально гоголевские гротескные формы. Изрядная порция пива и культурный бульон рубежа 80–90-х годов, в котором растворены сублимированные кубики французского постструктурализма 60-х, и формируют ситуацию своеобразного культурного и онтологического абсурда, определившую событийный ряд романа. Сидя в Дубовом зале ресторана ЦДЛ, друзья-литераторы обсуждают, не называя имена Барта, Дерриды, Делеза, Кристевой, Лиотара и других французских интеллектуалов, в среде которых зародились эстетические принципы постмодернизма, то миросозерцание, которое претендовало стать столбовой дорогой всей «интеллектуальной» постсоветской литературы. По сути дела, в пьяноватом разговоре между рассказчиком, Стасом и Арнольдом, корреспондентом газеты «Красноярский зверовод», претендующим на вакансию писателя-сибиряка, обсуждается концепция, высказанная в знаменитой статье Роллана Барта с говорящим названием «Смерть автора». Притом эта концепция накладывается на ощущение как бы ненужности литературы, которое тогда, на рубеже 80–90-х годов, впервые возникло и, страшащее своим разлагающим эффектом, проникло сначала в литературное, а потом и общественное сознание. Мало кто мог подумать, что это ощущение для человека читающего или пишущего сродни потери почвы под ногами, есть начало новой онтологической ситуации – потери русской культурой присущего ей на протяжении последних трехсот лет литературоцентризма, когда именно литература предопределяла национальный взгляд на мир, границу между добром и злом, честью и бесчестием, ориентировала человека в историческом прошлом и предопределяла перспективы исторического будущего. И вот сложилась новая историческая ситуация, но слово писателя вдруг не услышано…
– Я даже не представляю, – восклицает один из спорщиков, – что сегодня нужно написать, чтобы тебя услышали?!
В сущности, он как раз и описывает то положение, в котором оказывается писатель постсоветской эпохи: невостребованности и неуслышанности писательского слова в тот момент, когда, казалось бы, оно должно звучать как колокол на башне вечевой…
– Ничего писать не надо, – подыгрывает собеседнику повествователь. – Текст не имеет никакого значения. – И дальше уверенно продолжает: – Можно вообще не написать ни строчки и быть знаменитым писателем! Тебя будут изучать, обсуждать, цитировать…
В сущности, пятая бутылка пива выводит повествователя на мысль о том, что идея смерти автора должна быть оплачена литературой рождением читателя, который вкладывает свои смыслы в прочитанное. А на месте автора, как следует из статьи Барта, появляется скриптор. В сущности, все последующие рассуждения в той или иной степени, пусть и в пародийной форме, сводятся к тому комплексу идей, который развивали французские постструктуралисты в 60-е годы. Именно эти идеи казались в 90-е наиболее притягательными и заманчивыми, способными противостоять вдребезги одряхлевшей соцреалистической идеологии, секретарской литературе, литературному официозу, который мало кто воспринимал тогда всерьез. Именно поэтому рассуждения героя встречают полное понимание и поддержку в самых разных литературных кругах, но особенно в момент рождения идеи, ставшей сюжетообразующей, «ибо пиво в больших количествах, – по меткому наблюдению повествователя, – делает человека удивительно упрямым».
Постмодернистская культурная ситуация и становится главным объектом сатирического осмысления в романе Ю. Полякова. Дело в том, что в основе постмодернистского мироощущения, так своеобразно развитого повествователем, лежит мысль о принципиальной завершенности истории. Тезис о конце истории в постмодернистском лексиконе сводится к пониманию того, что все уже было, поэтому современность есть бесконечное повторение прошлого. Все, что могло быть сказано, уже сказано, поэтому современный человек обречен на бесконечное повторение своих предшественников. Даже для того, чтобы объясниться в любви, своих слов больше нет, они окажутся миллионным эхом повторений, прошедших через века истории, и влюбленный не окажется их автором, но будет лишь цитировать бесчисленный ряд тех, кто был до него.
Из этого возникает важнейший тезис постмодернистской эстетики: смерть автора (вспомним, так называлась основополагающая статья Р. Барта). Фигура автора уходит в самую глубину литературной сцены, ибо своего слова у него больше нет: все уже написано, возможно лишь повторение. Она заменяется фигурой скриптора, который вольно или невольно компилирует написанное ранее. С этим связано такое важнейшее для постмодернистской литературы понятие, как интертекстуальность: любой текст содержит в себе бесчисленное количество предшествующих текстов, мерцающих разными смыслами, он буквально соткан из цитат, опознать которые не сможет и сам скриптор, ибо часто цитирует неосознанно, полагая, что это его слово, что он и есть автор. Однако играя чужими словами, цитатами, текстами, скриптор не может вложить в него своего смысла и не видит тех смыслов, которые предопределены интертекстуальной природой произведения.
Но смерть автора литература оплачивает рождением читателя. Именно он в силу своей искушенности, подготовленности, проницательности видит «мерцающие смыслы», которыми играет текст, и наполняет его своим пониманием, вкладывает в него свой, весьма субъективный, смысл. Теперь смысловая сфера текста прямо зависит от читателей, чем их больше, тем она богаче.
Из этих основополагающих принципов постмодернизма следует, что предметом литературы становится не действительность, а предшествующая культура, ее осколки, фрагменты, идеологические клише, лозунги, классические литературные и даже сакральные тексты, лишенные своего контекста и исконного содержания.
Отсутствие своего слова в романе Ю. Полякова оборачивается отсутствием текста. Немота, столь характерная для постмодернистского мироощущения, воплощается в белых листах бумаги, которые, уложенные в объемные папки, собственно, и являют собой роман: в полном соответствии с концепциями постмодернизма, заполнить чистые листы предстоит читателям, которые, не читая роман, тем не менее составляют мнения о нем, причем самые разнообразные. Так происходит рождение читателя, которым литература, по мысли Р. Барта, компенсирует смерть автора! Мало того, чем больше мнимых читателей находит ненаписанный роман, тем больше интерпретаций, самых противоположных и противоречащих друг другу, обретает несуществующий текст!
Для тех, кому еще предстоит удовольствие познакомиться с «Козленком в молоке», опишем сюжетообразующую ситуацию романа. После пятой бутылки пива в Дубовом зале ресторана ЦДЛ (нам, правда, показалось, что в какой-то момент герой все же сбился со счета) повествователю приходит в голову заключить странное пари: «Я готов взять первого встречного человека, не имеющего о литературе никакого представления, и за месяц-два превратить его в знаменитого писателя! <…> Готов поспорить: первого встречного дебила за два месяца я сделаю знаменитым писателем, его будут узнавать на улицах, критики станут писать о нем статьи, и вы будете гордиться знакомством с ним!» Тут же находится и кандидат на роль властителя дум: им становится некий чальщик из Мытищ, с незаконченным образованием (выгнан из ПТУ), имевший в школе по русскому языку «тройку» с минусом – и то только потому, что помогал учительнице окучивать картошку… Пари принимается, и поутру, протрезвев, повествователь понимает, что пора браться за дело – создавать гомункулуса, конструировать некую литературную личность…
Строго говоря, ситуация, описанная Поляковым как сугубо гротескная и абсурдная, не столь уж фантастична: литература знает не один случай, когда в задачу писателя входило создание некой маски, псевдонима, замещающего не имя, а саму творческую личность. Это могла быть стилевая маска, какую создал для себя М. Зощенко, заговорив в литературе от лица малограмотного и бескультурного полупролетария-мещанина, создав особый и очень специфический язык, заместивший в его творчестве язык русской культуры, в лоне которой он и формировался как писатель. Бывало и иначе: еще до акта творчества, до написания первой строчки, писатель строил образ автора будущего произведения, конструировал некую творческую личность, притом создавал ее вне художественного текста. Такой личностью, прямо противоположной реальному автору, стал Абрам Терц, хулиган с бандитской развинченной походочкой, с папиросой во рту, с ножом в кармане, который он при первом же удобном случае готов пустить в ход. В личностном и творческом отношении это была прямая противоположность настоящему автору, Андрею Синявскому, сотруднику ИМЛИ, человеку с университетским образованием, читающим лекции по поэзии студентам МГУ и никогда не носившему в кармане каких-либо режуще-колющих предметов – за ненадобностью. Но именно Абрашке Терцу, своему темному двойнику, мог Синявский передоверить авторство произведений, на которые не решился бы сам, и среди которых, помимо многих романов, оказалась знаменитая статья «Что такое социалистический реализм?».
Юрий Михайлович Поляков
Юбилейный Поляков
В первый том собрания сочинений включены те самые знаменитые повести, с которыми Юрий Поляков вошел в отечественную словесность в середине 1980-х, став одним из самых ярких художественных явлений последних лет существования Советского Союза. Сегодня эта, некогда полузапретная, проза нисколько не устарела, наоборот, словно выдержанное вино приобрела особую ценность. Написанная рукой мастера, она читается с неослабным интересом и позволяет лучше осознать прошлое, без которого сегодняшний день непостижим. Хотите понять, почему рухнул СССР? Читайте Полякова. Хотите понять, почему СССР можно было сохранить? Читайте Полякова…
Юрий Михайлович Поляков
Собрание сочинений
1980–1987
Том 1
© Поляков Ю.М.
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Классика нового времени
Лет эдак через сто (добавьте или убавьте полсотни лет) наш с вами сегодняшний день будут изучать, среди прочего, по пятнадцатитомному собранию сочинений Юрия Полякова, счастливым обладателем которого является читатель этих строк. За полвека работы в литературе писатель сумел воссоздать целую галерею литературных типов, характеризующих временной промежуток между поздней советской эпохой и первой четвертью ХХI века. Социальные типы этого времени вереницей проходят перед читателем: это «деды» и «салаги» в армейской казарме 70-х годов, мечтающие о «дембеле»; молодые партийные работники, незаметно для себя теряющие естественные человеческие рефлексы; начинающие бронзоветь комсомольские секретари, неспособные понять причины ЧП районного масштаба; молодые школьные учителя, делающие работу над ошибками; «новые русские», для которых деньги и золотые цепи на бычьих шеях стали эквивалентом всех жизненных ценностей. В произведениях Полякова как в калейдоскопе мелькает множество представителей социальных слоев, выдвинутых этим временем на первый план русской жизни: это старики из дома творчества, который постепенно превратился в дом престарелых, греющихся в лучах давно погасших звезд их славы, чиновники, бизнесмены, бандиты из «лихих 90-х», писатели, строчащие литературную халтуру под иностранным женским псевдонимом, режиссеры-рестораторы, писатели, не написавшие ни слова, но ставшие громкими проектами…
Юрию Полякову удалось показать все наиболее значимые институты как советского, так и постсоветского времени: армия, школа, вуз, комсомол и партия, редакция социально-политического еженедельника первой четверти ХХI века, ну и, конечно же, литературная среда, сконцентрировавшаяся в ЦДЛ и в Союзе писателей. Мало того, Ю. Поляков не только показал социальные типы тех эпох, смену которых ему и людям его поколения довелось пережить, но создал уникальные литературные типы: писатель, не написавший ни слова, кинорежиссер, не снявший ни одного фильма… В его сатирических произведениях мы находим фантастические локусы, как, например, Демгородок, в который поселены узнаваемые политические деятели переходной эпохи, уже ушедшие с исторической арены, да еще все это закручено в лихой детективный сюжет.
* * *
Первые три повести Ю. Полякова: «ЧП районного масштаба» (1985), «Работа над ошибками» (1986) и «Сто дней до приказа» (1987) сыграли очень важную роль в истории новейшей русской литературы.
Поляков ставит в тяжелое положение критиков: все его вещи сопровождаются ироничными, но в то же время очень серьезными и глубокими эссе, которые можно бы назвать автокритикой. Это своеобразные тексты-сателлиты, как бы вращающиеся вокруг художественных текстов: «Как я был колебателем основ» (это о повестях «Сто дней до приказа» и о «ЧП районного масштаба», «Работа над ошибками»), «Как я был поэтом», «Как я варил «Козленка в молоке», «Как я писал «Апофегей» и т. д. Писатель выступает в несвойственной ему роли интерпретатора собственных произведений и того социально-политического и литературного контекста, из которого они возникли. Саморефлексия литературы происходит как бы минуя критика: писатель перехватывает у него эти функции. Но литературоведа, историка литературы, пусть и занимающегося современностью, это ставит в более выгодное положение. Задача осмысления закономерностей литературного процесса и общественно значимых смыслов, генерируемых литературой, упрощается. Писатель выступает как собеседник исследователя, прямо говорящий ему, неразумному, «что хотел сказать автор». Другое дело, что исследователь иногда по-другому видит то, что сказалось, а не только хотелось сказать. Однако автокомментарий автора для исследователя литературы бесценен.
Юрий Поляков вошел в литературу в тот момент, когда привычный по советским десятилетиям предсказуемый литературный процесс с противоборством традиционных журналов и направлений сменился литературным хаосом. Политическая либерализация, отмена цензуры привели к тому, что на страницы журналов хлынули запрещенные ранее произведения, появились имена писателей, которых в принципе не было в литературе: Владимир Набоков, Гайто Газданов, Евгений Замятин, поэты парижской ноты, Адамович и Ходасевич, Валерий Тарсис, появилось имя Солженицына, началась переоценка не только фигуры Сталина, но и Ленина. В истории литературы этот период приобрел имя публикаторского. Неразрешенные цензурой, отторгнутые от читателя произведения потеснили собственно современную литературу, и три повести Полякова, о которых спорили не менее жарко, чем о «Детях Арбата» А. Рыбакова и «Белых одеждах» Дудинцева, оказались едва ли не единственными, что увидели свет в тот период, а не в предшествующие советские десятилетия. И все же роль романов и повестей Рыбакова, Дудинцева, Айтматова, Распутина, Астафьева при всей их огромной значимости для истории литературы была принципиальной иной, чем у повестей Полякова. Они завершали прежний период литературной истории, давали ответы на вопросы, поставленные литературой второй половины ХХ века, деревенской, военной, городской прозой – подобно тому, как «Доктор Живаго» давал ответ той концепции революции, что была предложена А. Блоком в поэме «Двенадцать», т. е. завершал первую половину ХХ века, но не открывал следующего периода. А повести Полякова, напротив, открывали новый, современный нам, период литературного развития.
Почему?
Потому что они говорили запретную ранее правду – будто бы напрашивается ответ. Но ответ, увы, неправильный. А разве неправду говорил роман Дудинцева о научной генетической школе и истории ее разгрома в 40-е годы? Неправду говорил Рыбаков о судьбах детей Арбата в 30–40-е годы? Так ли уж неправдива история отношений Сталина и Кирова, рассказанная в этом романе? Или Астафьев в «Печальном детективе» с его размышлениями о немотивированной преступности, о корнях зла так уж неправдив? Да и вообще, критерий правды – не самый достоверный в искусстве. Ведь и литература социалистического реализма даже в самый жесткий момент формирования соцреалистического канона имела свою правду. И колхозный роман 30-х годов тоже имел свою правду – совсем иную, конечно, чем правда деревенской прозы 50–80-х годов, чем правда, о которой скажут Ф. Абрамов и В. Белов спустя два десятилетия. Но тоже имел свою правду, правду так никогда и не сбывшегося идеала советской деревенской жизни, основанной на принципах добра и справедливости. Так что не в правде дело. Литература, как ни странно это может показаться, не умеет лгать, она, если угодно, не знает неправды. Только ее правда далеко не всегда соотносится с правдой протокола или черно-белой фотографии.
Конечно, тогдашние повести Ю. Полякова говорили правду, притом о запретном, о том, о чем в СССР писать было нельзя. Поэтому они и валялись несколько лет в кабинетах военной и политической цензуры, а увидели свет тогда, когда цензура и государство ослабели и сдерживать напор запретной ранее литературы уже было невозможно. Недаром в романе «Веселая жизнь, или Секс в СССР» автобиографический герой Полякова молодой писатель Полуяков оказывается автором двух «непроходимых» повестей об армейской жизни и о жизни комсомола. Впрочем, если он будет вести себя хорошо, то цензурные запреты можно и ослабить…
Так что дело не в правде, а еще в чем-то. В том, наверное, что автор, человек молодой и глубоко укорененный в социально-исторических реалиях поздней советской жизни, писал не о прошлом, а о будущем. Он, пожалуй, оказался единственным реалистом позднего советского времени, который не скорбел о прошлом, но думал о настоящем и путях его совершенствования. И это принципиально отличало его от Распутина, который горевал об ушедшей деревне, показывая на ее месте невероятный поселок-бивуак («Пожар»); от Рыбакова и Дудинцева, углубившихся в сталинскую эпоху; от Астафьева с его пессимизмом в осмыслении природы зла. Поляков же думал о том, как нужно изменить советскую жизнь, вовсе не ставя под сомнение ее историческую правду и правоту.
Если взять «Сто дней до приказа», то в этой повести прямо ставится вопрос о том, что неблагополучно в армии, что такое дедовщина и почему офицеров вполне устраивает такое положение дел, когда молодые солдаты становятся объектом жесточайшего прессинга со стороны старослужащих. Почему в армии царит не взаимная поддержка людей, разделенных всего лишь одним-двумя годами (здесь даже и о разных поколениях говорить не приходится), но подавление и унижение, навыки которого передаются по наследству, и через год молодые, распрощавшись со «стариками», ведут себя по отношению к новому набору точно так же. И ответственность за эту ситуацию Поляков искал не в культе личности Сталина и не в ежовщине, а в современной ситуации, в эрозии морально-этических норм, затронувшей не только армию, но общество в целом.
Честно говоря, коллизия повести «ЧП районного масштаба» кажется сейчас и наивной, и легковесной. Мальчишку в РК ВЛКСМ обидели, не приняли в комсомол, не поверили, не вникли, отнеслись формально – и все это выясняется только к концу повести, да и то потому, что он забрался ночью в здание райкома и там напакостил, да еще украл знамя. Первого секретаря райкома вызывают из отпуска с Черноморского побережья, где он успешно охотится на крабов. Ну правда ведь, на фоне грядущих воистину всенародных испытаний (распад страны, ГКЧП, путч, обстрел танками собственного парламента и пр. и пр.) ЧП в Краснопролетарском райкоме комсомола не тянет на масштабную историю. Но это с нынешней точки зрения, когда мы знаем, что было потом. Так, однако, случилось, что эта первая, опубликованная еще до перестройки повесть Ю. Полякова сделала его знаменитым. И тоже потому, что не в прошлом он искал беды и их истоки, но в настоящем, заглядывая в меру отпущенного в будущее.
Впрочем, столь ли незначительна сюжетная ситуация, легшая в основу той ранней повести? Обратившись к ней, писатель обнаружил эрозию комсомола как своего рода министерства по делам молодежи, за которой он сумел разглядеть верные признаки эрозии советской цивилизации в целом и предугадать ее крушение. Поляков в этой вещи сумел уловить одну из самых страшных, «базисных» сторон советской цивилизации, которая и привела к ее гибели. Двоемыслие, представление о том, что можно и нужно говорить на комсомольском собрании и что дома или с друзьями, два дискурса, свободно сосуществующие в речевом и мыслительном обиходе, ложь привели к тому, что именно комсомол стал инкубатором будущих постсоветских нуворишей. Бесстыдно эксплуатируемые комсомольские мифологемы романтико-героического плана (например, Павка Корчагин как герой советской мифологии) и реальность аппаратных игр стала главным противоречием той среды, которую исследовал Поляков.
Уже значительно позже размышляя о тех давних своих шагах в литературе, он с сокрушением писал, что люди его поколения были призваны не к созидательной деятельности, как, скажем, писатели 30-х или 40-х годов, но, скорее, к разрушительной. Его первые повести будто бы дискредитировали и подталкивали к краху важнейшие институты советской эпохи: армию, комсомол, школу… При этом их автор никогда не был убежденным антикоммунистом, антисоветчиком, противником советской цивилизации, к которой, по его же признанию, «испытывал сложные, но не враждебные чувства». Однако общая и литературная история сложились так, что вопреки авторской воле писательские усилия Полякова в сложной общественной картине тех лет совпали с усилиями тех, кто бодался с дубом. И здесь мы выходим на самые сложные литературные и общественно-политические контексты творчества писателя.
«Бодался теленок с дубом» – так назвал А. И. Солженицын с огромной долей самоиронии свою книгу очерков литературной жизни 50–70-х годов. Ироничность заложена в самой русской поговорке, которую использовал писатель: когда у теленка режутся рожки, он чешет их о забор, о ворота, о дуб. И если слабый забор или старые ворота могут не устоять, то исход поединка с дубом всегда предрешен: дуб не только устоит, но и не шелохнется. Однако самоирония Солженицына оказалась напрасной: теленок свалил дуб, победил советское мироустройство. Его «Архипелаг ГУЛАГ», его публицистика, его художественное творчество, созданные им образы Сталина в «Круге первом» и Ленина в «Красном колесе», нанесли сокрушительный удар по советской политической и государственной системе. Естественно, Солженицын был не один, рядом с ним были и политические деятели подобные Сахарову, и писатели, подобные В. Шаламову, которые при всех своих политических и религиозно-философских расхождениях складывали свои усилия в общий вектор борьбы с дубом.
Логика литературной истории бывает подчас совершенно непостижимой: к вектору этих усилий прибавился и голос Полякова, принципиального идейного оппонента Солженицына! И его усилия были приложены к общей точке давления: дуб не устоял! Сам Поляков, размышляя об этом парадоксе литературной и политической жизни, говорил в эссе «Как я был колебателем основ»: «Драма в том, что наша писательская честность была востребована ходом истории не для созидания, а для разрушения <…> Почему? И могло ли быть иначе? Не знаю…»
Но дело не только в том, что Поляков выступает как летописец эпохи перемен. Дело еще в его способности вести с читателем прямой дружеский диалог, «забалтываться» с ним, как сказал Пушкин о своем читателе «Евгения Онегина». И такое обращение к читателю заставляет воспринимать чтение произведений Ю Полякова как лёгкую и радостную беседу с давно и хорошо знакомым человеком, с добрым другом. Получается, что писатель обращается к жанровой форме «свободного романа», созданного впервые Пушкиным. М. Бахтин говорил, что жанр – это память литературы, и неудивительно, что память об открытиях Пушкина жива в современном художественном сознании. Пушкин рассказывал в одном из писем, что пишет роман, в котором забалтывается донельзя. Так же «забалтывается» и Ю. Поляков. Но ведь заболтаться можно с близким другом, случайно встретившись с ним хоть в кафе, хоть на улице: с самим собой не получится. И Пушкин вводит в свой роман образ читателя – друга, с которым можно заболтаться, забыв о сюжете, о развитии романного действия, бросив на время Татьяну, Ленского, Онегина, для того, чтобы обсудить с другом, человеком, близким к литературе, проблемы перехода от романтизма к реализму, рассказать, что красоту подлинную он сейчас видит не в брегах Тавриды, а в простом сельском пейзаже, что идеалу гордой девы он предпочел бы теперь хозяйку. С кем такое обсудишь? Да только с другом… Притом с самым близким. Его-то образ он и вводит в роман, получая возможность в спонтанных разговорах с ним через «магический кристалл» обнаружить «даль свободного романа».
Но в романе Пушкина есть образы самых разных читателей. Среди них придирчивый, ищущий «противоречия» и «орфографические ошибки», с которым автор, впрочем, прощается в конце первой главы как с приятелем; есть наивный читатель, который, прочитав «морозы», сразу же ждет рифму «розы» – и получает ее от ироничного автора. Но с ними забалтываться неинтересно; заболтаться можно с близким другом… Пушкинское обращение «Друзья мои!» – это к нам.
Можно, наверное, говорить, что в русской литературе последних двух столетий сформировался жанр романа-диалога, романа-беседы, в котором образ читателя-друга столь же важен, как и образ автора-повествователя. И чаще всего это происходит тогда, когда в произведении ставятся проблемы литературные, когда на обсуждение с читателем выносятся вопросы романтизма и реализма или же реализма и постмодернизма – от эпохи зависит.
Во многих своих произведениях Поляков тоже выстраивает «даль свободного романа», разрешая себе «заболтаться донельзя». Но с кем? Кого находит он для того, чтобы диалог оказался интересным для обоих? Друга! Именно его присутствие мотивирует и авторские оговорки: «Докончу как-нибудь потом», и обращения: «Возлюбленный читатель, скорее туда, в золотую советскую осень 1983 года!» С образом читателя-друга мы ассоциируем себя. Отсюда эффект дружеской беседы, в которую мы погружаемся, становясь читателем Полякова. Часто повествователь говорит: «наши герои», «наша история», он «почувствовал то, что мы чувствуем, когда…» Местоимения «мы», «наши» становится способом маркировать незримое присутствие читателя-друга, которому можно рассказать практически все, даже то, о чем мужчины в присутствии женщин обычно не говорят. В самом деле, потребность рассказать что-то веселое и явно не относящееся прямо к сюжету может возникнуть только тогда, когда рядом – читатель-друг, с которым автор составляет дружеское «мы».
Но образ читателя у Полякова дан, скорее, имплицитно – его присутствие нужно суметь увидеть, почувствовать за монологом повествователя, обращенного к имплицитному читателю. Но именно благодаря такому общению устанавливается специфический поляковский тон повествования, исполненный иронией, юмором, гротеском. Без образа читателя, способного эту иронию понять, посмеяться над шуткой и распознать гротеск, принять его условность, такая повествовательная манера была бы просто невозможна. Ведь именно взгляд повествователя делает что-то смешным; его иносказание обнаруживает за обыденным явлением его ироническую интерпретацию, как, например, в случае с контролерами, усомнившимися в возрасте героя и его праве до 7 лет ездить в троллейбусе бесплатно. «Дай им честное партийное! – (шепчет герой своей матери. – М.Г.), твердо зная: коммунисты не имеют права врать, лишь в самых крайних случаях», и дальше такой случай находится в бытовом эпизоде, характеризующем отношения родителей повествователя: мать доказывает мужу, «будто пузырек пробных духов стоил всего сорок копеек, хотя на самом деле за него заплачено в три раза больше». Да уж, тут и коммунисту соврать не грех! А чего стоят такие замечательные сентенции, юмор которых оценить сможет только читатель-друг: «Предков нельзя приучать к хорошим оценкам – они превращаются в вымогателей пятерок». Или: «Заплаты украшают старые штаны, как шрамы лицо пирата!»
Читатель-друг нашего скромного предисловия к собранию сочинений писателя заметил, наверное, что мы не называем произведений, о героях которых, о социальных и литературных типах мы говорим, не спешим отметить, откуда взяты примеры иронии или юмора. И это не случайно. Дело в том, что все прозаическое творчество Ю. Полякова, вошедшее в это собрание сочинений, представляет некое художественное целое, своеобразный метатекст, который можно (и должно, наверное) расценить как один большой роман. Это единство определяется авторской позицией и средствами ее выражения, общим взглядом на мир, проблематикой (при всей тематической широте), но главное – особой повествовательной манерой, для которой всегда характерна глубинная серьезность в сочетании с тотальной ироничностью, с которой писатель касается любого десятилетия, современником которого он был, любого явления жизни, которое стало предметом его авторской рефлексии. И здесь есть определенное противоречие, которое Поляков не только не желает сглаживать, но и обостряет его от книги к книге.
Итак, глубинная серьезность – с одной стороны; тотальная ироничность – с другой. Как это возможно?
Очень даже возможно! Это постмодернизм с его играми в тотальную деконструкцию всего и вся приучил нас к тому, что мир можно разобрать на кубики и потом собрать заново и по-новому – отсюда и знаменитое слово «деконструкция» с двумя противоположными по смыслу приставками «де» (разрушение) и «кон» (созидание), введенное Жаком Дерридой. Это и «постмодернистская чувствительность», не позволяющая никакой пафосности, только ироничную насмешку, и «пастиш», особый тип постмодернистской чувствительности, не принимающей ничего всерьез. Это постмодернизм приучил нас к тому, что глубинная серьезность если и могла быть в литературе, то в стародавние эпохи, а теперь, когда на дворе уже давно наступил конец истории (еще один тезис постмодерна), разговоры о серьезном отношении к литературе и миру – старомодная архаика.
Так именно дело и обстоит, когда речь идет о постмодернистской деконструкции. Но как только писатель, работавший в русле постмодерна, вдруг обнаруживал потребность говорить на этом же языке о подлинных проблемах национального бытия, его как будто выбрасывало из жестко очерченного пространства постмодернизма навстречу подлинной реальности, и он оказывался в модернистской системе координат. Такую эволюцию, возможно, незаметно для самого себя пережил Владимир Сорокин. Его путь от «Романа», ставшего классикой постмодернизма, к художественному миру «Доктора Гарина» и «Наследия», интереснейшим, пусть и очень спорным опытам современного модернизма, убедительно показывает ложность тезиса о конце истории. Так и хочется вспомнить слова Долохова, пытающегося, превозмогая боль, сделать свой выстрел на дуэли с Пьером: «Нет, не кончено!» Нет, не кончено! – это современные писатели, нашедшие творческие возможности преодолеть постмодернизм, возражают Фукуяме с его идеей конца истории.
И тогда оказалось, что можно быть ироничным, сохраняя ответственное отношение к литературе и к реальности; глубинная серьезность в отношении к изображаемому и творимому миру не противоречит, оказывается, ироничному отношению к тем явлениям действительности, которые его заслуживают. Только Поляков знал это с самого начала своего творческого пути. К соблазнам постмодерна у него был сильный иммунитет, что не помешало ему, однако, выступить «колебателем основ» постмодернистского мироощущения и разбить его его же оружием – смехом и убийственной иронией. В самом деле, сокрушающий удар по постмодернистскому мироощущению с его ироничностью, особой чувствительностью, смертью автора и прочей атрибутикой французского постструктурализма 60-х годов Поляков наносит тогда, когда постмодернизм победно шествует по русской литературе и многим кажется, что это и есть ее столбовая дорога.
Этот удар, после которого русский постмодернизм оправиться, пожалуй, так и не смог, был нанесен в середине 1995 года романом-эпиграммой «Козленок в молоке». Этот роман, веселый и игровой по своей природе, очерчивает круг развития русского постмодерна, показывает его начала и концы, иными словами, те тупики, в которые неизбежно попадает писатель постмодернистского мироощущения. Тогда они отнюдь еще не были очевидны. Это вовсе не значит, что после «Козленка…» не появилось ни одного постмодернистского текста. Появлялись, и во множестве! Но выйти за пределы той системы координат, что была четко очерчена в «Козленке…», не удалось никому. Иными словами, Поляков обозначил пределы той эстетической системы, что зародилась на русской почве на рубеже 60–70-х годов в «Пушкинском доме» А. Битова, в поэме «Москва – Петушки» Венечки Ерофеева, в «Прогулках с Пушкиным» Абрама Терца, и завершила круг своего развития к началу ХХI века. Сорока лет вполне хватило для того, чтобы сказать и сделать все, что постмодернизм мог сказать и сделать. Далее началось движение по уже очерченному кругу, которое, впрочем, иногда наблюдается и по сей день. «Козленок…» стал первым романом русской литературы, показавшим исчерпанность этой эстетики.
Сама по себе главная сюжетообразующая ситуация романа (которая, забегая вперед, скажем, сулит множество глубоких философских обобщений) совершенно абсурдна. Герой, от лица которого ведется повествование, неудачливый литератор, который перебивается с хлеба на квас то очерками истории шинного завода, то речевками для пионерских утренников (спрос на которые стремительно падает), затевает в Дубовом зале ресторана ЦДЛ нелепый спор со своими приятелями, что он сделает из любого человека, весьма далекого от литературы, писателя – буквально за месяц-два.
Нелепость сюжетообразующей ситуации развивается с невероятной быстротой и приобретает буквально гоголевские гротескные формы. Изрядная порция пива и культурный бульон рубежа 80–90-х годов, в котором растворены сублимированные кубики французского постструктурализма 60-х, и формируют ситуацию своеобразного культурного и онтологического абсурда, определившую событийный ряд романа. Сидя в Дубовом зале ресторана ЦДЛ, друзья-литераторы обсуждают, не называя имена Барта, Дерриды, Делеза, Кристевой, Лиотара и других французских интеллектуалов, в среде которых зародились эстетические принципы постмодернизма, то миросозерцание, которое претендовало стать столбовой дорогой всей «интеллектуальной» постсоветской литературы. По сути дела, в пьяноватом разговоре между рассказчиком, Стасом и Арнольдом, корреспондентом газеты «Красноярский зверовод», претендующим на вакансию писателя-сибиряка, обсуждается концепция, высказанная в знаменитой статье Роллана Барта с говорящим названием «Смерть автора». Притом эта концепция накладывается на ощущение как бы ненужности литературы, которое тогда, на рубеже 80–90-х годов, впервые возникло и, страшащее своим разлагающим эффектом, проникло сначала в литературное, а потом и общественное сознание. Мало кто мог подумать, что это ощущение для человека читающего или пишущего сродни потери почвы под ногами, есть начало новой онтологической ситуации – потери русской культурой присущего ей на протяжении последних трехсот лет литературоцентризма, когда именно литература предопределяла национальный взгляд на мир, границу между добром и злом, честью и бесчестием, ориентировала человека в историческом прошлом и предопределяла перспективы исторического будущего. И вот сложилась новая историческая ситуация, но слово писателя вдруг не услышано…
– Я даже не представляю, – восклицает один из спорщиков, – что сегодня нужно написать, чтобы тебя услышали?!
В сущности, он как раз и описывает то положение, в котором оказывается писатель постсоветской эпохи: невостребованности и неуслышанности писательского слова в тот момент, когда, казалось бы, оно должно звучать как колокол на башне вечевой…
– Ничего писать не надо, – подыгрывает собеседнику повествователь. – Текст не имеет никакого значения. – И дальше уверенно продолжает: – Можно вообще не написать ни строчки и быть знаменитым писателем! Тебя будут изучать, обсуждать, цитировать…
В сущности, пятая бутылка пива выводит повествователя на мысль о том, что идея смерти автора должна быть оплачена литературой рождением читателя, который вкладывает свои смыслы в прочитанное. А на месте автора, как следует из статьи Барта, появляется скриптор. В сущности, все последующие рассуждения в той или иной степени, пусть и в пародийной форме, сводятся к тому комплексу идей, который развивали французские постструктуралисты в 60-е годы. Именно эти идеи казались в 90-е наиболее притягательными и заманчивыми, способными противостоять вдребезги одряхлевшей соцреалистической идеологии, секретарской литературе, литературному официозу, который мало кто воспринимал тогда всерьез. Именно поэтому рассуждения героя встречают полное понимание и поддержку в самых разных литературных кругах, но особенно в момент рождения идеи, ставшей сюжетообразующей, «ибо пиво в больших количествах, – по меткому наблюдению повествователя, – делает человека удивительно упрямым».
Постмодернистская культурная ситуация и становится главным объектом сатирического осмысления в романе Ю. Полякова. Дело в том, что в основе постмодернистского мироощущения, так своеобразно развитого повествователем, лежит мысль о принципиальной завершенности истории. Тезис о конце истории в постмодернистском лексиконе сводится к пониманию того, что все уже было, поэтому современность есть бесконечное повторение прошлого. Все, что могло быть сказано, уже сказано, поэтому современный человек обречен на бесконечное повторение своих предшественников. Даже для того, чтобы объясниться в любви, своих слов больше нет, они окажутся миллионным эхом повторений, прошедших через века истории, и влюбленный не окажется их автором, но будет лишь цитировать бесчисленный ряд тех, кто был до него.
Из этого возникает важнейший тезис постмодернистской эстетики: смерть автора (вспомним, так называлась основополагающая статья Р. Барта). Фигура автора уходит в самую глубину литературной сцены, ибо своего слова у него больше нет: все уже написано, возможно лишь повторение. Она заменяется фигурой скриптора, который вольно или невольно компилирует написанное ранее. С этим связано такое важнейшее для постмодернистской литературы понятие, как интертекстуальность: любой текст содержит в себе бесчисленное количество предшествующих текстов, мерцающих разными смыслами, он буквально соткан из цитат, опознать которые не сможет и сам скриптор, ибо часто цитирует неосознанно, полагая, что это его слово, что он и есть автор. Однако играя чужими словами, цитатами, текстами, скриптор не может вложить в него своего смысла и не видит тех смыслов, которые предопределены интертекстуальной природой произведения.
Но смерть автора литература оплачивает рождением читателя. Именно он в силу своей искушенности, подготовленности, проницательности видит «мерцающие смыслы», которыми играет текст, и наполняет его своим пониманием, вкладывает в него свой, весьма субъективный, смысл. Теперь смысловая сфера текста прямо зависит от читателей, чем их больше, тем она богаче.
Из этих основополагающих принципов постмодернизма следует, что предметом литературы становится не действительность, а предшествующая культура, ее осколки, фрагменты, идеологические клише, лозунги, классические литературные и даже сакральные тексты, лишенные своего контекста и исконного содержания.
Отсутствие своего слова в романе Ю. Полякова оборачивается отсутствием текста. Немота, столь характерная для постмодернистского мироощущения, воплощается в белых листах бумаги, которые, уложенные в объемные папки, собственно, и являют собой роман: в полном соответствии с концепциями постмодернизма, заполнить чистые листы предстоит читателям, которые, не читая роман, тем не менее составляют мнения о нем, причем самые разнообразные. Так происходит рождение читателя, которым литература, по мысли Р. Барта, компенсирует смерть автора! Мало того, чем больше мнимых читателей находит ненаписанный роман, тем больше интерпретаций, самых противоположных и противоречащих друг другу, обретает несуществующий текст!
Для тех, кому еще предстоит удовольствие познакомиться с «Козленком в молоке», опишем сюжетообразующую ситуацию романа. После пятой бутылки пива в Дубовом зале ресторана ЦДЛ (нам, правда, показалось, что в какой-то момент герой все же сбился со счета) повествователю приходит в голову заключить странное пари: «Я готов взять первого встречного человека, не имеющего о литературе никакого представления, и за месяц-два превратить его в знаменитого писателя! <…> Готов поспорить: первого встречного дебила за два месяца я сделаю знаменитым писателем, его будут узнавать на улицах, критики станут писать о нем статьи, и вы будете гордиться знакомством с ним!» Тут же находится и кандидат на роль властителя дум: им становится некий чальщик из Мытищ, с незаконченным образованием (выгнан из ПТУ), имевший в школе по русскому языку «тройку» с минусом – и то только потому, что помогал учительнице окучивать картошку… Пари принимается, и поутру, протрезвев, повествователь понимает, что пора браться за дело – создавать гомункулуса, конструировать некую литературную личность…
Строго говоря, ситуация, описанная Поляковым как сугубо гротескная и абсурдная, не столь уж фантастична: литература знает не один случай, когда в задачу писателя входило создание некой маски, псевдонима, замещающего не имя, а саму творческую личность. Это могла быть стилевая маска, какую создал для себя М. Зощенко, заговорив в литературе от лица малограмотного и бескультурного полупролетария-мещанина, создав особый и очень специфический язык, заместивший в его творчестве язык русской культуры, в лоне которой он и формировался как писатель. Бывало и иначе: еще до акта творчества, до написания первой строчки, писатель строил образ автора будущего произведения, конструировал некую творческую личность, притом создавал ее вне художественного текста. Такой личностью, прямо противоположной реальному автору, стал Абрам Терц, хулиган с бандитской развинченной походочкой, с папиросой во рту, с ножом в кармане, который он при первом же удобном случае готов пустить в ход. В личностном и творческом отношении это была прямая противоположность настоящему автору, Андрею Синявскому, сотруднику ИМЛИ, человеку с университетским образованием, читающим лекции по поэзии студентам МГУ и никогда не носившему в кармане каких-либо режуще-колющих предметов – за ненадобностью. Но именно Абрашке Терцу, своему темному двойнику, мог Синявский передоверить авторство произведений, на которые не решился бы сам, и среди которых, помимо многих романов, оказалась знаменитая статья «Что такое социалистический реализм?».