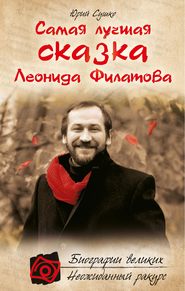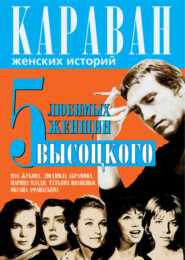По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Любимая женщина Альберта Эйнштейна
Автор
Жанр
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И ночи как не бывало. Зато какой волшебный рассвет потом приходил...
А то как-то поздним зимним вечером после спектакля заявился гостевать Федор Иванович Шаляпин: «Пустите погреться? На дворе стужа собачья». Как не пустить? Шаляпин сразу же устремился к кирпичной печечке, сложенной дядей Григорием посреди мастерской. Потом, отойдя от морозца, Федор Иванович скинул доху и предстал перед друзьями весь в белом – в джемпере с высоким воротом, в белых валенках. Красавец! – залюбовались им друзья. А Коненков, глядя на него, сказал:
– Слушай, Федор Иванович, а ведь мы с тобой оба русские мужики. Ты из вятских, я из смоленских. Ты вот гляди какой белый березовый ствол, а я как темная дубовая кора...
В ту пору седина Сергея Тимофеевича еще не коснулась. Чернобородый, в красной косоворотке, он сидел за столом и, хитровато посматривая на своего гостя, продолжал:
– Тебе вот бог дал великолепный слух, несравненный голос, а мне бог дал верный глаз и вот эти руки. Посмотри, какие они у меня!
(Руки у Коненкова, конечно же, были примечательными. Та самая юная, 16-летняя поклонница скульптора, будущая писательница Наташа Кончаловская восхищалась его кистями: «Когда он их клал на стол, отдыхая, то такое было впечатление, что им самим были вырезаны из темного дерева. Длинные пальцы, сильные – удивительные руки...»)
Но вот тут у великого баса взыграло самолюбие:
– У меня у самого руки сильные, смотри, какая у меня рука!
Тогда Коненков ухватил Шаляпина за лапищу и, упершись локтями в стол, принялся с ним бороться. Пыхтели-пыхтели, пока дядя Григорий не кинулся разнимать разгоряченных, покрасневших от натуги бойцов:
– Сергей Тимофеич, бросьте, вы ж Федору Ивановичу ручку поломаете. Ну как он выйдет на сцену, а ему ведь распахнуться надобно...
Все рассмеялись, и богатыри миром разошлись...
А ей так хотелось сидеть не на грубой деревянной скамье, а в кресле, и слышать звон хрустальных бокалов, а не граненых стаканов, и закусывать шампанское не огурцами и мочеными яблоками, а грушами «бере клержо».
БАВАРИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ и далее везде, конец ХIХ – начало ХХ в.
– Герман, я с ума схожу. Альбертлю уже скоро семь, а он до сих пор говорит только «да», «нет», «хочу», «не хочу»... Разве это нормально?
– Прошу тебя, Паулина, не надо так волноваться. Перерастет, – пытался успокоить жену Герман Эйнштейн. – Он вполне нормальный, здоровый парень. Ты не переживай. Ну, хочешь, давай еще раз съездим к герру доктору, пусть еще посмотрит нашего мальчика.
– Хорошо.
Развитие Альберта крайне беспокоило родителей. Мальчик явно отставал от своих ровесников, был малообщителен, в разговоре обходился односложными фразами: «Пойду гулять», «Спокойной ночи», «Доброе утро», «Кушать», «Не буду». Наблюдались и другие признаки легкой формы аутизма, самопогружения маленького человечка в его собственный, никому не доступный мир.
Зато, будучи в зрелом возрасте, Эйнштейн получил возможность подтрунивать над любопытными собеседниками, которые интересовались, как это ему удалось создать теорию относительности: «Почему именно я создал теорию относительности? Когда я задаю себе такой вопрос, мне кажется, что причина в следующем. Нормальный взрослый человек вообще не задумывается над проблемой пространства и времени. По его мнению, он уже думал об этой проблеме в детстве. Я же развивался интеллектуально так медленно, что пространство и время занимали мои мысли, когда я стал уже взрослым. Естественно, я мог глубже проникать в проблему, чем ребенок с нормальными наклонностями».
Но еще более родителей беспокоило то, что на Альберта иногда накатывали необъяснимые припадки гнева, и в эти моменты лицо его становилось совершенно желтым, а кончик носа бледнел. Как правило, свою злость Альберт срывал на своей младшей сестре Майе. Однажды он швырнул в нее кегельный шар, в другой раз едва не пробил ей голову детской лопаткой. Когда родители надумали обучать его игре на скрипке, мальчик безмерно страдал и... доводил до исступления своих мучителей учителей.
В десять лет будущий гений поступил в Мюнхенскую гимназию. С учебной программой справлялся, переходя из класса в класс, но занятия его мало интересовали, как, впрочем, и обычные школьные забавы. Академическое образование его раздражало своей скукотой, зато дома он наслаждался свободой... Он мастерил различные механические модели, дядя Якоб, живший в семье, нередко подсовывал племяннику разные математические задачки и головоломки, и мальчишка был счастлив, когда ему удавалось с ними справляться. Якоб пытался внушить племяннику: «Алгебра – веселая наука. Когда мы не можем обнаружить зверя, за которым охотимся, мы временно называем его «икс» и продолжаем охоту, пока не засунем его в подсумок».
Заметив неподдельный интерес юнца к точным наукам, друг семьи Эйнштейнов, студент-медик Макс Талмуд подсунул Альберту евклидовы «Начала», потом «Силу и материю» Бюхнера, «Критику чистого разума» Иммануила Канта. Вселенная Альберта перевернулась еще раз – он открыл для себя строгие доказательства геометрии и абстрактные понятия философии. Его временные религиозные настроения улетучились, он стал исповедовать нечто вроде космической религии неверующего, сохранившуюся на всю жизнь.
Юного Альберта особенно озадачила фраза Канта: «Смех есть аффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто». Он разгадал эту головоломку: когда некое напряжение разряжается в ничто, ему на смену приходит расслабление, которое выражается в телесных конвульсиях. Мудрый германский философ настаивал, что смех целителен, но совершенно противостоит идее свободы, потому что действует помимо воли человека...
Преподавателей Эйнштейн раздражал своим независимым поведением, но особенно своей замедленной речью. Детей здесь муштровали, они маршировали, а учителя не вразумляли, а рявкали. Это была не школа – казарма. С презрением вспоминая годы своего ученичества, Эйнштейн говорил: «Учителя в начальной школе казались мне сержантами, а в гимназии – лейтенантами».
А «лейтенанты» качали головами и печально предрекали: «Из вас, Эйнштейн, никогда ничего путного не выйдет».
В конце концов он даже собрался бросить гимназию, просил психиатра выдать ему справку о необходимости полугодового академического отпуска для восстановления здоровья. Но руководство гимназии его опередило, за год до выпуска сказав ему: «Ауфвидерзеен!»
Завершать образование родители отправили Альберта в швейцарский городок Aaрaу. Там ему предложил кров школьный преподаватель древнегреческого языка и истории Йост Винтелер. Жизнь в доме учителя сулила массу преимуществ. Но главным, помимо чисто бытовых и учебных удобств, оказалось то, что в соседней с постояльцем комнате обитала очаровательная дочь учителя, 19-летняя Мари.
Много позже она сама вспоминала, что «они очень любили друг друга, но их любовь была чистой». Может быть. Но кто знает, вероятно, пребывая уже в почтенном возрасте, дама просто не имела желания откровенно говорить о своих девичьих шалостях с несовершеннолетним юношей? Во всяком случае, когда Альберт уехал в Цюрих поступать в местный политехнический институт, Мари была до глубины души оскорблена, сочтя, что возлюбленный ее безжалостно бросил. В итоге испереживалась до такой степени, что даже угодила в психбольницу.
Но Эйнштейн продолжал трогательно убеждать ее в своих чувствах: «Какое очаровательное письмо, оно меня бесконечно обрадовало. Какое блаженство прижать к сердцу листок бумаги, на который с нежностью смотрели эти дорогие мне глаза, по которому грациозно скользили твои прелестные ручки. Мой маленький ангел, сейчас впервые в жизни я в полной мере почувствовал, что значит тосковать по дому и томиться в одиночестве. Но радость любви сильнее, чем боль разлуки. Только теперь я понимаю, насколько ты, мое солнышко, стала необходима мне для счастья. Ты значишь для моей души больше, чем прежде значил весь мир».
Альберт ничуть не врал, писал совершенно искренне, он всякий раз влюблялся раз и навсегда. Но столь же скоро остывал. Много позже в минуту откровения он признался: «Очень скоро я устану от теории относительности. Даже такая страсть улетучивается, когда ей уделяешь слишком много внимания...» Хотя нет, в любви к физике Эйнштейн был более постоянен, нежели в любви к женщинам.
Мари отвечала ему с той же страстью: «Я не могу найти слов просто потому, что их нет в природе, чтобы рассказать тебе, какое блаженство почиет на мне с тех пор, как твоя обожаемая душа избрала себе обителью мою душу... Я люблю тебя вечной любовью, и пусть Господь спасет и сохранит тебя... Милый, милый, любимый, наконец-то, наконец-то я счастлива, как бывает только тогда, когда я получаю твои бесценные, бесценные письма».
При первой попытке поступления на педагогический факультет Цюрихского политехникума Эйнштейн потерпел фиаско, провалив экзамены по ботанике, зоологии и французскому языку.
Лишь со второго захода ему удалось стать студентом, хотя и получил весьма средние баллы. В новой студенческой среде Альберта особо стало тяготить одиночество. Он нуждался если не в друзьях, то хотя бы в собеседниках или в человеке, который бы смог его выслушать, услышать и понять.
Альберта вряд ли можно было назвать прилежным студентом. Лекции он посещал нерегулярно, предпочитая читать учебники дома, а экзамены сдавал по конспектам своего приятеля Марселя Гроссмана. От студенческих пирушек старался уклоняться, ссылаясь на Бисмарка: «Пиво делает людей глупыми и ленивыми». Но когда избежать дружеских посиделок бывало невозможно, компании никогда не портил. Его шутки ценились очень высоко. Хотя себя он считал человеком, у которого «нет потребности часто встречаться с людьми», время от времени он нередко проводил легкомысленные вечера за сигарой, кофе и застольной болтовней, ухлестываниями за девушками.
Одну свою сердечную подружку из Аарау, Джулию Ниггли, он покровительственно поучал: «До чего же странная девичья душа! Неужели вы действительно верите, что сможете обрести безмятежное счастье через другого человека, даже если этот человек один-единственный любимый мужчина? Я близко знаком с этим животным по личному опыту, ибо я один из них. Я точно знаю, что от них нельзя многого ожидать. Сегодня мы грустны, завтра веселы, послезавтра холодны, затем опять раздражительные и усталые от жизни – да, я чуть не забыл о неверности, и неблагодарности, и эгоизме – о том, что нам присуще в значительной степени, чем милым девушкам...»
Единственной представительницей прекрасного пола в группе студентов оказалась Милева Марич, сербская девушка из известной в Воеводине состоятельной и уважаемой католической семьи. Как и Альберт, она увлекалась физикой и математикой, и мысли, идеи, которые высказывал молодой Эйнштейн, звучали для нее мелодиями любовных признаний. И то, с каким кротким вниманием она относилась к его словам, покорило Альберта. Именно это, а далеко не живость ума или привлекательная внешность, коими Милева, мягко говоря, не обладала, сблизило молодых людей. (Хотя застенчивый Альберт по-прежнему отсылал свое грязное белье для стирки Мари в Аарау, и та высылала его выстиранным обратно по почте.) Но, сделав окончательный выбор в пользу Милевы, в своем прощальном письме бывшей возлюбленной Эйнштейн опять напоминает ей сакраментальное: «Любовь приносит больше счастья, чем жажда встречи – боли». Хотя кто знает, если бы в политехникуме училось еще несколько девиц, выбор симпатичного и любвеобильного парня по имени Альберт пал бы на какую-нибудь другую, а не на Милеву...
Но Милева была рядом, стоило только протянуть руку, чтобы почувствовать исходящее от нее тепло, отклик и безмерную покорность. Она действительно была идеальной партнершей для Эйнштейна, безошибочно понимавшая его научный говорок. К тому же была какой-никакой, но все же женщиной, в нежности и ласках которой он постоянно нуждался: «Целую тебя повсюду, где ты мне разрешаешь».
Отправившись после окончания политехникума в Италию, Альберт засыпает возлюбленную нежными письмами: «Ты обязательно должна приехать сюда, моя очаровательная волшебница. Потеряешь немного времени и доставишь мне небесные наслаждения». Молодой Эйнштейн страдал: «...Я потерял разум, умираю, пылаю от любви и желания. Подушка, на которой ты спишь, во сто крат счастливее моего сердца! Ты приходишь ко мне ночью, но, к сожалению, только во сне...»
Милева, разумеется, откликнулась на зов будущего гения (в чем была абсолютно уверена) и явилась наяву. А потом неожиданно обнаружила, что беременна. Стало быть, не зря Альберт с восторгом вздыхал: «...Приятные воспоминания о том, как счастлива ты была в наш последний день, проведенный вместе, не покидает меня. Так что позволь мне поцеловать твой маленький ротик, чтобы не дать уйти этому счастью!»
По окончании политехникума Альберт почти два года маялся неприкаянным, перебиваясь частными уроками. Он был единственным из выпускников отделения физики и математики, оставшимся без всяких видов на трудоустройство. Получив диплом преподавателя математики и физики, он (кстати, как и Коненков в Питере) остался «вольным художником».
По-разному толкуют факт, что Эйнштейна не оставили работать в политехникуме. Кто-то говорил, что виной тому его неприкрытый атеизм. Ведь юноша, заполняя анкету, в графе «религиозная принадлежность» написал: «Никакой религии». Другие решительно отрицали наличие в нем каких-либо преподавательских способностей. Сам Эйнштейн был уверен в ином: «Я был третируем моими профессорами, который не любили меня из-за моей независимости и закрыли мне путь в науку». Во всяком случае, профессор Вебер, руководитель кафедры, на которой учился будущий отец релятивизма, наотрез отказался оставить на работе молодого вольнодумца, который в нарушение корпоративного кодекса осмеливался называть его не «господином профессором», а просто «господинам Вебером». Даже заступничество влиятельного профессора Минковского, первым угадавшего гениальные способности своего студента, не помогло.
Позже, исходя из собственных неприятностей, Эйнштейн вывел свою первую гениальную формулу – «формулу успеха»:
А= Х+Y+Z,
где A – успех, Х – труд, работа, Y – игра и отдых, а Z – умение держать язык за зубами. Он не отчаивался, потому что знал, что человек, потерпевший поражение, знает о том, как побеждать, больше, чем тот, к кому успех приходит сразу.
* * *
Он так бы и прозябал в нищете, оставаясь «свободным художником», если бы, по мнению некоторых современников, в его судьбу не вмешались «вольные каменщики». Как они считали, именно масоны сумели разглядеть в молодом, амбициозном ученом потенциальную звезду первой величины и протянули руку помощи.
Один из близких приятелей Эйнштейна по политехникуму, Марсель Гроссман, обратился за помощью к отцу, тот рассказал о проблемах Альберта директору Федерального ведомства патентов в Берне, а последний, встретившись с Эйнштейном, предложил ему далеко не пыльную и вовсе не хлопотную должность референта патентного бюро третьего класса с годовым жалованьем в три с половиной тысячи швейцарских франков. Это было уже кое-что. Ведь в годы студенчества приходилось жить на сто франков в месяц, которые ссужали Альберту богатые родственники из Генуи. Да и из этой суммы двадцать франков он откладывал, чтобы, собрав необходимую тысячу франков, заплатить за швейцарское гражданство. Оставаться гражданином Германии Эйнштейну откровенно не хотелось.
Бернский период своей жизни и службу в патентном бюро Эйнштейн назвал «счастливыми годами» – «...после восьми часов работы остается еще восемь часов на всякую всячину, да еще есть воскресенье». «Всякой всячиной» стала «Академия Олимпа». Даже спустя десятилетия Альберт Эйнштейн напоминал своему другу юности Морису Соловину: «Хорошее было время тогда в Берне, когда мы учредили нашу веселую академию, которая была менее ребяческой, нежели те почтенные академии, с которыми я близко познакомился позднее». Компания «веселых академиков» образовалась стихийно. Соловин, постигавший в университете основы философии, откликнулся на приглашение Эйнштейна посещать частные уроки по физике. Впрочем, уроки вскоре переросли в дискуссии по мировоззренческим проблемам. Морис предложил своему новому другу вместе читать и обсуждать интересные книги. Вскоре к ним присоединился Конрад Габихт, который приехал в Берн завершать свое математическое образование. Свой кружок они и окрестили «Академией Олимпа». Они собирались после работы и учебы и вслух читали сочинения Спинозы, Юма, Маха, Гельмгольца, Пуанкаре, математические трактаты, шедевры мировой литературы – Софокла, Расина, Диккенса, Сервантеса... «Прочитывалась одна страница, – вспоминал Соловин, – иногда только полстраницы, а порой только одна фраза, после чего следовало обсуждение, которое, если вопросы были важными, могло затянуться на много дней». Чуть позже в компании появился Мишель Бессо, который, по мнению Эйнштейна, был лучшим резонатором новых идей. Именно он был первым, кому Эйнштейн решился рассказать о своей теории относительности. Свою статью «К электродинамике движущихся тел» первооткрыватель релятивизма резюмировал так: «В заключение отмечу, что мой друг и коллега М.Бессо явился верным помощником при разработке изложенных здесь проблем и что я обязан ему рядом ценных указаний».
Кислые перспективы семейной жизни Альберта волновали куда меньше, нежели «Академия Олимпа».
Рожденную в сербском городе Нови-Сад девочку назвали Лизой. Преисполненный возвышенных чувств молодой отец спрашивал в письмах у Милевы: «Здорова ли она, послушна ли? Какого цвета глазенки? На кого из нас больше похожа?» Впрочем, саму девочку увидеть ему так и не довелось. В силу тогдашних пуританских нравов ребенок, рожденный вне брака, считался незаконнорожденным. А учитывая, что в тот момент Эйнштейн рассчитывал на получение швейцарского гражданства и работу в патентном бюро, сей факт считался крайне нежелательным. За моральным обликом потенциальных кандидатов на гражданство тщательно следили детективы.
На родине Милеве пришлось отдать девочку на удочерение. Но Лизерль скончалась еще в младенчестве во время эпидемии скарлатины и, как внебрачная и некрещеная, была безымянно похоронена, предвосхитив судьбу матери.
А то как-то поздним зимним вечером после спектакля заявился гостевать Федор Иванович Шаляпин: «Пустите погреться? На дворе стужа собачья». Как не пустить? Шаляпин сразу же устремился к кирпичной печечке, сложенной дядей Григорием посреди мастерской. Потом, отойдя от морозца, Федор Иванович скинул доху и предстал перед друзьями весь в белом – в джемпере с высоким воротом, в белых валенках. Красавец! – залюбовались им друзья. А Коненков, глядя на него, сказал:
– Слушай, Федор Иванович, а ведь мы с тобой оба русские мужики. Ты из вятских, я из смоленских. Ты вот гляди какой белый березовый ствол, а я как темная дубовая кора...
В ту пору седина Сергея Тимофеевича еще не коснулась. Чернобородый, в красной косоворотке, он сидел за столом и, хитровато посматривая на своего гостя, продолжал:
– Тебе вот бог дал великолепный слух, несравненный голос, а мне бог дал верный глаз и вот эти руки. Посмотри, какие они у меня!
(Руки у Коненкова, конечно же, были примечательными. Та самая юная, 16-летняя поклонница скульптора, будущая писательница Наташа Кончаловская восхищалась его кистями: «Когда он их клал на стол, отдыхая, то такое было впечатление, что им самим были вырезаны из темного дерева. Длинные пальцы, сильные – удивительные руки...»)
Но вот тут у великого баса взыграло самолюбие:
– У меня у самого руки сильные, смотри, какая у меня рука!
Тогда Коненков ухватил Шаляпина за лапищу и, упершись локтями в стол, принялся с ним бороться. Пыхтели-пыхтели, пока дядя Григорий не кинулся разнимать разгоряченных, покрасневших от натуги бойцов:
– Сергей Тимофеич, бросьте, вы ж Федору Ивановичу ручку поломаете. Ну как он выйдет на сцену, а ему ведь распахнуться надобно...
Все рассмеялись, и богатыри миром разошлись...
А ей так хотелось сидеть не на грубой деревянной скамье, а в кресле, и слышать звон хрустальных бокалов, а не граненых стаканов, и закусывать шампанское не огурцами и мочеными яблоками, а грушами «бере клержо».
БАВАРИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ и далее везде, конец ХIХ – начало ХХ в.
– Герман, я с ума схожу. Альбертлю уже скоро семь, а он до сих пор говорит только «да», «нет», «хочу», «не хочу»... Разве это нормально?
– Прошу тебя, Паулина, не надо так волноваться. Перерастет, – пытался успокоить жену Герман Эйнштейн. – Он вполне нормальный, здоровый парень. Ты не переживай. Ну, хочешь, давай еще раз съездим к герру доктору, пусть еще посмотрит нашего мальчика.
– Хорошо.
Развитие Альберта крайне беспокоило родителей. Мальчик явно отставал от своих ровесников, был малообщителен, в разговоре обходился односложными фразами: «Пойду гулять», «Спокойной ночи», «Доброе утро», «Кушать», «Не буду». Наблюдались и другие признаки легкой формы аутизма, самопогружения маленького человечка в его собственный, никому не доступный мир.
Зато, будучи в зрелом возрасте, Эйнштейн получил возможность подтрунивать над любопытными собеседниками, которые интересовались, как это ему удалось создать теорию относительности: «Почему именно я создал теорию относительности? Когда я задаю себе такой вопрос, мне кажется, что причина в следующем. Нормальный взрослый человек вообще не задумывается над проблемой пространства и времени. По его мнению, он уже думал об этой проблеме в детстве. Я же развивался интеллектуально так медленно, что пространство и время занимали мои мысли, когда я стал уже взрослым. Естественно, я мог глубже проникать в проблему, чем ребенок с нормальными наклонностями».
Но еще более родителей беспокоило то, что на Альберта иногда накатывали необъяснимые припадки гнева, и в эти моменты лицо его становилось совершенно желтым, а кончик носа бледнел. Как правило, свою злость Альберт срывал на своей младшей сестре Майе. Однажды он швырнул в нее кегельный шар, в другой раз едва не пробил ей голову детской лопаткой. Когда родители надумали обучать его игре на скрипке, мальчик безмерно страдал и... доводил до исступления своих мучителей учителей.
В десять лет будущий гений поступил в Мюнхенскую гимназию. С учебной программой справлялся, переходя из класса в класс, но занятия его мало интересовали, как, впрочем, и обычные школьные забавы. Академическое образование его раздражало своей скукотой, зато дома он наслаждался свободой... Он мастерил различные механические модели, дядя Якоб, живший в семье, нередко подсовывал племяннику разные математические задачки и головоломки, и мальчишка был счастлив, когда ему удавалось с ними справляться. Якоб пытался внушить племяннику: «Алгебра – веселая наука. Когда мы не можем обнаружить зверя, за которым охотимся, мы временно называем его «икс» и продолжаем охоту, пока не засунем его в подсумок».
Заметив неподдельный интерес юнца к точным наукам, друг семьи Эйнштейнов, студент-медик Макс Талмуд подсунул Альберту евклидовы «Начала», потом «Силу и материю» Бюхнера, «Критику чистого разума» Иммануила Канта. Вселенная Альберта перевернулась еще раз – он открыл для себя строгие доказательства геометрии и абстрактные понятия философии. Его временные религиозные настроения улетучились, он стал исповедовать нечто вроде космической религии неверующего, сохранившуюся на всю жизнь.
Юного Альберта особенно озадачила фраза Канта: «Смех есть аффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто». Он разгадал эту головоломку: когда некое напряжение разряжается в ничто, ему на смену приходит расслабление, которое выражается в телесных конвульсиях. Мудрый германский философ настаивал, что смех целителен, но совершенно противостоит идее свободы, потому что действует помимо воли человека...
Преподавателей Эйнштейн раздражал своим независимым поведением, но особенно своей замедленной речью. Детей здесь муштровали, они маршировали, а учителя не вразумляли, а рявкали. Это была не школа – казарма. С презрением вспоминая годы своего ученичества, Эйнштейн говорил: «Учителя в начальной школе казались мне сержантами, а в гимназии – лейтенантами».
А «лейтенанты» качали головами и печально предрекали: «Из вас, Эйнштейн, никогда ничего путного не выйдет».
В конце концов он даже собрался бросить гимназию, просил психиатра выдать ему справку о необходимости полугодового академического отпуска для восстановления здоровья. Но руководство гимназии его опередило, за год до выпуска сказав ему: «Ауфвидерзеен!»
Завершать образование родители отправили Альберта в швейцарский городок Aaрaу. Там ему предложил кров школьный преподаватель древнегреческого языка и истории Йост Винтелер. Жизнь в доме учителя сулила массу преимуществ. Но главным, помимо чисто бытовых и учебных удобств, оказалось то, что в соседней с постояльцем комнате обитала очаровательная дочь учителя, 19-летняя Мари.
Много позже она сама вспоминала, что «они очень любили друг друга, но их любовь была чистой». Может быть. Но кто знает, вероятно, пребывая уже в почтенном возрасте, дама просто не имела желания откровенно говорить о своих девичьих шалостях с несовершеннолетним юношей? Во всяком случае, когда Альберт уехал в Цюрих поступать в местный политехнический институт, Мари была до глубины души оскорблена, сочтя, что возлюбленный ее безжалостно бросил. В итоге испереживалась до такой степени, что даже угодила в психбольницу.
Но Эйнштейн продолжал трогательно убеждать ее в своих чувствах: «Какое очаровательное письмо, оно меня бесконечно обрадовало. Какое блаженство прижать к сердцу листок бумаги, на который с нежностью смотрели эти дорогие мне глаза, по которому грациозно скользили твои прелестные ручки. Мой маленький ангел, сейчас впервые в жизни я в полной мере почувствовал, что значит тосковать по дому и томиться в одиночестве. Но радость любви сильнее, чем боль разлуки. Только теперь я понимаю, насколько ты, мое солнышко, стала необходима мне для счастья. Ты значишь для моей души больше, чем прежде значил весь мир».
Альберт ничуть не врал, писал совершенно искренне, он всякий раз влюблялся раз и навсегда. Но столь же скоро остывал. Много позже в минуту откровения он признался: «Очень скоро я устану от теории относительности. Даже такая страсть улетучивается, когда ей уделяешь слишком много внимания...» Хотя нет, в любви к физике Эйнштейн был более постоянен, нежели в любви к женщинам.
Мари отвечала ему с той же страстью: «Я не могу найти слов просто потому, что их нет в природе, чтобы рассказать тебе, какое блаженство почиет на мне с тех пор, как твоя обожаемая душа избрала себе обителью мою душу... Я люблю тебя вечной любовью, и пусть Господь спасет и сохранит тебя... Милый, милый, любимый, наконец-то, наконец-то я счастлива, как бывает только тогда, когда я получаю твои бесценные, бесценные письма».
При первой попытке поступления на педагогический факультет Цюрихского политехникума Эйнштейн потерпел фиаско, провалив экзамены по ботанике, зоологии и французскому языку.
Лишь со второго захода ему удалось стать студентом, хотя и получил весьма средние баллы. В новой студенческой среде Альберта особо стало тяготить одиночество. Он нуждался если не в друзьях, то хотя бы в собеседниках или в человеке, который бы смог его выслушать, услышать и понять.
Альберта вряд ли можно было назвать прилежным студентом. Лекции он посещал нерегулярно, предпочитая читать учебники дома, а экзамены сдавал по конспектам своего приятеля Марселя Гроссмана. От студенческих пирушек старался уклоняться, ссылаясь на Бисмарка: «Пиво делает людей глупыми и ленивыми». Но когда избежать дружеских посиделок бывало невозможно, компании никогда не портил. Его шутки ценились очень высоко. Хотя себя он считал человеком, у которого «нет потребности часто встречаться с людьми», время от времени он нередко проводил легкомысленные вечера за сигарой, кофе и застольной болтовней, ухлестываниями за девушками.
Одну свою сердечную подружку из Аарау, Джулию Ниггли, он покровительственно поучал: «До чего же странная девичья душа! Неужели вы действительно верите, что сможете обрести безмятежное счастье через другого человека, даже если этот человек один-единственный любимый мужчина? Я близко знаком с этим животным по личному опыту, ибо я один из них. Я точно знаю, что от них нельзя многого ожидать. Сегодня мы грустны, завтра веселы, послезавтра холодны, затем опять раздражительные и усталые от жизни – да, я чуть не забыл о неверности, и неблагодарности, и эгоизме – о том, что нам присуще в значительной степени, чем милым девушкам...»
Единственной представительницей прекрасного пола в группе студентов оказалась Милева Марич, сербская девушка из известной в Воеводине состоятельной и уважаемой католической семьи. Как и Альберт, она увлекалась физикой и математикой, и мысли, идеи, которые высказывал молодой Эйнштейн, звучали для нее мелодиями любовных признаний. И то, с каким кротким вниманием она относилась к его словам, покорило Альберта. Именно это, а далеко не живость ума или привлекательная внешность, коими Милева, мягко говоря, не обладала, сблизило молодых людей. (Хотя застенчивый Альберт по-прежнему отсылал свое грязное белье для стирки Мари в Аарау, и та высылала его выстиранным обратно по почте.) Но, сделав окончательный выбор в пользу Милевы, в своем прощальном письме бывшей возлюбленной Эйнштейн опять напоминает ей сакраментальное: «Любовь приносит больше счастья, чем жажда встречи – боли». Хотя кто знает, если бы в политехникуме училось еще несколько девиц, выбор симпатичного и любвеобильного парня по имени Альберт пал бы на какую-нибудь другую, а не на Милеву...
Но Милева была рядом, стоило только протянуть руку, чтобы почувствовать исходящее от нее тепло, отклик и безмерную покорность. Она действительно была идеальной партнершей для Эйнштейна, безошибочно понимавшая его научный говорок. К тому же была какой-никакой, но все же женщиной, в нежности и ласках которой он постоянно нуждался: «Целую тебя повсюду, где ты мне разрешаешь».
Отправившись после окончания политехникума в Италию, Альберт засыпает возлюбленную нежными письмами: «Ты обязательно должна приехать сюда, моя очаровательная волшебница. Потеряешь немного времени и доставишь мне небесные наслаждения». Молодой Эйнштейн страдал: «...Я потерял разум, умираю, пылаю от любви и желания. Подушка, на которой ты спишь, во сто крат счастливее моего сердца! Ты приходишь ко мне ночью, но, к сожалению, только во сне...»
Милева, разумеется, откликнулась на зов будущего гения (в чем была абсолютно уверена) и явилась наяву. А потом неожиданно обнаружила, что беременна. Стало быть, не зря Альберт с восторгом вздыхал: «...Приятные воспоминания о том, как счастлива ты была в наш последний день, проведенный вместе, не покидает меня. Так что позволь мне поцеловать твой маленький ротик, чтобы не дать уйти этому счастью!»
По окончании политехникума Альберт почти два года маялся неприкаянным, перебиваясь частными уроками. Он был единственным из выпускников отделения физики и математики, оставшимся без всяких видов на трудоустройство. Получив диплом преподавателя математики и физики, он (кстати, как и Коненков в Питере) остался «вольным художником».
По-разному толкуют факт, что Эйнштейна не оставили работать в политехникуме. Кто-то говорил, что виной тому его неприкрытый атеизм. Ведь юноша, заполняя анкету, в графе «религиозная принадлежность» написал: «Никакой религии». Другие решительно отрицали наличие в нем каких-либо преподавательских способностей. Сам Эйнштейн был уверен в ином: «Я был третируем моими профессорами, который не любили меня из-за моей независимости и закрыли мне путь в науку». Во всяком случае, профессор Вебер, руководитель кафедры, на которой учился будущий отец релятивизма, наотрез отказался оставить на работе молодого вольнодумца, который в нарушение корпоративного кодекса осмеливался называть его не «господином профессором», а просто «господинам Вебером». Даже заступничество влиятельного профессора Минковского, первым угадавшего гениальные способности своего студента, не помогло.
Позже, исходя из собственных неприятностей, Эйнштейн вывел свою первую гениальную формулу – «формулу успеха»:
А= Х+Y+Z,
где A – успех, Х – труд, работа, Y – игра и отдых, а Z – умение держать язык за зубами. Он не отчаивался, потому что знал, что человек, потерпевший поражение, знает о том, как побеждать, больше, чем тот, к кому успех приходит сразу.
* * *
Он так бы и прозябал в нищете, оставаясь «свободным художником», если бы, по мнению некоторых современников, в его судьбу не вмешались «вольные каменщики». Как они считали, именно масоны сумели разглядеть в молодом, амбициозном ученом потенциальную звезду первой величины и протянули руку помощи.
Один из близких приятелей Эйнштейна по политехникуму, Марсель Гроссман, обратился за помощью к отцу, тот рассказал о проблемах Альберта директору Федерального ведомства патентов в Берне, а последний, встретившись с Эйнштейном, предложил ему далеко не пыльную и вовсе не хлопотную должность референта патентного бюро третьего класса с годовым жалованьем в три с половиной тысячи швейцарских франков. Это было уже кое-что. Ведь в годы студенчества приходилось жить на сто франков в месяц, которые ссужали Альберту богатые родственники из Генуи. Да и из этой суммы двадцать франков он откладывал, чтобы, собрав необходимую тысячу франков, заплатить за швейцарское гражданство. Оставаться гражданином Германии Эйнштейну откровенно не хотелось.
Бернский период своей жизни и службу в патентном бюро Эйнштейн назвал «счастливыми годами» – «...после восьми часов работы остается еще восемь часов на всякую всячину, да еще есть воскресенье». «Всякой всячиной» стала «Академия Олимпа». Даже спустя десятилетия Альберт Эйнштейн напоминал своему другу юности Морису Соловину: «Хорошее было время тогда в Берне, когда мы учредили нашу веселую академию, которая была менее ребяческой, нежели те почтенные академии, с которыми я близко познакомился позднее». Компания «веселых академиков» образовалась стихийно. Соловин, постигавший в университете основы философии, откликнулся на приглашение Эйнштейна посещать частные уроки по физике. Впрочем, уроки вскоре переросли в дискуссии по мировоззренческим проблемам. Морис предложил своему новому другу вместе читать и обсуждать интересные книги. Вскоре к ним присоединился Конрад Габихт, который приехал в Берн завершать свое математическое образование. Свой кружок они и окрестили «Академией Олимпа». Они собирались после работы и учебы и вслух читали сочинения Спинозы, Юма, Маха, Гельмгольца, Пуанкаре, математические трактаты, шедевры мировой литературы – Софокла, Расина, Диккенса, Сервантеса... «Прочитывалась одна страница, – вспоминал Соловин, – иногда только полстраницы, а порой только одна фраза, после чего следовало обсуждение, которое, если вопросы были важными, могло затянуться на много дней». Чуть позже в компании появился Мишель Бессо, который, по мнению Эйнштейна, был лучшим резонатором новых идей. Именно он был первым, кому Эйнштейн решился рассказать о своей теории относительности. Свою статью «К электродинамике движущихся тел» первооткрыватель релятивизма резюмировал так: «В заключение отмечу, что мой друг и коллега М.Бессо явился верным помощником при разработке изложенных здесь проблем и что я обязан ему рядом ценных указаний».
Кислые перспективы семейной жизни Альберта волновали куда меньше, нежели «Академия Олимпа».
Рожденную в сербском городе Нови-Сад девочку назвали Лизой. Преисполненный возвышенных чувств молодой отец спрашивал в письмах у Милевы: «Здорова ли она, послушна ли? Какого цвета глазенки? На кого из нас больше похожа?» Впрочем, саму девочку увидеть ему так и не довелось. В силу тогдашних пуританских нравов ребенок, рожденный вне брака, считался незаконнорожденным. А учитывая, что в тот момент Эйнштейн рассчитывал на получение швейцарского гражданства и работу в патентном бюро, сей факт считался крайне нежелательным. За моральным обликом потенциальных кандидатов на гражданство тщательно следили детективы.
На родине Милеве пришлось отдать девочку на удочерение. Но Лизерль скончалась еще в младенчестве во время эпидемии скарлатины и, как внебрачная и некрещеная, была безымянно похоронена, предвосхитив судьбу матери.