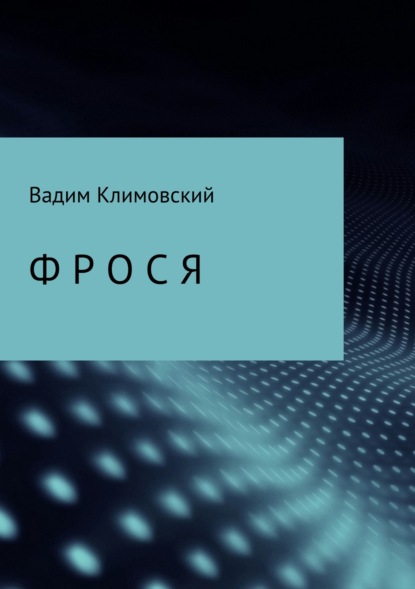По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фрося
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Борис передернул плечами. Выключил газ – чайник клокотал…
…Мишка постукивал трубой по стволу старого ясеня (деревья сажал еще дед, знал о нем только по рассказам, от матери, откуда и как появился Полковник – тогда еще вовсе не знал), Бельмондо с силой вгонял прут в нежесткую под прелой листвой землю, дергал – прут упруго, с зудом, вибрировал, – сидели, перебрасывались фразочками, курили, негромко похохатывали, он играл кастетом, пятнадцать минут растянулись в час, первым не выдержал Бельмондо – "Может, пойдем?" – Борис в ответ расхохотался, как после похабного анекдота, хлопнул Бельмондо по плечу, Мишка лениво разогнул и снова согнул трубу, крючок стал кривым, уродливым, и тут Полковник поднялся…
Так же, как тогда, гулко заколотило в груди, потянулся за сигаретой, прикурил от окурка, руки дрожали…
…тихо, почти не шевеля губами, приказал: "Ноль внимания" – Бельмондо, расшатывая прут, выверчивал в земле воронку, – "Заржи!" – незаметно показал Мишке палец, Мишка громко заржал – искренно и страшно, – а Полковник уже шагал, прямой, словно на параде, с несложенной газетой – мимо них, к дому – на крыльце, у дверей остановился, повернулся, все трое ответили на его взгляд – процедил: "Бандюги!" – никто не шелохнулся, Борис отчеканил: "Кругом! – арш!" – и Полковник исчез в доме. Импровизация, пошлая отсебятина – а у Полковника в роли то была последняя реплика…
– Борис Иваныч!
Борис вздрогнул и пробурчал что-то семиэтажное…
– Я в кухне!
Появилась на пороге, смотрела, не мигая, на Бориса, на белый пластиковый стол под его локтем.
– Тоже – ненастоящее?
– Не-ет, фабричное, наследство от прежнего жильца, за копейки оставил. В угол садитесь, там уютней, ешьте, пейте.
Обрамленное мокрыми вихрами, лицо её как-то… оформилось, что ли. Порозовело, синяки под глазами исчезли. А фигурка-то ничего, в самом деле – тридцать шестой. Брюки даже в бедрах не натянуты – что же это за юбка у нее такая… квадратная… Внизу закатала, так же, как рукава рубахи – на один раз. Не на много он ее выше…
– Борис Иваныч… ну что вы… разглядываете…
Эээ, уже не розовая – пунцовая!..
– А не стойте, как на выставке. И оставьте своё "Иваныч"!
Посторонился, она пробралась в тесный угол, села бочком.
– А вы?
– Постелю вам и пойду… В брюках вам надо ходить!
Секунду наслаждался ее замешательством, усмехнулся и вышел. И тут же заглянул из коридора:
– Да! Звать-то вас как?
Ответила не сразу.
– Меня?.. Фросей. – Мельком, с испугом взглянула на него, опустила глаза в пустой стакан.
– Нет, серьезно.
– Правда. В паспорте – Ефросинья. Что так смотрите?
– Ничего. Ешьте, пейте… Фрося. – Покачал головой и пошел в комнату.
В коридоре вдруг остановился. Фрося, Фрося… Какая-то картина всплыла – и растаяла, не успел разглядеть. Размытые цветные пятна: красное, зеленое, голубое. И неприятный осадок. И мучительное ощущение ускользающего воспоминания. Постелить – и уйти…
– Так вам на раскладушке, Фрося? – крикнул.
– А мне все равно!
Равно так равно. Спи на фанере… Только что прошлое завораживало, затягивало – тревожно и сладко – уводило от сегодня, от завтра. И вдруг: "Фрося" – и малодушный страх перед бездной прошедшего. Скорей к Наталье, забыть про всё: вчера, сегодня, завтра – у Натальи только "сию минуту" есть… Глянул на часы – и швырнул простыню: скоро десять! На час опоздал, а пока доберется… Идти, не идти?!.. И позже являлся – но… Треклятый какой-то вечер… напиться бы – как напился после цирка с Полковником…
…"Ну тебя… – сказал Бельмондо, уточнил куда и зашвырнул прут в кусты. – Пошли отсюда", – Мишка бубнил: "В глотке пересохло, промочить бы…" – "Напиться, напиться," – пробормотал Борис, и пошли пить, на Кручу. Никогда не пьянел, потому пить не любил: «бестолку» – но в тот вечер пил и пил, пока не вывернуло наизнанку, – но мозги оставались ясными, с глаз не уходил Полковник с развернутой газеткой…
…пришел домой и свалился, в одежде, на глазах у Полковника, и тот – ни слова, вообще с того дня замолчал, никому ни слова, ел, спал, читал газеты, – и он – ни слова, да и с матерью разговор тот по душам последним был…
(Нет уж, пусть спит на раскладушке, отсюда скатится, без привычки-то, и бока отдавит…)
…только в ночь побега, в последний момент, уже в дверях, процедил Полковнику – онемевшему, но ведь не оглохшему: "Следить за тобой будут, учти: мать не напишет – есть кому и без неё, – приеду!.."
(Сказать ей: никуда не пойдет – не уйти уже… впереди бессонная ночь, с чужим человеком под одной крышей.)
Бросил на ее постель подушку – придется себе ватное одеяло доставать, под голову. Достилал тахту, пытался вырваться из засасывающей тины прошлого – но снова нахлынуло, заслонило тахту, одеяло в руках…
…а через комнату шла мать, улыбалась, несла тарелку, прикрытую льняным полотенцем, вкусно пахло жареным тестом, постным маслом – "Боренька, Боренька, угадай – что?" – Боренька делал вид, что гадал, плясал под тарелкой, поднятой над его головой, дурачился, – "Смотри!" – откинула полотенце, открылась гора золотистых с темными прожарками оладьев, обожал их, объедался до одурения, мать знала, счастливо улыбалась – "Сегодня муку давали" – сколько раз так было?.. А в тот день, не притрагиваясь к оладьям, спросил в упор: "Где мой отец, мать?" – и в точности, как за несколько лет до того, когда вернулись с войны уже давно все, кто жив остался, и он, совсем еще мальцом, впервые задал матери этот вопрос, – отвела глаза (улыбка потускнела, застыла), теми же словами, будто заучила на всю жизнь: "Далеко, Боренька, на Севере где-то, ты еще не родился – уехал, на секретную работу… Ты не спрашивай" – и ушла в кухню, там – знал он – тихо плакала, и не спрашивал больше, оладьи стыли, смотрел на фотку у вазочки, слова Ивана не выходили из головы – "Вохровец, сын вохровца!" Теперь уж не помнит – чем довел Ивана, никогда не видел таких злых глаз у тихого, молчаливого Ивана, не любил тихих, за шесть лет школы не сказал с ним десяти слов, чем-то отгородился тонконогий, тонкорукий Иван, с большой головой на тонкой шее, отгородился от всех, что-то было в его широко расставленных глазах, что останавливало, держало на расстоянии…
"Ширк… ширк… ширк…" – из коридора. Прислушался: подметает, чудачка. Выйти в коридор, выхватить веник, швырнуть в угол, – но не двинулся с места. Пусть подметает, если нравится. Принялся раскатывать постель…
…и уже сидел с Иваном на Круче, далеко внизу чернела река, несла от порта мусор, масляные радужные пятна, Иван зябко ежился в стареньком ватнике, тонул в нем, ветер норовил сдуть с обрыва, мигом уносил Ивановы слова, они звучали глухо в сыром воздухе, черные, как вода внизу, как тучи над головой – вот-вот разродятся снегом, – а Иван все говорил, говорил, объяснял, как маленькому, – откуда знал всё это тонкошеий Иван с большими испуганными глазами? – но Борис верил, слушал, не переспрашивая, оцепенев, – на том берегу краны застыли скелетами допотопных чудовищ, с длинными узкими мордами… И весь месяц после ходил он будто в полусне, притих, просиживал с Иваном на Круче, пока не выпал снег, – однажды Иван стал читать стихи, Борис тогда стихов не любил, не читал, в детстве мать иногда пыталась вслух – не слушал, а тут слушал, не по-нимал, но слушал, все в том же оцепенении (хорошие были или плохие? – сейчас не помнит ни строчки). Узнал тогда, что Ивану уже пятнадцать, перед самой школой слег тяжело почти на год, учиться пошел с восьми, а никто в классе не знал… – и еще: приносил Иван ему книги, и он читал их по ночам, никуда не ходил, ни с кем не виделся, жил как под гипнозом… фотография со стола исчезла сразу же после Кручи, но Полковник смотрел на него свирепо – с классной доски, из черной воды, с книжных страниц, – это было как болезнь, как наваждение (или теперь так кажется?), и только после исчезновения Ивана – простыл-таки, слег, после увезли родители куда-то на запад, за Урал, так и не появился больше в школе, а домой к Ивану он не пошел, не хотел, не знал, что уедет Иван навсегда, что не увидятся больше, а когда узнал – будто проснулся, с цепи сорвался, мать – никогда ничего, а тут: "Боренька, что с тобой, все на тебя жалуются, я защищаю, а ты и в школу перестал ходить", – что с ним, что с ним – и сам не знал, что с ним, заорал тогда – впервые в жизни – на мать: "К чертям твою школу, сама туда ходи!" – грубо, глупо, – и совсем бросил, к Сюньке прилепился, к его компаше, недолго с ними бродил, тошно от них стало, и смотрели на него, как на чужака, все равно, хоть и старался – открыл им путь на крышу, сам полез через чердак, руки прилипали к промерзшему железу, открыл отмычкой физкабинет – всё сам, сам – вытащил оттуда какой-то тяжеленный прибор, до сих пор не знает, что за штука была – в другой школе все глаза проглядел, не было там такой – так и не узнал, что же это он украл, ни гордости, ни удовольствия, лишь злость утихала на время, – Сюнька пристроил, принес червонец – "твоя доля" – он почему-то озверел, изорвал на мелкие кусочки, швырнул прямо в Сюнькин разинутый рот и послал их всех, – Сюнька еще прилипал пару раз, потом озлился, а он только издевался при встречах, Сюнька тогда уже при Малыше состоял, зад лизал… В контору какую-то приперся, взяли его бабы, посмеиваясь, учили штукатурку замешивать, но больше красить нравилось, смотреть, как белила расплываются, укрывая под собой старую жухлую краску, – еще больше нравилось выкладывать перед матерью получку, мир у них с матерью сохранялся, хоть почти и не говорили ни о чем, отодвинулись друг от друга, видел, что уж вполоборота к нему – к Полковнику повернулась, ждет, надеется, что вернется… И вернулся…
Присел на краешек застланной тахты, прижал к вискам ладони, пытаясь унять болезненный стук. Устал…
…устал, устал, выдохся, надоело все – красил себе потихоньку, в свое удовольствие, додумался однажды: старую краску, жухлую – сдирать надо, шпаклевать, провозился с одной дверью полдня, и – выгнали бабы, на смех подняли… К тому времени уж успокоился, смирился, осенью мать легко уговорила, вернулся в школу – в другую, не хотел вместе с матерью, знал, что больно ей делает – потому и пошел в другую, назло – ей, себе, ждал, мучаясь нетерпеньем, когда стукнет шестнадцать, готовил ей – приятное, неприятное? – не знал толком, но твердо решил, ни слова о том не говорил, после Ивана за два года много еще узнал, жадно слушал любые разговоры об этом, но сам не встревал, молчал: казалось, услышит то же слово, мохнатое и мерзкое, как гусеница, непонятное, когда услышал его от Ивана, а теперь слишком понятное, – и как же мать испугалась, когда принес, наконец, из милиции новенький паспорт, развернул, со злобной усмешкой прислонил к вазочке – той самой, что подпирала когда-то фотку с Полковнником – и мать прочитала там свою фамилию… "Зачем же ты, Боренька?.. Зачем?.. Ведь он и без того…" – не договорила, проглотила, а ему наплевать: не понимал тогда, что под самый дых Полковнику тот удар, да только двойным оказался – и по матери пришелся, и по матери, – но до открытия этого, до письма, с десяток лет еще предстояло прожить…
Слегка закружилась голова – комната поплыла. Полпачки за два часа. Крепко зажмурил глаза. Хватит, хватит, довольно. Першило в горле, поташнивало. А Фрося там сидит. Фрося… Опять всплыло: красное, зеленое, голубое – но это уже ассоциация получасовой – а не многолетней – давности, пятна оформились, очертания четкие, но по-прежнему абстрактные. И снова закрылось непроницаемой пеленой то, что силился вспомнить, и неприятный осадок – от чего?..
Борис медленно поднялся, побрел в кухню – Фрося спала сидя, откинувшись головой в угол. Лицо посерело, рот глуповато открыт. Сколько она не спала? Сутки, двое?.. На рубахе нет двух верхних пуговиц (ага, вот почему он ее не носил), половинка ворота широко распахнута, обнажилась плавная линия плеча, гладкая белая кожа, и еще белее – там, где начиналась грудь. Без лифчика, а рубаха вон как натянулась…
Шагнул в кухню – тотчас открыла глаза, выпрямилась, суетливо схватилась за несуществующие пуговицы. Потом быстро смахнула что-то невидимое с глаз, сразу обеими ладонями, улыбнулась:
– Я не спала. Я так.
– Вижу, что "так". Почему не ели?
– Чаю выпила. – Подсохшие волосы распушились, косматились в беспорядке, наступая на лоб, на щеки. Вот так бы и оставила, надо ей сказать… Ладно, обойдётся.
Подсел к столу. Фрося продолжала смотреть, не мигая. Темные глаза блестят – поспала все же, минут пятнадцать…
– А вы не уходите?
Облегчила ему задачу.
– Вышло так, что нет. Поздно. – Искоса глянул: не подумала ли чего-нибудь… – Вот так.
– Да мне все равно.