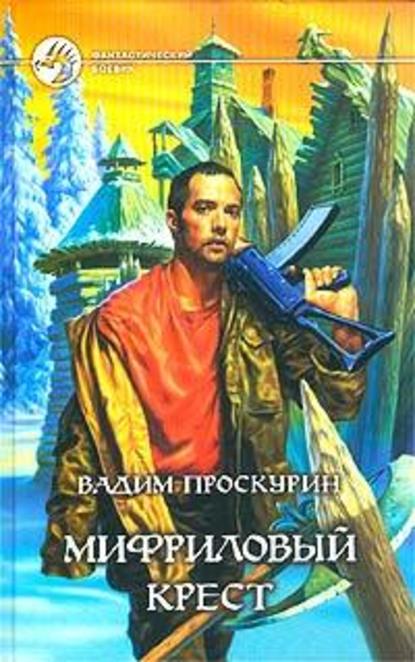По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мифриловый крест
Жанр
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Стрельцов не было. Хотелось есть. То ли в древнерусских деревнях не принято завтракать, то ли Тимофей решил на нас сэкономить. Я позвал пробегающего мимо пацаненка лет восьми, он нашел Тимофея, и я задал ему этот вопрос. Дед ответил, что завтракать действительно не принято, а для обеда еще рано, но если почетные гости настаивают, он распорядится. Почетные гости настаивали, и он распорядился.
Мы пообедали картофельной похлебкой, в которой плавали редкие кусочки лука и еще более редкие обрезки сала. На соли крестьяне явно экономили. Черный хлеб был черствым. Похоже, для почетных гостей с него срезали плесень. Но лучше такая еда, чем никакая.
После обеда Усман решил не ждать у моря погоды и ехать. Дед Тимофей сообщил, что ближайший город называется Подольск, до него два дня пути, причем не важно – пешком двигаться или на лошади, потому что крестьянские лошади путешествуют шагом и никак иначе. Бывают еще лошади барские, военные и почтовые. Они могут бежать рысью, но ближе Шарапова Яма их все равно не найдешь. Усман велел подготовить телегу и кучера, и Тимофей удивился, что почетные гости предпочитают путешествовать в телеге, а не верхом. Ему даже не пришло в голову, что мы ездить верхом попросту не умеем. Вдоволь наудивлявшись, Тимофей отдал необходимые распоряжения, и к крыльцу была подана хорошо знакомая нам телега в комплекте с белобрысым подростком Федькой в качестве кучера.
Когда мы собрались отъезжать, Тимофей упал на колени и нижайше просил не отбирать телегу и лошадь навсегда, а позволить Федьке вернуться домой. Усман милостиво согласился. Тимофей нижайше умолял поклясться, и Усман поклялся милосердным Аллахом. Дед Тимофей впал в прострацию. На этой ноте мы и покинули деревню Михайловку.
11
Федька явно боялся. Он старался не показывать свой страх, но боялся. Думаю, каждую минуту ему казалось, что страшные воины в пятнистой броне превратятся в каких-нибудь кощеев и в лучшем случае сожрут его живьем, а в худшем – растерзают грешную душу, не дав ей никаких шансов попасть в райские кущи или во что они тут верят. Кстати, не прояснить ли этот вопрос, ведь делать все равно нечего.
– Скажи мне, Федор, – начал я, – как был сотворен мир?
Федор испуганно шмыгнул носом, втянул голову еще глубже в плечи и ответил дрожащим голосом, которому безуспешно пытался придать взрослую сиплость:
– Бог сотворил мир за шесть дней.
– А откуда взялся первый человек?
– Хватит маяться дурью, – перебил меня Усман, – лучше посмотри вперед.
– Стрельцы, – жалобно выдохнул Федор. К нам приближался десяток всадников на более-менее приличных лошадях, судя по виду – из тех, что могут некоторое время бежать рысью, а потом не упадут замертво. Эти лошади напомнили мне тех, на которых в наше время ездят боевики по чеченским горам.
Униформа всадников была более чем оригинальна. Длинный стеганый кафтан с разрезами по бокам – для удобства верховой езды, высокая шапка с меховой оторочкой, вытертой у всех до состояния искусственного Чебурашки, галифе, высокие сапоги со шпорами – и все это цвета хаки. Камуфляж без пятен и разводов, однотонный – как во времена Великой Отечественной. И все-таки камуфляж. Из оружия наличествовали пять огромных ружей, сравнимых по габаритам только с тяжелыми снайперскими винтовками, и четыре тонкие пики с красными флажками, закрепленными около острия. Также стрельцы обладали саблями: у тех, кто с ружьями, сабли выглядели поменьше, у тех, кто с пиками, – побольше. Десятый всадник, очевидно командир, имел при себе саблю с трехцветным шнурком на эфесе, нехилую дубину, окованную на конце железными ребрами, два длинноствольных кремневых пистолета в специальных карманах на седле и бронежилет. Скорее всего, это был просто жестяной лист, обтянутый брезентом, но издали сооружение выглядело в точности как титановый десантный бронежилет.
Приблизившись метров на сто, всадники перестроились в шеренгу, и оказалось, что их не десять, а одиннадцать. Одиннадцатым был монах в сильно испачканной черной рясе. Его лицо заросло бородой по самые глаза, так что возраст нельзя было определить даже приблизительно. Монах не имел никакого оружия, кроме двух пистолетов в седельных карманах, но сдавалось мне, что эти пистолеты достались ему вместе с первым попавшимся седлом, выданным в спешке. Самой заметной деталью в облике монаха было гигантское распятие на груди, которое новые русские называют «крест с гимнастом».
Стрельцы развернулись в цепь, Федор попытался было пропищать «тпру-у», но был остановлен железной рукой Усмана, ласково похлопавшей его по спине.
– Не дрейфь, малец, – ободрил его Усман, – прорвемся.
Стрельцы с ружьями переместились на фланги, спешились и стали снимать с лошадиных спин железные треноги. Все правильно – только неисправимые оптимисты стреляют с руки из ружья такого размера. Далековато они спешились, на дистанции в сто метров попасть в человека из гладкоствольного ружья непросто даже с упора.
Командир и монах продолжали движение неспешной рысью, метрах в пяти за ними следовали стрельцы с пиками. Равнение они держали идеально. Я рассмотрел лицо командира – молодой, вряд ли старше двадцати трех, это окладистая борода придает ему более взрослый вид. Усман тяжело вздохнул и два раза щелкнул предохранителями, приведя в боевое состояние автомат и подствольник. Затвор он не передергивал – так делают только голливудские герои, нормальный человек загоняет патрон в патронник заранее.
Я повторил манипуляции Усмана. Мы переместились поближе к краям телеги, чтобы удобнее было спрыгнуть на землю, если понадобится. Не было сказано ни слова – нет необходимости сотрясать воздух: двум обстрелянным бойцам все понятно и так.
До всадников осталось метров двадцать, когда юный командир стрельцов поднял вверх левую руку. Лошади остановились, как духи-новобранцы по команде «стой, раз-два». Хорошая у них строевая подготовка.
Командир повернул руку ладонью к нам, и Федор натянул поводья, не дожидаясь приказа. Его и не последовало.
Практически синхронно мы с Усманом мягко спрыгнули с телеги и неспешно пошли навстречу стрельцам, держа автоматы в положении «на грудь». Ремни, впрочем, сняли с плеч – только самоубийцы в ближнем бою набрасывают автоматный ремень на шею.
– Кто такие? – спросил властным тенором главный, когда до нас осталось десять-пятнадцать шагов.
– А вы кто такие? – переспросил Усман. На лице главного стрельца отразился вовсе не гнев, как я ожидал, а удивление.
– Если ты еще не понял, мы – дорожная стража Крымского тракта, – сообщил он. – А ты кто такой?
– Разве дорожная стража не должна представляться? – спросил Усман.
– Командир второго взвода Подольской роты подпоручик Емельянов, – сообщил командир и сделал неопределенный жест булавой, который, должно быть, символизировал отдание чести. – В третий и последний раз спрашиваю, кто вы такие. Потом огонь на поражение.
– Я Усман ибн-Юсуф Абу Азиз эль-Аббаси, – отрекомендовался Усман. – А это мой друг Сергей… э-э-э…
– Иванов, – подсказал я.
– Мой друг Сергей Иванов, – закончил Усман.
– Ты чеченец?
– Араб.
– Не важно. Куда направляетесь?
– К вам. Мы ждали вас в Михайловке все утро, но вы так и не появились. Пришлось выехать навстречу.
На лице подпоручика Емельянова отразилась сложная гамма чувств. Он не понимал, что происходит, но подозревал, что над ним издеваются.
– Не советую стрелять, – произнес Усман с ласковой улыбкой на лице. – Мы тоже стреляем на поражение.
– Что это за пищали? – спросил подпоручик.
– АК-74, – честно ответил Усман. – Пусть вас не обманывает, что ствол у них тонкий и короткий. Они стреляют нисколько не хуже ваших.
– Зачем пугали людей на тракте? – Подпоручик решил подойти к проблеме с другого конца.
– Кто пугал? – как бы не понял Усман.
И это оказалось последней каплей, переполнившей терпение командира второго взвода.
– Бросай оружие! – заорал он. – Неподчинение карается расстрелом на месте! Считаю до трех. Раз, два…
На счет «два» тишину взорвали две автоматные очереди. Я стрелял под ноги стрельцам левого фланга, если смотреть с нашей стороны, Усман дал очередь поверх голов правого фланга. Подпоручик Емельянов явил миру глаза по пять копеек и открыл рот. Лошади стрельцов сдали полшага назад, испуганно прядая ушами. Федька полез под телегу, его лошадь заржала и попыталась отступить, но уперлась задом в передок телеги и остановилась.
Единственным, кто сохранил самообладание, был монах. Он поднял перед собой распятие и произнес густым басом, неожиданным для его тщедушного тела:
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа…
Глаза Иисуса Христа на распятии вспыхнули недобрым золотистым светом. Крест на моей груди изменился. Нельзя сказать, что он стал горячее или холоднее, легче или тяжелее, он просто как-то изменился. И его изменение послало в мой мозг четкий и недвусмысленный приказ, которого нельзя ослушаться, потому что иначе конец.
Я поднял ствол и сделал парный выстрел. Между двумя глазами монаха красным цветком расцвел третий. Редкостная удача! Очень трудно направить пулю в какую-то определенную часть тела противника, когда стреляешь навскидку. А вторая пуля усвистела куда-то далеко – это нормально, именно поэтому мы говорим «одиночный выстрел», а подразумеваем «парный».
Монах дернулся, как будто был марионеткой, которую резко потянули за веревочку откуда-то сверху. Он завалился на сторону и рухнул на землю, как мешок с чем-то мягким и неодушевленным. Я успел заметить, что глаза Христа погасли и стали обычными серебряными глазами серебряного распятия.
– Бросайте ружья! Быстро! – резко крикнул Усман, и стрельцы послушно выполнили команду. – Ты! – показал он на подпоручика. – Медленно достаешь пистолеты по одному и кидаешь на землю. Хорошо. А теперь все дружно слезаем с коней и начинаем разговаривать. Он подошел ко мне и спросил:
– Почему ты выстрелил?
Мы пообедали картофельной похлебкой, в которой плавали редкие кусочки лука и еще более редкие обрезки сала. На соли крестьяне явно экономили. Черный хлеб был черствым. Похоже, для почетных гостей с него срезали плесень. Но лучше такая еда, чем никакая.
После обеда Усман решил не ждать у моря погоды и ехать. Дед Тимофей сообщил, что ближайший город называется Подольск, до него два дня пути, причем не важно – пешком двигаться или на лошади, потому что крестьянские лошади путешествуют шагом и никак иначе. Бывают еще лошади барские, военные и почтовые. Они могут бежать рысью, но ближе Шарапова Яма их все равно не найдешь. Усман велел подготовить телегу и кучера, и Тимофей удивился, что почетные гости предпочитают путешествовать в телеге, а не верхом. Ему даже не пришло в голову, что мы ездить верхом попросту не умеем. Вдоволь наудивлявшись, Тимофей отдал необходимые распоряжения, и к крыльцу была подана хорошо знакомая нам телега в комплекте с белобрысым подростком Федькой в качестве кучера.
Когда мы собрались отъезжать, Тимофей упал на колени и нижайше просил не отбирать телегу и лошадь навсегда, а позволить Федьке вернуться домой. Усман милостиво согласился. Тимофей нижайше умолял поклясться, и Усман поклялся милосердным Аллахом. Дед Тимофей впал в прострацию. На этой ноте мы и покинули деревню Михайловку.
11
Федька явно боялся. Он старался не показывать свой страх, но боялся. Думаю, каждую минуту ему казалось, что страшные воины в пятнистой броне превратятся в каких-нибудь кощеев и в лучшем случае сожрут его живьем, а в худшем – растерзают грешную душу, не дав ей никаких шансов попасть в райские кущи или во что они тут верят. Кстати, не прояснить ли этот вопрос, ведь делать все равно нечего.
– Скажи мне, Федор, – начал я, – как был сотворен мир?
Федор испуганно шмыгнул носом, втянул голову еще глубже в плечи и ответил дрожащим голосом, которому безуспешно пытался придать взрослую сиплость:
– Бог сотворил мир за шесть дней.
– А откуда взялся первый человек?
– Хватит маяться дурью, – перебил меня Усман, – лучше посмотри вперед.
– Стрельцы, – жалобно выдохнул Федор. К нам приближался десяток всадников на более-менее приличных лошадях, судя по виду – из тех, что могут некоторое время бежать рысью, а потом не упадут замертво. Эти лошади напомнили мне тех, на которых в наше время ездят боевики по чеченским горам.
Униформа всадников была более чем оригинальна. Длинный стеганый кафтан с разрезами по бокам – для удобства верховой езды, высокая шапка с меховой оторочкой, вытертой у всех до состояния искусственного Чебурашки, галифе, высокие сапоги со шпорами – и все это цвета хаки. Камуфляж без пятен и разводов, однотонный – как во времена Великой Отечественной. И все-таки камуфляж. Из оружия наличествовали пять огромных ружей, сравнимых по габаритам только с тяжелыми снайперскими винтовками, и четыре тонкие пики с красными флажками, закрепленными около острия. Также стрельцы обладали саблями: у тех, кто с ружьями, сабли выглядели поменьше, у тех, кто с пиками, – побольше. Десятый всадник, очевидно командир, имел при себе саблю с трехцветным шнурком на эфесе, нехилую дубину, окованную на конце железными ребрами, два длинноствольных кремневых пистолета в специальных карманах на седле и бронежилет. Скорее всего, это был просто жестяной лист, обтянутый брезентом, но издали сооружение выглядело в точности как титановый десантный бронежилет.
Приблизившись метров на сто, всадники перестроились в шеренгу, и оказалось, что их не десять, а одиннадцать. Одиннадцатым был монах в сильно испачканной черной рясе. Его лицо заросло бородой по самые глаза, так что возраст нельзя было определить даже приблизительно. Монах не имел никакого оружия, кроме двух пистолетов в седельных карманах, но сдавалось мне, что эти пистолеты достались ему вместе с первым попавшимся седлом, выданным в спешке. Самой заметной деталью в облике монаха было гигантское распятие на груди, которое новые русские называют «крест с гимнастом».
Стрельцы развернулись в цепь, Федор попытался было пропищать «тпру-у», но был остановлен железной рукой Усмана, ласково похлопавшей его по спине.
– Не дрейфь, малец, – ободрил его Усман, – прорвемся.
Стрельцы с ружьями переместились на фланги, спешились и стали снимать с лошадиных спин железные треноги. Все правильно – только неисправимые оптимисты стреляют с руки из ружья такого размера. Далековато они спешились, на дистанции в сто метров попасть в человека из гладкоствольного ружья непросто даже с упора.
Командир и монах продолжали движение неспешной рысью, метрах в пяти за ними следовали стрельцы с пиками. Равнение они держали идеально. Я рассмотрел лицо командира – молодой, вряд ли старше двадцати трех, это окладистая борода придает ему более взрослый вид. Усман тяжело вздохнул и два раза щелкнул предохранителями, приведя в боевое состояние автомат и подствольник. Затвор он не передергивал – так делают только голливудские герои, нормальный человек загоняет патрон в патронник заранее.
Я повторил манипуляции Усмана. Мы переместились поближе к краям телеги, чтобы удобнее было спрыгнуть на землю, если понадобится. Не было сказано ни слова – нет необходимости сотрясать воздух: двум обстрелянным бойцам все понятно и так.
До всадников осталось метров двадцать, когда юный командир стрельцов поднял вверх левую руку. Лошади остановились, как духи-новобранцы по команде «стой, раз-два». Хорошая у них строевая подготовка.
Командир повернул руку ладонью к нам, и Федор натянул поводья, не дожидаясь приказа. Его и не последовало.
Практически синхронно мы с Усманом мягко спрыгнули с телеги и неспешно пошли навстречу стрельцам, держа автоматы в положении «на грудь». Ремни, впрочем, сняли с плеч – только самоубийцы в ближнем бою набрасывают автоматный ремень на шею.
– Кто такие? – спросил властным тенором главный, когда до нас осталось десять-пятнадцать шагов.
– А вы кто такие? – переспросил Усман. На лице главного стрельца отразился вовсе не гнев, как я ожидал, а удивление.
– Если ты еще не понял, мы – дорожная стража Крымского тракта, – сообщил он. – А ты кто такой?
– Разве дорожная стража не должна представляться? – спросил Усман.
– Командир второго взвода Подольской роты подпоручик Емельянов, – сообщил командир и сделал неопределенный жест булавой, который, должно быть, символизировал отдание чести. – В третий и последний раз спрашиваю, кто вы такие. Потом огонь на поражение.
– Я Усман ибн-Юсуф Абу Азиз эль-Аббаси, – отрекомендовался Усман. – А это мой друг Сергей… э-э-э…
– Иванов, – подсказал я.
– Мой друг Сергей Иванов, – закончил Усман.
– Ты чеченец?
– Араб.
– Не важно. Куда направляетесь?
– К вам. Мы ждали вас в Михайловке все утро, но вы так и не появились. Пришлось выехать навстречу.
На лице подпоручика Емельянова отразилась сложная гамма чувств. Он не понимал, что происходит, но подозревал, что над ним издеваются.
– Не советую стрелять, – произнес Усман с ласковой улыбкой на лице. – Мы тоже стреляем на поражение.
– Что это за пищали? – спросил подпоручик.
– АК-74, – честно ответил Усман. – Пусть вас не обманывает, что ствол у них тонкий и короткий. Они стреляют нисколько не хуже ваших.
– Зачем пугали людей на тракте? – Подпоручик решил подойти к проблеме с другого конца.
– Кто пугал? – как бы не понял Усман.
И это оказалось последней каплей, переполнившей терпение командира второго взвода.
– Бросай оружие! – заорал он. – Неподчинение карается расстрелом на месте! Считаю до трех. Раз, два…
На счет «два» тишину взорвали две автоматные очереди. Я стрелял под ноги стрельцам левого фланга, если смотреть с нашей стороны, Усман дал очередь поверх голов правого фланга. Подпоручик Емельянов явил миру глаза по пять копеек и открыл рот. Лошади стрельцов сдали полшага назад, испуганно прядая ушами. Федька полез под телегу, его лошадь заржала и попыталась отступить, но уперлась задом в передок телеги и остановилась.
Единственным, кто сохранил самообладание, был монах. Он поднял перед собой распятие и произнес густым басом, неожиданным для его тщедушного тела:
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа…
Глаза Иисуса Христа на распятии вспыхнули недобрым золотистым светом. Крест на моей груди изменился. Нельзя сказать, что он стал горячее или холоднее, легче или тяжелее, он просто как-то изменился. И его изменение послало в мой мозг четкий и недвусмысленный приказ, которого нельзя ослушаться, потому что иначе конец.
Я поднял ствол и сделал парный выстрел. Между двумя глазами монаха красным цветком расцвел третий. Редкостная удача! Очень трудно направить пулю в какую-то определенную часть тела противника, когда стреляешь навскидку. А вторая пуля усвистела куда-то далеко – это нормально, именно поэтому мы говорим «одиночный выстрел», а подразумеваем «парный».
Монах дернулся, как будто был марионеткой, которую резко потянули за веревочку откуда-то сверху. Он завалился на сторону и рухнул на землю, как мешок с чем-то мягким и неодушевленным. Я успел заметить, что глаза Христа погасли и стали обычными серебряными глазами серебряного распятия.
– Бросайте ружья! Быстро! – резко крикнул Усман, и стрельцы послушно выполнили команду. – Ты! – показал он на подпоручика. – Медленно достаешь пистолеты по одному и кидаешь на землю. Хорошо. А теперь все дружно слезаем с коней и начинаем разговаривать. Он подошел ко мне и спросил:
– Почему ты выстрелил?
Другие электронные книги автора Вадим Геннадьевич Проскурин
Дверь в полдень




 4.5
4.5
Грог и Миранда




 3.6
3.6